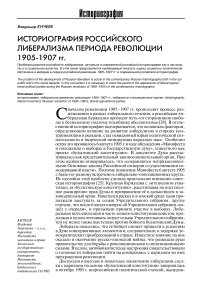Российская историография российского либерализма периода революции 1905-1907 гг
Автор: Кичеев Владимир Георгиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 5, 2009 года.
Бесплатный доступ
Проблема развития российского либерализма актуальна в современной российской историографии как в научном, так и в социальном аспектах. В этой связи представляется необходимым показать оценку социально-политической обстановки в империи в период российской революции 1905-1907 гг. в современной российской историографии
Историография, либеральное движение, революция 1905-1907 гг., либерально-оппозиционные партии
Короткий адрес: https://sciup.org/170164837
IDR: 170164837
Текст научной статьи Российская историография российского либерализма периода революции 1905-1907 гг
КИЧЕЕВ Владимир
Георгиевич – к.и.н., директор
Института экономики и права Хакасского государственного университета, докторант
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
С началом революции 1905–1907 гг. происходит процесс размежевания в рамках либерального течения, а российская либеральная буржуазия проходит путь «от сторонников свободы к безвольному подлому пособнику абсолютизма»[28]. В отечественной историографии подчеркивается, что основным фактором, определяющим влияние на развитие либерализма в сторону контрреволюции и реакции, стал невиданный взрыв политической сознательности и творческой инициативы народных масс. Особенно остро это проявилось 6 августа 1905 г. в ходе обсуждения «Манифеста и положения о выборах в Государственную думу», известного как проект «булыгинской конституции». В документе Дума рассматривалась как представительный законосовещательный орган. При этом особенно оговаривалось, что «сохраняются неприкосновенными Основные законы Российской империи о существовании самодержавной власти». Поэтому появление Манифеста 6 августа 1905 г. было по-разному встречено в либерально-оппозиционных кругах. Не случайно этой проблеме уделяла пристальное внимание советская историография [25]. Крупная буржуазия с энтузиазмом ухватилась за «булыгинскую конституцию», рассчитывая на постепенное расширение прав Думы и превращение её в дальнейшем в законодательный орган. Наметился раскол и в земской среде: одни продолжали выступать за созыв Учредительного собрания, другие считали, что после 6 августа вопрос об Учредительном собрании «сошёл с очереди», и призывали принять участие в выборах. Либеральная интеллигенция и часть земцев-конституционалистов, продолжая в целом отстаивать лозунг созыва Учредительного собрания, тем не менее также выступали против бойкота булыгинской Думы.
Либералы опасались, что её бойкот сможет привести к усилению в Думе консервативных элементов и, следовательно, к задержке демократических преобразований в стране. Известное влияние на них оказало и окончание русско-японской войны, что развязало руки правительству для борьбы с революционными и оппозиционными силами. В целом, антибойкотистские настроения свидетельствовали о готовности либералов пойти на компромисс с царизмом во имя прекращения революции.
Дискуссия о выгодах и невыгодах заключения либералами сделки с царизмом на основе «булыгинской конституции» завершилась в октябре 1905 г. всероссийской политической стачкой, вынудив- шей царя принять «Манифест об усовершенствовании государственного порядка», который был опубликован в качестве приложения к официальной газете «Правительственный вестник», в котором были обещаны политические свободы и законодательное представительство, а будущая Дума, созыв которой был провозглашён ещё в августе, наделялась законодательными правами вместо законосовещательных [35]. Наряду с Манифестом был опубликован и всеподданнейший доклад Витте с программой реформ [25, стр. 90– 94].
Представляется необходимым показать оценку социально-политической обстановки в империи в современной российской историографии, которая подчеркивает, что «общие политические лозунги, направленные на завоевание политических свобод, позиция монарха позволяли на этом этапе относительно бесконфликтно сосуществовать революционным и либеральным политическим силам» [39]. Важность этой оценки несомненна, так как это позволяет не только объективно охарактеризовать все идейно-политические разногласия о темпах, глубине и форме преобразований как второстепенные, но и выявить главную практическую задачу революционных и либеральных сил – сокрушение самодержавия. Революционеры в лице социал-демократов и эсеров активно поддерживали силовые способы давления на правительство, призывая к продолжению стачек, демонстраций, содействуя вооружённой борьбе. Либералы же всю свою энергию направили на формирование «сильного общественного мнения», способного оказать давление на власть, чтобы избежать крайностей как «справа», так и «слева». Сложившееся в октябре 1905 г. «равновесие сил» создало благоприятные условия для возникновения в России ряда либерально-оппозиционных партий. При этом среди российских либералов практически не было республиканцев, лишь очень немногие позволяли себе говорить о республике как об отдалённом идеале, но отнюдь не практической цели. В целом, с разной степенью откровенности либералы выступали за ограниченную конституционную монархию, мотивируя это, как, например, кадеты, отсутствием с формально-юридической точки зрения принципиальной разницы между нею и республикой. По определению В.И. Ленина, именно в 1905–1907 гг. буржуазия начала складываться в сознательную силу, а российский либерализм из «рыхлой и сырой оппозиции» стал открытым врагом революционно-демократических сил [29]. Возник ряд либеральных партий: Конституционно-демократическая партия (кадеты), Союз 17 октября (октябристы), партия «Без заглавия», Партия мирного обновления, Партия демократических реформ, Торгово-промышленная партия и др. Большинство из них не сложились в партии в полном смысле слова. На всём протяжении от 1905 до 1917 г. на политической арене России с разной степенью активности действовали лишь кадеты и октябристы. Хотя общественные организации либералов, рекрутировавших своих членов в либеральные партии и, особенно, в партию кадетов, остались, что также нашло отражение в дореволюционной историографии [22].
Таким образом, к началу 1906 г. все основные политические силы российской империи, организационно оформившись в политические партии страны, имели программу преобразования государственного строя России. Геополитическое положение России стало отправной точкой рассуждений идеологов и политиков о будущем страны. Поиском «формулы прогресса» для России были заняты все без исключения политические силы – от крайне радикальных до откровенно консервативных. Степень реальности многообразных представлений о путях дальнейшего развития страны находилась в прямой зависимости от трезвого анализа российской действительности, учёта конкретных особенностей той или иной сферы общественных отношений, а следовательно, и выявления тех социальных сил, которые способны поддержать вариант преобразований и обеспечить его реализацию в будущем.
Размышляя о судьбе страны, идеологи и политики России имели уникальную возможность обратиться к богатейшему историческому опыту, как российскому, так и зарубежному, не только в выборе пути развития, но и в определении набора средств для проведения преобразований. При всем многообразии партийных программ преобразований страны первостепенное значение приобрёл вопрос о наиболее эффективном средстве решения острейших вопросов жизни страны. 1906 г.
создал на некоторое время равные социально-экономические шансы как для реформаторов, так и для революционеров. Эта борьба по своей сути велась вокруг выбора пути для России. Поэтому не случайно реформаторы-либералы заговорили языком революционеров: ультиматумами к власти, негласной поддержкой стачечников и т.д. То есть, для них революция имела смысл только как политическая, но ни в коей мере не социальная.
Причины возникновения и процесс оформления либеральных партий получил достаточно ёмкое освещение в отечественной историографии, что позволило более определённо судить о численном и социальном составе политических партий, эволюции их идейных позиций и тактики, об опыте парламентской деятельности [44, 43, 47, 24, 19].
Сложившийся либеральный лагерь действовал на политической арене двумя флангами. Правый фланг занимала партия октябристов, левый – партия кадетов. Хотя эти партии ратовали за буржуазное развитие страны и выступали против пережитков крепостничества, но они по-разному оценивали допустимые пределы таких перемен. Всё это находит отражение в советской историографии, хотя она лишь фрагментарно рассматривает вопросы, посвященные анализу общественно-политических и государственно-правовых взглядов видных деятелей либерального движения, истории отечественного либерализма; а также в появившихся в последнее время исследованиях концептуального характера, предлагающих системный анализ либеральной модели переустройства России либо конституционализма как явления мирового и российского исторического процесса [37, 10, 23, 36, 48].
Не случайно этой проблеме в конце 80-х гг. начала уделять внимание как советская [1, 2, 3, 13, 16], так и зарубежная историография [40].
Традиция изучения истории либеральнооппозиционного движения в начале ХХ в. на современном этапе развития исторической науки была продолжена. Причём проблема получает самостоятельное звучание в трудах и диссертационных сочинениях В.В. Шелохаева, А.А. Алафаева, В.А. Алексеева и М.А. Маслина, С.С. Се-киринского, В.Н. Селецкого, Д.А. Андреева, Р.А. Арсланова, В.В. Блохина,
Э. Вишневски, Ворсиной О.Б., И.В. Емелькиной, И.Н. Ермолаева, В.Н. Люсева, В.В. Леонтовича, Ю. Пивоварова [49, 48, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 21].
В рамках системного изучения проблемы она находит специальное освещение и в региональной историографии [45, 46, 51,17, 34, 4, 14, 15, 18, 20, 33, 32, 38].
В организационном отношении кадеты и октябристы отличались от радикальносоциалистических партий и по своему устройству были ближе к типу «партия-клуб». Об этом свидетельствуют система приёма в либеральные партии и выхода из них (как правило, для этого было достаточно устного заявления), требования к членству (уставы октябристов и кадетов не оговаривали обязанности своих членов), широкие права партийных комитетов различных уровней по пополнению своих составов путем кооптации (у кадетов) или даже по выработке собственных программ и уставов (у октябристов), наконец, широко практиковавшийся в «Союзе 17 октября» и официально закреплённый его уставом порядок параллельного членства в других партиях.
Что касается характеристики классовой природы основных буржуазных партий либерального толка в России, то она содержатся, прежде всего, в работах В.И. Ленина. Он писал: «Типичный октябрист – не буржуазный интеллигент, а крупный буржуа. Он не идеолог буржуазного общества, а его непосредственный хозяин. Заинтересованный самым непосредственным образом в капиталистической эксплуатации, он презирает всякую теорию, плюёт на интеллигенцию, отбрасывает всякие, свойственные кадетам, претензии на демократию» [27, 30, 31]. Что касается социальной базы партии кадетов, то это крупная «цензовая» буржуазия, интеллигенция, городская мелкая буржуазия, либеральные помещики, которые отличались своей неоднородностью и внутренней противоречивостью. Между тем кадеты отражали интересы буржуазии, понятые ими более широко и разносторонне. «Не связанная с каким-либо одним определённым классом буржуазного общества, но вполне буржуазная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам, эта партия колеблется между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной буржуазии» [26], – характеризовал кадетов В.И. Ленин.
Оба варианта отличались друг от друга определённой глубиной и темпами преобразований, но служили, в конечном счёте, одной цели – утверждению в России гражданского общества, правового государства, формированию рыночных отношений. Они были кровно заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии и совершенствовании капиталистической системы. Именно на это были направлены их программы, исходной посылкой которых была идея постепенного реформирования, а не насильственного слома старой политической системы.
Политическим идеалом либералов было разделение государственной власти на три части. Одна часть оставалась за монархом, другая – передавалась представителям помещиков и буржуазии, получавшим в свои руки верхнюю палату, избранную на основе двухстепенных выборов и ценза оседлости. И наконец, третья часть власти уступалась народу, избиравшему на основе всеобщего избирательного права нижнюю палату. Кроме того, либералы добивались реформирования местного самоуправления и суда. Основным водоразделом между кадетами и октябристами стал принцип государственности. Октябристы полагали, что сплотить народы России способно лишь царское правительство, и потому выступали против «всяких автономий действительных и скрытых» (за исключением Финляндии). Кадеты же полагались на интегрирующую силу интернационального российского капитала [37, стр. 92].
Таким образом, после Манифеста 17 октября и кадеты, и октябристы видели выход в заключении сделки с монархией за счёт и за спиной революционного народа, и поворот российского либерализма к контрреволюции являлся вполне закономерным явлением, отразившим «переход класса на соответствующую его экономическим интересам контрреволюционную позицию», а переговоры кадетов и октябристов с царизмом объективно способствовали укреплению старой власти.
Специальное изучение вопросов, связанных с характеристикой либеральной парадигмы, позволяет современной историографии на основании программных положений и тактических установок октябристских и кадетских организаций, а также достижений отечественной историографии рассмотреть самостоятельно историографию составляющих россий- ского либерализма начала ХХ в.: либералов справа – октябристов и либералов слева – кадетов.