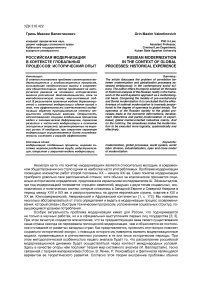Российская модернизация в контексте глобальных процессов: исторический опыт
Автор: Гринь Максим Валентинович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 17, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье поставлена проблема соотношения модернизационных и глобализационных процессов, вызывающая неоднозначные оценки в современном обществознании. Автор предлагает ее эмпирическое решение на основании исторического анализа российской действительности, взяв за методологическую основу мир-системный подход. В результате сравнения модели дореволюционной и советской модернизации сделан вывод о том, что эффективность отечественной модернизации обратно пропорциональна степени открытости глобальным веяниям. Открытость отечественного социума глобальным процессам ведет к экономическим деформациям, перекосам развития и частичной модернизации в основном экспортных отраслей, ориентированных на мировой рынок. И наоборот: при закрытом характере модернизация осуществляется более последовательно, системно и гораздо эффективнее.
Модернизация, глобальные процессы, мировая система, мировое разделение труда, индустриализация, открытая и закрытая модель модернизации
Короткий адрес: https://sciup.org/14937471
IDR: 14937471 | УДК: 316.422
Текст научной статьи Российская модернизация в контексте глобальных процессов: исторический опыт
Несмотря на то что понятие «модернизация» является относительно молодым, в современном обществознании оно стало одним из наиболее часто употребляемых. Проблеме модернизации посвящено множество работ второй половины XX – начала XXI вв. Само понятие модернизации приобрело довольно-таки расплывчатый оттенок, хотя обычно за классическое признается социально-историческое определение, предложенное израильским исследователем Ш. Эйзенштадтом, где под модернизацией понимается «процесс изменений, ведущих к двум типам социальных, экономических и политических систем, которые сложились в Западной Европе и Северной Америке в период между XVII и XIX вв. и распространились на другие европейские страны, охватив в XIX и XX вв. Южноамериканский, Американский и Африканский континенты» [1, с. 172]. Мы намерены несколько абстрагироваться от этого определения и видеть в модернизации процесс осовременивания, который связан с быстрым техническим прогрессом, усложнением социальных структур, повышающимся уровнем потребления.
Особую актуальность проблема модернизации имеет для России, что подчеркивается не только в научных работах, но и в официальных выступлениях первых лиц государства [2; 3]. При этом зачастую создается впечатление, что за предшествующие века своего существования наша страна никогда не переживала полноценной модернизации, чем и объясняется ее постоянное отставание от развитых западных стран. Как представляется, прояснить этот вопрос поможет социально-исторический экскурс, с помощью которого мы намерены выявить модернизационные модели, применявшиеся в отечественных условиях в те или иные исторические периоды. При этом методологической особенностью нашего анализа будет то, что рассмотрение российской модернизационной динамики будет осуществляться через контекст международных условий. Здесь в качестве опоры нам послужит теория мир-системного анализа (И. Валлерстайн), тесно связанная с теорией империализма (Гобсон, В. Ленин, Р. Люксембург) и фактически являющаяся вариантом ее теоретического развития. Согласно этой теории внутренние проблемы обычно тесно связаны с внешним контекстом, что недооценивается многими другими подходами. Специфика той или иной страны во многом определяется ее статусом в мировой системе.
Как считает известный отечественный сторонник мир-системного анализа Б.Ю. Кагарлицкий, российская модернизация связана именно с внешними периферийными позициями, которые время от времени руководство страны стремится покинуть и не всегда безуспешно. Проблема заключалась в том, что с развитием капитализма в европейских странах Россия включилась в сферу действия мирового рынка именно на правах периферии, что предопределило ее техникотехнологическое отставание и сырьевую направленность экономики. Основным экспортируемым товаром стало зерно (хлеб), который в достаточном количестве производился крепостным хозяйством. Хотя, по сути дела принимая активное участие в складывающемся мировом капиталистическом хозяйстве, русская деревня жила отнюдь не по принципам капитализма. Крепостничество и самодержавие, по мнению названного исследователя, потому и имеют такую продолжительную историю в России, что являлись не столько устаревшими патриархальными институтами, сколько побочными продуктами капиталистической модернизации европейских стран. Отмена крепостного права могла затормозить экспорт зерна и поставить под угрозу позиции России в мир-си-стеме как основного поставщика хлеба.
Именно спецификой мир-системных позиций Российской империи Б. Кагарлицкий объясняет ряд противоречий отечественной истории дореволюционного периода . Будучи весьма значимой европейской державой со времен Петра I, Россия располагала отсталой сырьевой экономикой [4, с. 211–212]. Навязываемая традиционному обществу усилиями небольшой вестернизированной верхушки политическая система могла быть только авторитарной. По мнению Б. Кагарлицкого, дело было не только в отсутствии свободолюбия в отечественной культурной традиции, как это свойственно считать многим либерально ориентированным обществоведам (А. Ахие-зер, С. Гавров, И. Дискин). С одной стороны, в стране отсутствовали организованные структуры гражданского общества, в силу чего «Россия не раз завоевывала свободу, но никогда не могла закрепить ее». С другой стороны, сама логика макроэкономического взаимодействия между Россией и миросистемой вела к утверждению и закреплению авторитарного характера власти, «не только в государстве, но и в обществе». Ведь с самого начала основную роль в формировании российского капитализма «играет именно государство, обслуживающее в первую очередь потребности мирового, а не внутреннего рынка» [5, с. 235–236].
Жесткие формы эксплуатации крепостных крестьян сделали Россию крупнейшим поставщиком аграрных товаров, сырья и полуфабрикатов, и основная доля отечественного экспорта приходилась на передовые капиталистические страны – Англию и Голландию. Экспорт продовольствия (преимущественно зерна) осуществлялся российскими правящими кругами на протяжении всего императорского периода отечественной истории (XVIII – начало XX вв.) без особой оглядки на внутренние социально-экономические проблемы. Как пишет в своей книге «Царская Россия: мифы и реальность» российско-канадский ученый Олег Арин, безжалостный вывоз зерна имел целью добиться сбалансированного бюджета. «Даже в голодный год 15 % урожая зерна могло быть экспортировано. Министров финансов И.А. Вышнеградский в то время говорил: “Мы должны экспортировать, даже если мы умрем”. Русские крестьяне делали и то, и другое» [6, с. 47]. Английские социалисты, стоявшие у истоков Фабианского движения, Сидней и Беатриса Вебб, изучая социальноэкономическое положение российских крестьян на рубеже XIX–XX столетий, пришли к выводу, что они жили приблизительно так, как французские и фламандские крестьяне XIV в.
Пиком отечественной дореволюционной модернизации принято считать конец XIX и начало XX столетий, когда имели место значительные темпы промышленного роста. За период с 1892 по 1899 гг. общий прирост промышленного продукта составил 73 % [7, с. 490]. Во многом названные успехи промышленного развития были результатом сложившейся внешней конъюнктуры. В то время западные страны переживали кризис перенакопления, размещая свободные финансовые средства в периферийных странах, где возможно было получить значительно более высокие дивиденды. Министр финансов С.Ю. Витте вел политику активного привлечения иностранных инвестиций, что, с одной стороны, несомненно служило стимулом развития российской промышленности, но, с другой, порождало определенные издержки.
Во-первых, размещаемые в российской экономике иностранные капиталы кое в чем препятствовали ее комплексному и последовательному развитию. Имеет смысл обратить внимание на бум железнодорожного строительства в последние десятилетия XIX в. С 1870 по 1880 гг. сеть отечественных железных дорог выросла более чем в два раза – с 10 090 до 21 236 верст. Еще большие темпы наблюдались в заключительные 10 лет XIX столетия – с 27 238 до 48 565 верст. Строительство железных дорог стимулировало подъем и других отраслей, в том числе вырос спрос на металлургические и другие изделия. Но проблема заключалась в том, что европейская буржуазия давала деньги на строительство тех линий, которые удовлетворяли не столько российские потребности, сколько их собственные национальные интересы. Так, занимающий ведущие позиции в России французский капитал шел на строительство стратегических линий для переброски войск на случай войны с Германией. Отсюда, как отмечал советский экономист И. Вавилин, царское правительство объективно и не могло иметь четкого плана железнодорожного строительства, поскольку в финансовом плане зависело от зарубежных инвесторов и, соответственно, было вынуждено считаться с их мнением [8, с. 359].
Во-вторых, прибыли, получаемые от размещения иностранных инвестиций, вывозились из России, обслуживая процессы накопления капитала во Франции и других западных странах. Закономерно росли долги государства, в результате чего усиливалось налоговое давление на слои населения. Кроме того, большинство историков отмечают возраставшую зависимость России от иностранного капитала в первые годы ХХ столетия, хотя отечественные предприниматели и пытались конкурировать со своими зарубежными коллегами, что не всегда было безуспешно. Если брать размеры акционерных капиталов в России за 1912 г., то русские вклады составляли 371,2 млн руб., тогда как иностранные несколько больше – 401,3 млн руб. С точки зрения масштабов ввозимого в Россию капитала лидерство принадлежало Франции, затем следовала Англия, потом Германия, Бельгия, США и т. д. Приоритетными отраслями для французской буржуазии были тяжелая промышленность и кредитная система. Наконец, Франция была главным кредитором России по государственным займам [9, с. 40].
Экономическая зависимость России перерослa в частичную потерю политической самостоятельности. Вступление Российской империи в Первую мировую войну на стороне Антанты объясняется не столько геополитическими и геостратегическими противоречиями даже не с Германией, а с ее партнерами – Турцией и Австро-Венгрией, сколько зависимостью России от Франции и Англии, которая значительно усилилась в годы войны.
Естественно, что периферийная страна не могла быть передовой в плане степени развития образовательной сферы, что подтверждается данными о размерах сумм, выделенных бюджетом на образование [10, с. 27]. Устойчивый рост явно заметен во второй половине столетия, что, по всей видимости, связано с реформами Александра Второго, хотя расходы на просвещение оставались за этот период в рамках одной и той же процентной доли бюджета, колеблясь от 2,1 до 2,6 %. Это резко контрастирует с долями бюджета, выделяемыми военному министерству, – от 20,7 до 30,1 %, что наглядно иллюстрирует политические приоритеты российского самодержавия. Резкое увеличение государственных расходов на образование следует констатировать с 1900 по 1913 гг., когда доля бюджета выросла более чем в два раза – с 2,1 до 4,6 %. Следует предположить, что этому поспособствовала индустриализация страны, проводимая при активном участии иностранных капиталов, – увеличилась потребность в квалифицированных специалистах.
Если сравнить ситуацию с образованием в России и в индустриально продвинутых странах того периода, то можно прийти к выводу, что наша страна отставала буквально на несколько порядков, что вполне вписывается в типичные различия «центра» и «периферии». Так, на начало XX в. около 30 % населения Российской империи было грамотно, тогда как в основных государствах Европы и Америки этот показатель составлял приблизительно 90 % [11, с. 68].
Этот же автор указывает другие данные, касающиеся физиологических аспектов человеческого капитала. В 1913 г. продолжительность жизни составляла: в Великобритании – 52 года, Японии – 51, Франции – 50, США – 50, Германии – 49, Италии – 47, Китае – 30, Индии – 23, России – 30,5 лет. Подобная ситуация вполне объяснима, если обратить внимание на обеспеченность населения медицинскими специалистами. Так, на 1 млн россиян в эти годы приходилось 155 врачей, тогда как в Норвегии и Австрии (имеющих худшие показатели после России) приходилось уже 275 врачей, а в Англии – 578 врачей [12, с. 69].
Таким образом, можно согласиться с мнением М. Корта, констатировавшего, что определенный прогресс России в два последних предреволюционных десятилетия так и не вывел ее на положение развитой индустриальной державы. Россия оставалась «в значительной степени аграрной крестьянской страной», намного уступая своим западноевропейским соперникам. Несмотря на то что Россия «была политически независима, ее экономические отношения с Западной Европой были классическим колониальным типом. Россия служила Европе как рынок промышленных товаров и источник сырья» [13, с. 54]. Оборотной стороной подобной модели развития была усиливающаяся социальная напряженность и конфликтогенность, что вылилось в начале ХХ столетия в две русские революции, вторая из которых положила конец самодержавию, дав начало принципиально иному общественному строю, взявшему на вооружение иную модель модернизации.
Советская модернизация вызывает весьма неоднозначные оценки, которые весьма привязаны к политико-философским (идеологическим) позициям тех или иных авторов. Так, приверженцы либерализма, коих немало в отечественном обществознании, либо фактически отвергают само явление советской модернизации (Е. Гайдар), либо придают ей искаженный смысл, считая, что колоссальные издержки не покрыли достигнутых результатов. Например, Сергей Гавров пишет: «Это было наращивание “материального тела” модерности, приобретающего непропорциональные, уродливые формы, когда огромная “голова” военной промышленности покоилась на рахитичном и маленьком и слабом “теле” гражданских отраслей экономики. Созданная система могла быть относительно эффективной лишь в условиях военного или предвоенного времени, в условиях мобилизации всех сил общества на очередном участке прорыва, но не могла выдержать бег на марафонскую дистанцию в состязании с развитыми государствами модерности» [14, с. 37]. По мнению этого исследователя, главная проблема заключалась в том, что в СССР не имела место определенная «форма организации социокультуры», которая и порождает материальную модернизацию.
Подобная позиция понятна с идеологической точки зрения, но вызывает определенные научные возражения. Ряд примеров свидетельствует о том, что внедрение западных культурных стандартов (с точки зрения С. Гаврова – базы органической модернизации) не только не обеспечило модернизационного рывка, но и поставило здесь определенные преграды. Похожим образом развивались события в некоторых африканских странах, а также в постсоветской России начала 90-х гг. Наконец, имеют место случаи, когда успешная модернизация осуществлялась без коренных социокультурных преобразований в либеральном духе. Речь идет прежде всего о Китае. То есть мировая практика модернизации заставляет предположить, что оптимальным является выбор собственной модели модернизации, осуществляемый на базе своей национальной культуры и идентичности (В. Федотова) и под воздействием определенных условий.
Советское руководство с момента утверждения своей власти видело задачей построение социализма именно через модернизацию, причем во многом основанную на западном, прежде всего технологическом, опыте. Кроме того, со свойственной им практичностью большевистские лидеры постарались воспользоваться моментом, приняв во внимание то обстоятельство, что в условиях Первой мировой войны миросистема была дезорганизована. Фактически СССР уже в 20-х гг. отказался вернуться на прежнее место в миросистеме, хотя полностью не вырвался из нее (по сути дела, это была почти нереальная задача). Отмена большевиками царских долгов имела двоякие последствия: с одной стороны, выключила страну из процесса глобального накопления капитала, с другой – закрывала советской экономике возможности кредитов. Выше уже говорилось о том, что иностранные инвестиции и займы имели довольно-таки неоднозначные последствия для отечественной модернизации, а поэтому вызывает сомнение утверждение некоторых историков по поводу того, что условия для осуществления индустриализации в конце 1920-х гг. были хуже, чем на рубеже XIX–XX вв. [15, с. 900].
Кроме того, в критериях успешного развития качественный элемент все более преобладает над количественным. Другими словами, большую роль играет не количество заводов, но применяемые на них технологии. В этом плане Великобритания, оставаясь на протяжении XIX столетия «мастерской мира», в начале следующего века утрачивает свою гегемонию, проигрывая технологическую конкуренцию США. Наконец, сама геополитическая обстановка также выступила фактором, стимулировавшим высокие темпы индустриализации. Речь идет об угрозе войны, что полностью подтвердили дальнейшие события.
Взятая советским обществом на вооружение модель модернизации неслучайно получила красочное название «большого скачка». Эта модель предполагала в экономике – форсированную индустриализацию за счет резких увеличений промышленных объемов, по возможности без импортной техники; в социально-политической сфере – ликвидацию враждебных классовых групп, мобилизацию населения на труд, что не могло произойти без существенного усиления властной вертикали и ужесточения управленческих методов. Это обстоятельство, по мнению некоторых авторитетных исследователей (Б. Кагарлицкий), обусловило появление советского тоталитаризма, характерные черты которого сложились к середине 30-х гг.
Поначалу советское правительство не могло обойтись без закупок иностранной техники и в 20-е гг. делало ставку на это, получая валюту от продажи зерна. Данный период воспроизводил некоторые черты дореволюционной внешнеэкономической политики. Будучи основным экспортным товаром, зерно тем не менее не покрывало всех потребностей в валюте, необходимой для закупки оборудования. На экспорт шло практически все – «от золота, нефти и мехов до картин Эрмитажа». Что касается импорта, то здесь до 90 % составляли средства производства, и не случайно в 1931 г. СССР импортировал треть всего мирового экспорта оборудования и ма- шин, заняв здесь первое место [16, с. 436]. Показательно, что основным поставщиком оборудования в СССР оказалась не Великобритания (главный импортер советских товаров), а США, что имело определенные положительные последствия, так как именно американская техника была передовой и наиболее технически продвинутой.
В то же время создавались предпосылки для изменения этой ситуации. С одной стороны, руководство страны сделало ставку на расширение институтов высшего образования для пополнения советской экономики квалифицированными кадрами (количество вузов за период с 1927 по 1940 гг. возросло в четыре раза) [17]. С другой стороны, сельские жители из разоряющихся деревень перебирались в города, тем самым увеличивая базу необходимых промышленности людских ресурсов. В течение первой пятилетки (1928–1932) вторичный сектор отечественной экономики пополнился 12,5 млн новых рабочих, из которых 8 млн составляли бывшие деревенские жители [18, с. 902].
Кроме того, в конце 20-х гг. сложился комплекс внешних и внутренних обстоятельств, предопределивших как экономические, так и политические изменения в модернизационных процессах советского социума. Так, внутренняя социально-экономическая ситуация ознаменовалась кризисом политики двойных «ножниц» цен: между высокой зарплатой и низкой производительностью труда рабочих, между высокими ценами на промышленную продукцию и низкими на аграрную. На частном рынке происходит стремительный рост цен на хлеб, которые в 1928 г. превышали закупочные цены на 202 %. Однако на международном рынке зерно, наоборот, быстро дешевело. Тем самым «ножницы» начинали срабатывать в обратную сторону. Западные страны приближались к началу большой депрессии, что неизбежно снижало цены на зерно. «Падение мировых цен, сопровождавшееся ростом внутренних цен на хлеб, при одновременном сокращении экспорта в совокупности создавали критическую ситуацию. Программа индустриализации оказалась под угрозой провала» [19, с. 424].
Сталинское руководство нашло выход в еще большем усилении давления на деревню, предприняв радикальные шаги в виде сплошной коллективизации и параллельно идущего раскулачивания. Это давало практически полный контроль над продовольственным рынком, кроме того, одновременно решало проблемы усиливающегося классового противостояния в отечественной деревне в условиях НЭПа. Дело в том, что бедняцкие слои составляли 35–40 % сельского населения и их положение в целом последовательно ухудшалось в 20-е гг., что, в частности, прекрасно выразил крестьянский писатель А. Веселый в своей книге «Босая правда». 60 % сельскохозяйственных наемных рабочих вообще не располагали посевными площадями, у 89 % не было тяглового скота, а около трети были лишены даже коров [20, с. 155–158]. Кроме того, более обеспеченные группы российского крестьянства стремились к экономическому лидерству присовокупить и политико-административное. Как пишет С.Г. Кара-Мурза, проведенная в 1924 г. либерализация избирательного права была в полной мере использована кулаками как наиболее организованной и обладающей средствами категорией крестьян. В ходе выборов в местные Советы в 1925 г. доля безлошадных крестьян среди депутатов упала до 4 % [21, с. 477]. Тем самым политика «Великого перелома» имела очень существенный политико-идеологический подтекст, связанный с реальной практикой. Раскулачивание, с одной стороны, содействовало распространению уравнительной справедливости, с другой – давало дополнительные средства путем реквизиций и ликвидации кулацких хозяйств. Результат подобной политики был более чем печальным для многих активных представителей отечественной деревни – более миллиона (по официальным данным) раскулаченных высылались в места, малопригодные для жизни.
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг., поставивший новые трудности перед советской экономикой, дал определенный стимул политике замещения импорта отечественным производством. Это дало дополнительный толчок развитию химической промышленности, что позволило отказаться от импорта кислот, синтетического каучука, удобрений, красителей. Затем настал черед технических средств.
Согласно планам Первой пятилетки (1928–1933) основной упор был сделан на тяжелую промышленность. Было завершено около 50–60 гигантских строек (Днепрогэс, Магнитогорский, Кузнецкий, Запорожский металлургические комбинаты, Сталинградский тракторный завод, Московский и Горьковский автозаводы, Уралмаш и др.). На долю их пришлось 45 % всех капиталовложений [22, с. 901]. При этом заметном прогрессе в целом рентабельность предприятий была низкой, что потребовало сосредоточения средств у государства и перераспределения их через государственный бюджет. Прибылью предприятия не могли распоряжаться, перечисляя ее в бюджет. Оптовой торговли между предприятиями фактически не существовало.
И все же запуск новых производственных мощностей, подъем высшего образования стали давать быстрый результат. Создавались новые промышленные отрасли, причем на базе пере- довых фордистских технологий – автомобилестроение, тракторостроение, химическая промышленность. Начиная с 1932 г. импорт машин сокращается, заменяясь отечественными образцами. В конце 1930-х гг. общий объем советского импорта упал до 1 % [23, с. 904], фактически прекратился ввоз сельскохозяйственной техники, черных металлов. Об успешном процессе индустриализации, причем уже в довоенное время, свидетельствуют данные таблицы 1. С конца 20-х и до конца 30-х гг. доля СССР в мировом промышленном производстве выросла почти в 3,5 раза. Одновременно количественные параметры городского населения выросли в промежуток с 1928 по 1940 гг. более чем в два раза – с 29 млн до 63 млн соответственно. За десятилетие (1928–1937) в 2,5 раза выросло число промышленных рабочих [24].
Таблица 1 - Распределение промышленного производства в мире, % [25, с. 411]
|
Годы |
США |
Германия |
Англия |
Франция |
СССР |
Япония |
Индия |
Остальной мир |
Мир |
|
1926– 1929 |
42,2 |
11,6 |
9,4 |
6,6 |
4,3 |
2,5 |
1,2 |
22,2 |
100 |
|
1936– 1938 |
32,3 |
10,7 |
9,2 |
4,5 |
18,3 |
3,5 |
1,4 |
20,0 |
100 |
Таким образом задачи, поставленные на первом этапе существования СССР, были в целом успешно решены – завершена индустриализация, обеспечена всеобщая грамотность населения, создана передовая система образования и науки. Высшей точкой советского успеха специалисты считают Победу в Великой Отечественной войне, что принесло СССР статус мировой державы. Более успешные результаты советской модернизации по сравнению с модернизацией царского периода (конца XIX – XX вв.) признает даже ряд либерально ориентированных исследователей [26, с. 67].
Эскалация международного напряжения практически сразу после окончания мировой войны стимулировала советское руководство к созданию блока политически зависимых стран, которых пытались интегрировать в единое экономическое пространство. В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи – торговая организация СССР и его союзников, а в 1955 г. получил окончательное оформление военный блок – Варшавский договор. Другими словами, создавалось что-то вроде «альтернативной миросистемы».
Тем не менее впечатляющие успехи советской модернизации во второй половине XX в. обозначили новую проблематику, оказавшуюся неразрешимой для постсталинского руководства. Б. Кагарлицкий справедливо констатирует, что СССР парадоксально стал жертвой собственного успешного развития. Закономерно, что в результате индустриализации и сопровождавшей ее урбанизации произошло расширение спроса на предметы потребления, который плохо удовлетворялся из-за слабого внимания к развитию легкой промышленности. Косыгинская реформа 60–70-х гг., имевшая своей целью оживить экономику за счет внедрения рыночных элементов, а также децентрализации, фактически провалилась не столько по идеологическим, сколько по политическим причинам, поскольку номенклатура не желала упускать тотального контроля народного хозяйства. Наконец, во многом в результате XX съезда партии были подвергнуты сомнению идеологические основы советского строя.
Начиная с 60-х гг. стали неуклонно снижаться темпы экономического роста, приближая продолжительную по времени эпоху «застоя», сыгравшую роковую роль в судьбе советского режима. Перебои экономического развития аукнулись социальной проблематикой (события в Новочеркасске 1962 г., продовольственный дефицит 70–80-х гг.). В то же время в сложившейся в начале 1970-х гг. мировой ситуации советское руководство увидело альтернативные возможности стимулирования отечественной экономики, приняв на вооружение «стратегию компенсации». Подъем цен на нефть, а также наличие свободных финансовых средств (как в конце XIX в., чем воспользовался С. Витте) позволили получить средства от торговли сырьем (преимущественно энергоносителями), а также выгодные кредиты.
Таким образом, советская экономика стала открываться для мирового рынка, по сути дела отказавшись от закрытости сталинской эпохи (внешнеторговый оборот в первой половине 70-х гг. вырос более чем в 2 раза). Новая внешнеэкономическая стратегия существенно поменяла структуру импорта и экспорта. С 1970 по 1987 гг. доля машинного оборудования в отечественном экспорте снизилась с 21,5 до 15,5 %, тогда как вывоз топливных ресурсов за тот же промежуток возрос в 3 раза – с 15,6 до 46,5 % соответственно. В структуре импорта стала быстро расти доля оборудования, достигнув к 1987 г. 41,4 % [27, с. 467]. И неслучайно в производстве опять стали ориентироваться на зарубежные, а не отечественные технологии, что присуще периферийной стране с сырьевой ориентацией.
Стратегия компенсации закономерно предполагала перераспределение средств за счет наукоемких отраслей, обрабатывающей промышленности в пользу топливно-сырьевого комплекса, о чем с тревогой писали советские экономисты И.С. Баграмян, А.Ф. Шакай в начале 80-х гг. [28, с. 76]. В перспективе это означало последовательное возвращение «в систему международного разделения труда на то самое место, которое некогда занимала дореволюционная Россия» [29, с. 472–473].
На основании вышеизложенного материала считаем уместным привести следующие заключительные соображения.
В силу исторических обстоятельств, определивших культурно-цивилизационный путь развития России, в нашей стране доминировал догоняющий вариант модернизации, который предполагает решающее значение целей и намерений политического руководства. В различные исторические периоды применялись различные модели модернизационного развития с принципиально различным результатом. Как мы полагаем, большую, если не решающую роль здесь сыграл фактор взаимодействия отечественной модернизации с глобальными процессами, а именно степень открытости российской экономики влияниям и правилам игры мировой системы.
Сравнение результатов дореволюционной и советской модернизации дает основание утверждать, что эффективность отечественной модернизации обратно пропорциональна степени открытости глобальным веяниям. Мы солидаризируемся с Б. Кагарлицким, который считает, что международная кооперация оказывает не столько стимулирующее, сколько разлагающее воздействие на советскую экономику и общество, тогда как закрытый вариант развития стимулирует внутренний модернизационный потенциал экономического роста [30, с. 371]. Именно закрытая модель национальной модернизации, принятая на вооружение сталинским руководством, умело воспользовавшимся кризисом мировой системы в годы Великой депрессии, предопределила ее успех, хотя и весьма дорогой ценой. Большая открытость глобальным процессам обычно приводит к частичной модернизации в первую очередь отраслей, ориентированных на мировой рынок, что имеет ряд существенных социально-экономических и социально-политических издержек.
Ссылки:
-
1. Цит. по: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
-
2. Дмитрий Медведев: Россия, вперед! [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazeta.ru/com-
ments/2009/09/10_a_3258568.shtml (дата обращения: 09.09.2015).
-
3. Сурков В.Ю. Национализация будущего [Электронный ресурс]. URL: http://viktor321.ucoz.ru/news/2 007-06-20-181 (дата обращения: 09.09.2015).
-
4. Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2003.
-
5. Там же. С. 235–236.
-
6. Арин О.А. Царская Россия: мифы и реальность. М., 1999.
-
7. Струмилин С.Г. Очерки по истории экономики России. М., 1960.
-
8. Кагарлицкий Б.Ю. Указ. соч. С. 359.
-
9. Арин О.А. Царская Россия … С. 40.
-
10. Там же. С.27.
-
11. Там же. С.68.
-
12. Там же. С.69.
-
13. Там же. С.54.
-
14. Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит М., 2010.
-
15. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология : в 15 т. Т. 4. Общество: статика и динамика. М., 2004. 16. Кагарлицкий Б.Ю. Указ. соч. С. 436.
-
17. Ханин Г.И. Высшее образование и российское общество [Электронный ресурс] // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2008. № 8–9. URL: www.econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/ (дата обращения: 17.06.2015).
-
18. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Указ. соч. С. 902.
-
19. Кагарлицкий Б.Ю. Указ. соч. С. 424.
-
20. Белади Л., Краус Т. Сталин. М., 1989.
-
21. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой Победы. М., 2002.
-
22. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Указ. соч. С. 901.
-
23. Там же. С. 904.
-
24. Там же.
-
25. Арин О.А. Мир без России. М., 2002.
-
26. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30–40-е годы. М., 1989.
-
27. Кагарлицкий Б.Ю. Указ. соч. С. 467.
-
28. Баграмян И.С., Шакай А.Ф. Контракт века. М., 1984.
-
29. Кагарлицкий Б.Ю. Указ. соч. С. 472–473.
-
30. Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России. М., 2003.
Список литературы Российская модернизация в контексте глобальных процессов: исторический опыт
- Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
- Дмитрий Медведев: Россия, вперед! . URL: http://www.gazeta.ru/com-ments/2009/09/10_a_3258568.shtml (дата обращения: 09.09.2015).
- Сурков В.Ю. Национализация будущего . URL: http://viktor321.ucoz.ru/news/2007-06-20-181 (дата обращения: 09.09.2015).
- Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2003.
- Арин О.А. Царская Россия: мифы и реальность. М., 1999.
- Струмилин С.Г. Очерки по истории экономики России. М., 1960.
- Арин О.А. Царская Россия.. С. 40.
- Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит М., 2010.
- Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: в 15 т. Т. 4. Общество: статика и динамика. М., 2004.
- Ханин Г.И. Высшее образование и российское общество //ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2008. № 8-9. URL: www.econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/(дата обращения: 17.06.2015).
- Белади Л., Краус Т. Сталин. М., 1989.
- Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой Победы. М., 2002.
- Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы. М., 1989
- Баграмян И.С., Шакай А.Ф. Контракт века. М., 1984
- Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России. М., 2003