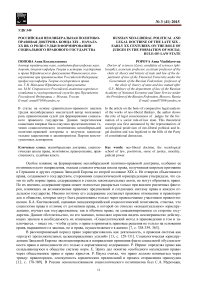Российская неолиберальная политико-правовая доктрина конца XIX- начала ХХ вв. О роли судьи в формировании социального правового государства
Автор: Попова Анна Владиславовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе сравнительно-правового анализа трудов неолиберальных мыслителей автор показывает роль правосознания судей для формирования социального правового государства. Данная теоретическая концепция впервые была озвучена представителями течения социологического позитивизма неолиберальной политико-правовой доктрины и получила законодательное закрепление в законопроектах Партии конституционных демократов
Неолиберальная доктрина, социологическая школа права, позитивизм, правосознание, нравственность, судебная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/142233749
IDR: 142233749 | УДК: 340
Текст научной статьи Российская неолиберальная политико-правовая доктрина конца XIX- начала ХХ вв. О роли судьи в формировании социального правового государства
Особое влияние на формирование неолиберальной политико-правовой доктрины, особенно ее позитивистского направления, оказала социологическая школа права, получившая широкое признание в Германии и других странах Западной Европы во второй половине XIX в. Не отвергая объективного права, создаваемого государством, сторонники социологической юриспруденции утверждали, что сами по себе нормы права, содержащиеся в статьях законодательных актов, не могут образовать право. По их мнению, содержание права может полностью раскрыться только при анализе различных факторов, влияющих на возникновение правовых предписаний и создающих систему права в каждом отдельном государстве. Именно поэтому его содержание составляет правовое отношение и правопорядок в обществе, которые могут быть реализованы только через правосознание участников правоотношения. Б.А. Кистяковский, оценивая западноевропейский социологический позитивизм, отмечал, что социология права в отличие от догматики права, к которой он относил «концептуальную» юриспруденцию, изучает как государственное, так и обычное право, не санкционированное со стороны государства. Данное обстоятельство, по его мнению, позволяло юристам видеть несовершенство действующих законов и необходимость их изменения. «Социологический метод в правоведении в том и заключается, – писал он, – чтобы судить о праве и принимать правовые решения не только на основании права, выраженного в законах, но и права, осуществляемого в жизни» [7, c. 338-339, 363].
В рассматриваемый период право характеризовалось как деятельность, а правовая система как «продукт продолжительных целенаправленных усилий» [13, c. 129-131]. Социологическая юриспруденция Западной Европы эволюционировала в направлении признания факта социальной обусловленности права и несводимости его только к нормативному содержанию. Р. Иеринг определял право как складывающуюся в обществе систему норм. Е. Эрлих дал понятие «свободного нахождения права» через общественное право и право юристов. Р. Паунд считал, что право должно пониматься через триаду: правопорядок, совокупность юридических предписаний и процесс отправления правосудия [12, c. 178-189]. В России основоположником социологического позитивизма был С.А. Муромцев, выдвинувший концепцию правопонимания на основе применения функционального и историкосравнительного методов.
Социологический позитивизм как течение позитивистского направления российской неолиберальной политико-правовой доктрины определял в качестве главной задачи права защиту индивидуализма, личных прав и свободы творческой личности. С.А. Муромцев полагал, что право в конкретном государстве на определенном историческом этапе как система законодательных норм зависит от моральных установлений и восприятия справедливости государственных органов и должностных лиц, применяющих право. Поэтому особую роль в создании права должны играть не законодательные органы, а суд и другие правоприменительные органы государства, приводящие действующую систему правовых норм в соответствие со «справедливостью», под которой подразумевалась, по мнению C.А. Муромцева «присущая в данное время в определенной общественной среде совокупность субъективных представлений о наиболее совершенном правовом порядке». В соответствии с постулатами социологического позитивизма судья не только осуществляет толкование норм права, но, принимая решение по конкретной жизненной ситуации и правоотношению, может самостоятельно создавать действующее право, основываясь на собственном мнении, общественном правосознании и справедливости [10, с. 197]. Поэтому судья в своих действиях руководствуется такими общественными регуляторами, как обычай, закон, доктрина и общественные представления о справедливости и нравственности, являясь при этом «непосредственным творцом гражданско-правового порядка». Право в теории социологического позитивизма, прежде всего, представляет собой особый правовой порядок, существующий в обществе, атрибутом которого выступают юридические нормы. Поэтому право должно основываться на общественном сознании, морально-нравственных категориях и понимании справедливости, высшим проявлением которых в реформирования государственного устройства России являлась его эволюция в сторону социального правового государства. Полагая законодательную реформу единственным средством для воплощения социальной справедливости, С.А. Муромцев в то же время отмечал, что нельзя ждать ее осуществления, допуская, таким образом, накопление слишком большого числа несправедливостей, так как они «потрясают общественный организм» [9, c. 392-393, 395].
Особая теория взаимодействия морали и права была создана в России на рубеже XIX – ХХ вв., когда произошло становление российского варианта неолиберализма, отличительная черта которого состояла в нацеленности на достижение высокого социального идеала – конституционного демократического социального правового государства. В структуре такого идеала нравственность являлась определяющим элементом по отношению к политико-правовой составляющей. Таким образом, пра-вопонимание в российской неолиберальной политико-правовой доктрине было невозможно без соотнесения права и нравственности, поэтому оно выступало как «определенный минимум нравственности» в трактовке В.С. Соловьева, «абсолютной правдой в эмпирии общественной жизни» в трудах С.Л. Франка или «этикой социальной обыденности» по определению Н.А. Бердяева.
Исходя из цели построения в России правового государства как общественного идеала, основанного на гарантированности естественного права для всех граждан, российские неолибералы подчеркивали значение позитивного права в виде «разумного законодательства», что означало самоценность права как системы общеобязательных норм, во-первых, и соотнесение права и морали, во-вторых. Основополагающим правового государства является принцип распределения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, который российские неолибералы рассматривали как гарантию против возникновения абсолютной власти в виде тоталитарного или авторитарного режима. Каждая из этих ветвей имеет свои функции и наделена определенными полномочиями, соответствующими ее содержательной характеристике. Однако главным основанием для воплощения в жизнь подобного принципа является система сдержек и противовесов, выражающаяся в том, что ни одна из властей не может принять на себя функции другой и действовать обособленно друг от друга. Только единство всех видов власти создает единый «политический организм», функционирующий для блага народа. В целях создания правового государства приоритет отдавался законодательной власти, формируемой обществом, когда, по мнению Б.А. Кистяковского, государственная власть сохраняет свое значение только при осуществлении индивидами права на управление государством.
Еще одно требование правового государства, определяемое неолибералами, заключалось в осуществлении высокого уровня правосознания и правовой культуры. Признавая низкий уровень правосознания, как индивида, так и общества в целом в современной им России, неолибералы полагали, что необходимо создать условия для его повышения, так как в противном случае цель в виде социального

правового государства не может быть достигнута в обозримом будущем, поскольку только общественное правосознание может гарантировать существование и правопорядка, и государства [6, c. 154, 156, 159].
Представители неолиберальной политико-правовой доктрины признавали односторонними как классические либеральные идеи XVIII в., отдающие приоритет индивидуализму в государственноправовом развитии общества, так и позитивистские постулаты XIX в., трактующие общество как единственную движущую силу государственного развития. Неолиберальные мыслители утверждали, что только сумма индивидуального и общественного начал может действительно отражать характеристику социального правового государства. Главный тезис заключался в том, что достижение государственно-правового идеала возможно, если индивидуальное начало классической либеральной доктрины дополнить социальным началом юридического позитивизма, так как, с одной стороны, человек становится личностью только в социуме, а с другой – развитие социума зависит от правосознания каждого индивида.
Особенно остро в начале ХХ в. встал вопрос об оптимальной для России форме государственного правления, дискуссионность которого была вызвана господствующим представлением о «цивилизационном отставании» страны. Большинство неолибералов до февраля 1917 г. не обосновывали необходимость перехода от самодержавия к республике, их идеалом была конституционная монархия, правовое обоснование которой было положено в основу проекта конституции – «Основного государственного закона Российской империи», авторами которой были известные представители научной интеллигенции Санкт-Петербурга (Петрограда) и Москвы – В.М. Гессен, И.В. Гессен, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Котляревский.
С.А. Муромцев был убежден, что такой проект, созданный неолиберальными государствоведа-ми, мог существенно повлиять на дальнейшее развитие конституционного строя России. Проект был основан на изучении государственного строя Великобритании, Болгарии, Швеции, Австрии и других западноевропейских стран. Политическим идеалом неолиберальных мыслителей – авторов данного проекта – стало конституционное государство в виде парламентарной монархии английского типа, поэтому власть в стране, в соответствии с неолиберальной политико-правовой доктриной, была разделена между социальными группами.
На монарха возлагалось верховное управление государством. Кроме того, С.А. Муромцев исключил статьи, касающиеся конституционного судопроизводства, так как считал их практически неосуществимыми для России. Будучи приверженцем социологического позитивизма, неолиберальный мыслитель полагал необходимым, чтобы судебные органы отказывали «в применении законодательных постановлений, хотя бы и обнародованных в виде законов, когда таковые постановления нарушают своим содержанием точный смысл Основного закона. Правовое положение судебных органов как отдельного вида государственной власти являлось содержанием Шестого раздела Проекта Основного закона Российской империи («Конституции С.А. Муромцева»). Были провозглашены принципы судоустройства, в соответствии с которыми судьи не могли быть уволены, перемещены, устранены от исполнения своих обязанностей без постановления надлежащего суда и по основаниям, определенным в законе. Провозглашалось обязательное участие присяжных заседателей в уголовном процессе. При этом граждане Российской империи не имели права уклоняться от избрания их в качестве таковых [4].
Третьей ветвью власти в конституционном государстве является судебная власть, необходимость эволюции которой признавалась третьим этапом на пути преобразования Российского государства. Неолибералы предлагали вернуться к положениям Судебной реформы 1864 г. и устранить все позднее принятые отступления от первоначального текста судебных уставов с внесением в них по необходимости ряда изменений [2]. Первоначально законопроект об изменении судебной системы был внесен на обсуждение в Государственную Думу первого созыва. Неолибералы предложили внести в судебную систему России следующие изменения:
-
1) упразднение суда Судебной палаты с участием сословных представителей и «передачу всех разрешаемых ныне дел в ведение окружных судов с участием присяжных заседателей», что должно было способствовать упрочению принципа независимости и беспристрастности суда в вынесении решений, а также устранению сословных преимуществ и привилегий [5];
-
2) никакое наказание не может осуществляться в отношении лица, пока не вступит в силу приговор компетентного суда;
-
3) суд должен быть независим от администрации, поэтому вмешательство министра юстиции в назначение и увольнение от должности судей, а также в ход судебного расследования, в объявлении судебного процесса закрытым – не допускается;
-
4) правительство не имеет право награждать судейский корпус;
-
5) признание того, что все равны перед законом, вследствие чего виновность должностных лиц определяется на общем основании;
-
6) отнесение к компетенции суда присяжных заседателей всех дел с наибольшей тяжестью наказаний и прежде всего государственных преступлений и деяний, нарушающих Закон о печати;
-
7) провозглашение принципа единства кассационного производства;
-
8) осуществление права на защиту со стороны адвокатов, при этом адвокатура должна быть организована только на принципах самоуправления [1].
-
9) включение в компетенцию мирового судьи дел, относящихся к подсудности волостной юстиции;
-
10) избрание мировых судей «для малых дел взамен земских начальников», а для решения «больших дел» предусмотреть совместное заседание мирового судьи и суда присяжных заседателей. Мировых судей и присяжных заседателей избирает местное население с целью их доступности, для чего отменяется имущественный ценз при занятии подобных должностей.
В начале XXI в. целью государственного правового развития страны также, как и столетие назад, является построение социального правового государства при помощи изменения правосознания людей. Поэтому главным фактором становится союз права и других форм общественного сознания. «Постепенно приходит понимание того, что с помощью одних только правовых средств нельзя обеспечить безопасность и правопорядок, соответствующие идее правового государства» [5, c. 20]. Как верно отмечает Н.И. Матузов, «прямое влияние на эффективность законов оказывают падение морали, девальвация духовных ценностей, распущенность, вседозволенность, другие социальные аномалии. Давно было сказано: бессмысленны законы в безнравственной стране» [8].
На современном этапе развития Российской Федерации из-за несбалансированности прав и свобод граждан возникают различные негативные последствия, к которым относятся иждивенчество, стремление к обогащению, нигилизм и индивидуализм по отношению к общественным ценностям. Эти и другие антиправовые явления приводят к новым формам правового нигилизма, порождаемого преувеличением индивидуализма. В силу чего в современном обществе в качестве регулятора перестала восприниматься общественная мораль. Если в начале ХХ в. мораль влияла на развитие права, то в начале XXI в. превалирует ситуация, при которой государственное право способно воздействовать на формирование нравственных ценностей современного общества, без которых невозможно достижение правового социального государства.
Список литературы Российская неолиберальная политико-правовая доктрина конца XIX- начала ХХ вв. О роли судьи в формировании социального правового государства
- ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 15.
- Программа Конституционно-демократической партии. Сборник программ политических партий в России / Под ред. В.В. Водовозова. Вып. I. СПб.: Изд. кн. маг. «Наша Жизнь», 1906. 69 с.
- Проект Основного и Избирательного законов в редакции С.А. Муромцева (1905 год). Сергей Андреевич Муромцев: Сб. ст. Приложение первое. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. С. 384-406.
- Проект изменения судебных уставов. Дума. 1906. 23 мая.
- Андреева О.А. Современное российское законотворчество и правоприменение: нравственно-правовой аспект. Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 8. В 3 томах. Т. 1. М.: Изд-во Юрист, 2008. С. 19-22.