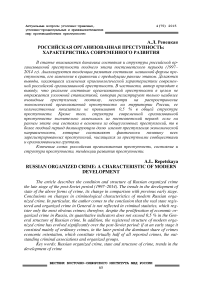Российская организованная преступность: характеристика современного развития
Автор: Репецкая А.Л.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Статья в выпуске: 4 (75), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается динамика состояния и структуры российской организованной преступности позднего этапа постсоветского периода (1997-2014 гг). Анализируются тенденции развития состояния названной формы преступности, его изменение в сравнении с предыдущим ранним этапом. Делаются выводы, касающиеся изменения криминологической характеристики современной российской организованной преступности. В частности, автор приходит к выводу, что реальное состояние организованной преступности в целом не отражается уголовной статистикой, которая регистрирует только наиболее очевидные преступления; поэтому, несмотря на распространение экономической организованной преступности на территории России, ее количественные показатели не превышают 0,5 % в общей структуре преступности. Кроме того, структура современной организованной преступности значительно изменилась за постсоветский период: если на раннем этапе она состояла в основном из общеуголовных преступлений, то в более поздний период доминирующую долю имеют преступления экономической направленности, которые составляют фактически половину всех зарегистрированных преступлений, числящихся за преступными сообществами и организованными группами.
Российская организованная преступность, состояние и структура преступности, тенденции развития преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/14335733
IDR: 14335733
Текст научной статьи Российская организованная преступность: характеристика современного развития
На фоне террористических угроз и вызовов современному обществу организованная преступность по степени своей значимости отошла на второй план, но не утратила свойственной ей общественной опасности. Более того современные исследования свидетельствуют о тесной связи террористических организаций и преступных сообществ [1]. В этой связи необходимо понимать, что противодействие организованной преступности, в первую очередь экономической ее части, позволит воздействовать и на террористическую составляющую вследствие сокращения источников их финансирования.
Между тем, для того чтобы разрабатывать программы противодействия названным опасным явлениям, необходимо иметь их криминологическую характеристику, с тем чтобы четко представлять тенденции развития, т.е. те направления, которые требуют контроля и системы эффективного противодействия.
Анализ динамики состояния российской организованной преступности современного периода, который можно обозначить как поздний этап постсоветского периода (1997–2014 гг.), свидетельствует о существенных отличиях развития российской организованной преступности наблюдавшихся на его раннем этапе (1991–1996).
Так, динамика состояния организованной преступности ран- него постсоветского периода характеризуется значительными темпами прироста; в частности, абсолютные показатели ее уровня за первые несколько лет существования нового российского государства выросли в 5,5 раз: с 5 119 зарегистрированных преступлений в 1991 г. до 26 433 в 1996 г.
Характеристика позднего этапа, динамические ряды которого значительно длиннее, не так однозначен в определении тенденций. Начало этого этапа характеризовалось по-прежнему достаточно интенсивным ростом регистрации рассматриваемых преступлений. Он продолжался до 2000 г. и достиг пика – 36 318 преступлений, после чего в течение пяти лет наблюдался значительный спад в их регистрации (более чем на 10 тыс. преступлений, или на 70 %). Однако с 2004 г. регистрация преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, вновь резко выросла, и несколько лет их количество находилось на уровне 30 тыс. преступлений в год. В 2009 г. наблюдался некоторый всплеск, когда количество преступлений, числящихся как «совершенные в составе ОГ и ПС», фактически достигло уровня десятилетней давности (32,2 тыс. преступлений), а затем резко пошло на спад, снизившись в 2010 г. на 28 %, а в 2011 г. – еще на 20,5 %, достигнув уровня в 17,7 тыс. Эта тенденция сохранилась и в 2012–2014 гг.
Так, в 2013 г. за организованными преступными группами и преступными сообществами числилось уже только 17 266 преступлений, что меньше показателя 2012 г. еще на 4,2 %; а в 2014 г. таких преступлений вообще было выявлено только 15 116 – снижение произошло еще на 14,3 %.
Таким образом, состояние рассматриваемого вида преступности в поздний постсоветский период (1997–2014) имеет волнообразную динамику, темпы прироста которой в первое пятилетие (1997–2001) варьировали в пределах 28–36 тыс. преступлений, в 2002–2003 гг. наблюдался значительный спад в регистрации (25–26 тыс.), в последующие шесть лет (2004–2009) их амплитуда вновь поднялась до 29–32 тыс. преступлений в год. Последние пять лет (2010–2014 гг.)
демонстрируют еще более резкое снижение, даже по отношению в базовому 1997 г. (с 22,7 до 15,1 тыс. преступлений). Фактически современная регистрация преступлений, числящихся за организованными группами и преступными сообществами, находится на уровне 1993 г., когда уголовный закон не регламентировал даже такую форму соучастия, как совершение преступления организованной группой.
При этом следует заметить, что доля организованной преступности в общей структуре, оставаясь стабильной, составляет около 1– 1,5 % (в последние годы еще меньше). Фактически же, по оценкам экспертов, эта доля равна не менее 10 %, т.е. в абсолютном исчислении реально совершенных преступлений, как минимум, в 10 раз больше.
Эффективно действующая система защиты от социального контроля, используемая организованной преступностью, позволяет значительно снижать уровень выявления преступников при прохождении различных этапов уголовного процесса. В результате количество зарегистрированных преступлений превышает число возбужденных по ним уголовных дел в среднем в 3–4 раза, а последние численно превосходят оконченные уголовные дела в 1,5–2 раза. Реально осужденных и отбывающих наказание еще в несколько раз меньше.
При этом стоит отметить, что первоначально лиц, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ, выявлялось в два раза меньше, чем регистрировалось преступлений, а в некоторые периоды (2003–2009 гг.) этот показатель не превышал 31– 38 %, по отдельным видам он был еще ниже. Например, преступников, совершивших преступления экономической направленности в составе организованных преступных групп и преступных сообществ, выявлялось в
4–6 раз меньше, чем регистрировалось преступлений данного вида.
Такая «воронка» – обычное явление и для всей преступности в целом, но для организованной она имеет слишком высокую амплитуду колебаний. При этом стоит учесть, что тяжкие и особо тяжкие преступления в общей структуре организованной преступности составляют в среднем 95 % (например, в 2011 г. доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступлений, числящихся за ОП и ПС, составила 95,7 %; в 2012 г. – 96,3 %; в 2013 г. – 96,1%; в 2014 г. – 93,6 %.), а это значит, что оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания здесь, несомненно, меньше. Кроме того, такая разница между уровнями регистрируемой организованной преступности и судимостью свидетельствует и о существующих проблемах квалификации, сложности доказывания, а нередко и неспособности это сделать право-охранительными органами.
Между тем, по данным МВД России, средняя ежегодная сумма официально установленного материального ущерба по преступлениям, совершенным организованными преступными группами и преступными сообществами, за последние пять лет (2010–2014), – 12,5 млрд руб. [5]. Если посчитать общую сумму, то только за эти годы она превышает 60 млрд рублей, более трети из которых легализованы. Это свидетельствует о том, что организованная преступность продолжает активно развиваться, и при этом деятельность ее субъектов имеет высоколатентный характер.
Между тем, анализируя количественные показатели официально зарегистрированной организованной преступности, необходимо понимать, что они не могут в полной мере дать ее криминологическую характеристику, поскольку организованная преступность имеет сложные структурные виды преступной деятельности, не совпадающие у разных организованных преступных сообществ, которые, кроме того, не всегда совпадают по характеру организации данной деятельности, внутренним взаимосвязям структурных подразделений и их составом.
Однако как и все социальные явления, в том числе и имеющие негативный характер, организованная преступность и ее характеристики в значительной мере зависят от особенностей той территории, на которой она существует. При этом специфика заключается не только в социально-экономическом развитии конкретной территории, ее демографическом положении, но и в национальном менталитете, культурных и исторических традициях, присущих данному региону, а также в специфике развития здесь преступности в целом, ее исторической и экономической детерминации со спецификой самой территории. В этой связи первостепенное значение приобретают углубленный всесторонний анализ и точная оценка состояния организованной преступности в отдельном регионе, тенденции ее развития, характеристика особенностей как организованной преступной деятельности, так и тех формирований, которые ее осуществляют, поскольку это позволяет иметь репрезентативную основу для достоверного планирования противодействия региональной организованной преступной.
Кроме того, и территориально организованная преступность в России распределяется весьма неравномерно. Это связано с тем, что огромные регионы Российского государства остаются до конца не освоенными; некоторые в настоящее время являются абсолютно запущенными вследствие тяжелого экономического положения, разрушения инфраструктуры и миграции из них населения в более благополучные области. Но вместе с тем многие из российских регионов сохранили свой промышленный потенциал, а главное, обладают обширнейшими запасами разнообразного сырья и материалов. Именно они привлекают внимание субъектов организованной преступности, которые, в основном дислоцируясь в крупных городах, как правило, центрах отдельных регионов, осуществляют преступную деятельность на всей территории региона [2].
Между тем качественная характеристика российской организованной преступности позднего этапа постсоветского периода основана на данных, характеризующих как структуру организованной преступности, отражаемую статистикой, так и на выявленных тенденциях современной криминальной ситуации в России.
Сравнительный анализ структуры и характера организованной преступности раннего и позднего этапа показывает, что на раннем этапе постсоветского периода значительную часть зарегистрированных преступлений, учтенных за организованными группами (до 80 %), составляли кражи, грабежи, разбои, вымогательства и другие общеуголовные деяния, т.е. статистика о состоянии организованной преступности в основном отражала ее общеуголовные формы. Наиболее опасная экономическая организованная преступность, причиняющая огромный вред обществу и государству, практически не выявлялась, и статистикой не отражалась
Между тем процесс приватизации объектов экономики в 1992–1995 гг. дал возможность криминальным лидерам вкладывать деньги, полученные от традиционной преступной деятельности, в полулегальный и легальный бизнес и таким образом распространять
Актуальные вопросы уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействие преступности свой контроль на большое количество секторов экономики. С 1995 по 1997 г. российская экономическая организованная преступность достигла наибольшего расцвета. Основными направлениями ее деятельности в этот период были: использование финансовой системы, осваивание вексельного рынка, активная работа с сырьевым (нефть, газ, металлы) рынком России [3].
Значительные изменения в структуре регистрации организованной преступности начались с 2003 г., когда доля зарегистрированных преступлений экономической направленности стала расти. В 2004– 2006 гг. она составляла около 45 %, а в 2007-2009 гг. ее уровень поднялся до 60 %.
Соответственно, до 2009 г. постепенно снижалась регистрация общеуголовных преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Таким образом, структура зарегистрированной организованной преступности позднего этапа постсоветского периода отражает более реальную криминальную ситуацию.
Между тем новые тенденции в регистрации преступлений экономической направленности, их частичная декриминализация в 2010-2011 гг. привели к тому, что в эти годы вновь наблюдается обратный рост соотношения между
общеуголовными и экономическими преступлениями. Волнообразный характер роста количественных показателей определяет и разность структурной характеристики организованной преступности в разные годы позднего постсоветского периода.
Так, за первое десятилетие действия УК РФ (1997–2008 гг.) среди значительно сократившихся общеуголовных преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, наиболее выделяются: кражи -произошло снижение регистрации в 3,8 раза по сравнению с базовым 1997 г.; убийства - в 6 раз (заказных убийств в 44 раза); разбой - в 5 раз; грабеж, вымогательство - в 2,5 раза; преступления, связанные с незаконным оборотом оружия - в 2,5 раза.
Преступления, совершенные должностными лицами с использованием своего служебного положения в составе организованных групп и преступных сообществ, всегда свидетельствовали о наличии коррумпированных связей между органами власти и организованной преступностью. Снижение их регистрации имеет устойчивую тенденцию (по сравнению с 1997 г. - в 2 раза), получение взятки также регистрировалось в 3 раза меньше, а в 2008 г. это преступление, совершенное в составе организованной группы или преступных со-
Актуальные вопросы уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействие преступности обществ, вообще перестало отражаться в отчетах ГИЦ МВД РФ.
Такое изменение в структуре организованной преступности объясняется, прежде всего, изменением содержания деятельности, форм и способов достижения намеченных целей. Так, если в ранний постсоветский период получение прибыли и сверхприбыли было связано с применением физического и психического насилия, когда использовались оружие и вымогательство, то в годы позднего этапа постсоветского периода все чаще применяются новые рычаги воздействия на собственников - экономическое и коррупционное насилие [4. С. 8-10].
Должностные преступления при этом продолжают тщательно скрывать. Это позволяет делать пораженная коррупцией система правоохранительных и государственных органов. В хищениях все меньше необходимости, так как легализованный первоначальный капитал позволяет получать огромные прибыли в сфере как легального, так и теневого бизнеса.
В результате регистрация таких преступлений падает, хотя традиционные виды преступной деятельности организованных преступных формирований (бандитизм, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков) остаются относительно стабильными или растут. Например, регистрация
такого преступления, как организация преступного сообщества, за десятилетие (1997-2007) увеличилась более чем в 12,5 раза; контрабанда - в 3 раза.
Стоит отметить при этом, что и в последующий семилетний период (2008–2014 гг.) за счет наметившейся в структуре организованной преступности тенденции к обратному соотношению общеуголовной и экономической ее долей, наблюдается примерно та же картина в структуре регистрации преступлений, числящихся за организованными преступными группами и преступными сообществами.
Так, в указанный период продолжилось уменьшение доли общеуголовных преступлений, но уже не столь значительными как в первое десятилетие темпами: кражи снизились в регистрации с 2751 преступлений в 2008 г. до 2225 - в 2014 г.; грабежи - в 4,5 раза (с 385 до 85); вымогательства - в 1,4 раза (с 535 до 384); разбои - с 475 до 412; бандитизм - со 188 преступлений в 2008 г. до 168 в 2014 г.; террористические акты - в 30,6 раза (с 459 до 15); преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, - с 5495 до 4487; преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, - с 479 до 384. Примерно на том же уровне остались убийства, среди которых убийства по найму, совершенные
Актуальные вопросы уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействие преступности преступными сообществами и организованными группами, вообще не выявлены (73 в 2008 г. и 74 - в 2014 г.). Вместе с тем такое преступление, как организация преступного сообщества, например, за указанный период увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. (со 129 до 198), при этом наблюдался последовательный рост в регистрации данного преступления во все годы рассматриваемого пятилетнего периода.
Кроме того, стоит заметить, что общее снижение в регистрации преступлений, совершенных представителями ОП, а также некоторое снижение доли экономических преступлений, числящихся за ОГ и ПС, может быть связано с декриминализацией некоторых наиболее распространенных экономических преступлений. Так, например, товарная контрабанда, составлявшая основу криминального рынка товаров как импортного, так и экспортного вариантов, в 2011 г. была декриминализирована. Оставшиеся некоторые виды товаров, по-прежнему влекущие уголовную ответственность за их контрабанду (ст. 226.1 УК РФ), в регистрации имеют незначительное число преступлений. Эта ситуация сохраняется и в последние годы, несмотря на законодательное расширение видов уголовно наказуемой товарной контрабанды (ст. 229.1 УК, появившейся одновременно со
ст. 226.1 УК, в уголовный закон включены ст. 200.1 - контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов и ст. 200.2 - контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий).
Кроме того, в связи с огромным скачком в развитии цифровых и компьютерных технологий в структуре зарегистрированных организованных преступлений в последние годы появились преступления, совершаемые ОГ и ПС в сфере компьютерной информации, которые растут беспрецедентными темпами: в 2013 г. уровень прироста этих преступлений составил 284,6 %.
Таким образом, можно сделать несколько выводов. Реальное состояние зарегистрированной организованной преступности в целом, и экономической ее части, в частности, не отражается уголовной статистикой, которая регистрирует только наиболее очевидные преступления; поэтому, несмотря на распространение экономической организованной преступности на территории России, ее количественные показатели не превышают 0,5 % в общей структуре российской преступности.
Количество выявляемых и привлекаемых к уголовной ответственности лиц, совершивших экономические преступления в числе организованных преступных
Актуальные вопросы уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействие преступности формирований, в 5–6 раз ниже уровня регистрируемых преступлений, хотя они имеют групповой характер.
Структура современной зарегистрированной организованной преступности значительно изменилась за постсоветский период: если на раннем этапе она состояла в основном из обще-уголовных преступлений, то в более поздний период доминирующую долю имели преступления экономической направленности, которые составляют фактически половину всех зарегистрированных преступлений, числящихся за ПС и ОГ.
Таким образом, криминологический анализ современной российской организованной преступности позволяет констатировать значительные качественные изменения как в структуре, так и в тенденциях развития этого негативного явления, произошедшие с начала XXI в., что в свою очередь требует значительной коррекции системы противодействия организованной преступности, совершен-
ствования правовой регламентации борьбы с ней.
Список литературы Российская организованная преступность: характеристика современного развития
- Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 23.
- Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 41-49.
- Репецкая А.Л. Российская организованная преступность в эпоху глобализации: состояние, структура, основные тенденции развития//Криминологический журнал БГУЭП. 2010. № 1. С. 55-60.
- Репецкая А.Л. Роль насилия в механизмах регулирования отношений собственности в сырьевой сфере региональной промышленности//Проблемы борьбы с организованной преступностью/под ред. А.Л. Репецкой. Вып. 2. Иркутск, 2005. С. 8-10.
- Сводный отчет по России о результатах борьбы с организованной преступностью за 2010-2014 гг.