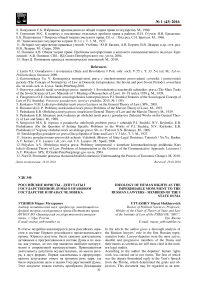Российские юристы - депутаты I Государственной Думы о правовом государстве и правах человека
Автор: Утяшев Марат Мухарович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно анализируется роль российских юристов в составе Первого российского представительного органа. Юристы-депутаты были самыми деятельными, активными и прогрессивными в составе Думы и их имена, как ученых, до сих пор являются наиболее цитируемыми в современной юриспруденции. Правозащитная деятельность депутатов осуществлялась, по мысли автора, в двух формах. Первая заключалась в сформулированном депутатами ответе на тронную речь царя, где были определены цели и задачи Государственной Думы. Этот документ можно считать прообразом Декларации прав. Вторая форма правозащиты депутатов состояла в рассмотрении жалоб, писем и петиций от граждан на произвол властей и составления депутатских запросов в правительственные органы. Это был реальный и эффективный способ парламентского контроля, не применявшийся в практике до сих пор современных народных представителей.
Правовое государство, государственная дума, парламентский контроль, права человека, бюрократия, полицейский произвол, депутатский запрос, муромцев с.а., коркунов н.м., шершеневич г.ф., франк с.л., котляревский с.а., кузьмин-караваев в.д.
Короткий адрес: https://sciup.org/142233793
IDR: 142233793 | УДК: 340
Текст научной статьи Российские юристы - депутаты I Государственной Думы о правовом государстве и правах человека
К замечательной плеяде политиков, публицистов и ученых, оказавших заметное влияние на политическую и правовую мысль в предреволюционный и революционный период 1905-1907 годов, следует отнести, прежде всего, юристов-гуманистов, членов первой и второй Государственной Думы. Прогрессивные и человеколюбивые политические и правовые позиции отстаивали Сергей Андреевич Муромцев, Богдан Александрович Кистяковский[1], Лев Иосифович Петражицкий, Николай Михайлович Коркунов, Габриель Феликсович Шершеневич, Павел Иванович Новгородцев, Семен Людвигович Франк, Сергей Андреевич Котляревский, Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев.
Эти имена звучат притягательно и в современной юридической литературе, и даже спустя целое столетие научные труды по юриспруденции переполнены именами этих знаменитых, видных, уважаемых, авторитетных ученых юристов. Но примечательно и то, что так много прогрессивных и гуманных юристов было в составе Первого российского представительного органа, хотя царская власть была кровно заинтересована в том, чтобы в число депутатов были избраны ангажированные и лояльные к власти депутаты.
Важное значение для нашего дискурса имеет и то обстоятельство, что поименованные выше юристы были звездами первой величины. Наряду с ними в числе народных представителей было немало одаренных и активных юристов, чьи имена звучат приглушенно только потому, что наша правовая идеологизированная наука, в частности история права, была к ним равнодушна и уделяла явно недостаточное внимание. К их числу следует отнести Максима Моисеевича Винавера, Владимира Дмитриевича Набокова [2], Сергея Дмитриевича Урусова, Федора Федоровича Кокошкина [3] и множество других. Эти имена и их учения еще только предстоит вернуть в историю права и озвучить для современных юристов.
В те давние времена в России активно работали различные сообщества, в том числе – юридические. На ежегодных собраниях Санкт-Петербургского юридического общества обсуждались насущные проблемы юриспруденции. 20 марта 1905 года с докладом "Адвокатура и правовое государство" выступил М.М. Винавер, который сказал в первую очередь о правовом государстве: "Обособление властей – есть основной закон правового государства..." Государство законодательствует, правит и судит... Законодательствуя, оно фиксирует назревший вне его, в общественном сознании, нормы отношений общества и индивида. В этой своей роли оно возвышается над действующим законом. Но государство правящее, – то, которое более всего и чаще всего соприкасается с жизнью граждан, которое изо дня в день, из часу в час, не в теоретических обобщениях, а в живой действительности изображает собой под видом охраны правопорядка, интерес, противополагающий себя интересу гражданина, то государство, непрерывность и разнообразие функций которого грозит наибольшей опасностью свободе граждан – это государство подчиняется закону наравне с гражданином.
Они оба – и гражданин и власть – одинаково субъекты прав и обязанностей: закон отмежевывает власти пределы, за которыми открывается нестесняемая свобода граждан.
И это, по – М.М. Винаверу – первый этап на пути к правовому государству. Принцип равноправия государственной власти и гражданина в этом ключе выглядит ясно и просто: гражданин имеет право требовать от государства, чтобы оно оставалось в пределах, отведенных ему законом, и не вторгалось в область общественных отношений.
Второй этап на пути к правовому государству видится М.М. Винаверу в следующем.
"Что толпу, – говорит он, – что государство, законодательствуя, никем не сдерживается и не контролируется ... Ни исполнитель, ни тем более суд, – не должны подчиняться тому же субъекту права, спор же между гражданином и государством должен разрешать независимый суд" [4, c. 5–9].
Владимир Матвеевич Гессен считал, что правовым государством можно называть только такое государство, в котором установлен парламентарный строй, базирующийся на началах последователь-

ного демократизма. Строжайшая закономерность правящих сил требует неуклонной ответственности должностных лиц перед свободно избранным всенародным представительством... Бюрократический строй, опирающийся на дисциплинированную армию профессиональности чиновничества, составляет, по убеждению Гессена, теневую сторону всякого политического прогресса. Олигархический характер, всегда присущий бюрократии, особенно резко выражен в России, где непроходимая бездна лежит между чиновниками и нечиновными людьми. Одним из способов движения в сторону правового государства Гессен называет развитие союзного строя и местного самоуправления, в особенности. Бессословное самоуправление, – говорит Гессен, – крепкая стена, защищающая низины народной жизни от бюрократического потока [5, c. 557].
Павел Иванович Новгородцев писал: "Если изначально правовое государство имело задачу простую и ясную – когда равенство и свободы представлялись основами справедливой жизни, т.е. началами формальными и отрицательными, и осуществить их было не трудно, то сейчас государство призывается наполнить эти начала положительными содержанием" [6, c. 599].
Богдану Александровичу Кистяковскому, – как считают некоторые ученые, - принадлежит инициатива, теоретической постановки вопроса и возможной перспективе правового социалистического государства, возникающего в процессе преодоления несовершенств буржуазного правового государства [6. c. 595].
Александр Семенович Алексеев считал, что первым принципом правого государства является недопустимость изменения правопорядка в государстве без участия народного представительства. Другое принципиальное его требование сводилось к принципу верховенства права, но не закона. "Не закон дает силу праву, а право дает силу закону, и законодатель должен не создавать, а находить право, выработанное в сознании общества" [6, c. 593].
За несколько месяцев до появления Манифеста 17 октября 1905 года в Санкт-Петербурге был издан сборник статей о конституционном государстве [7]. Примечательным в этом сборнике было то, что рассуждения многих авторов относились не только к особенностям правового государства, о конституционном государстве, но и возможном отождествлении этих двух юридических категорий.
Так, статья А.К. Дживилегова в этом сборнике называлась "Конституция и гражданская свобода", что по смыслу весьма приближено к тому, что исследует и наша статья. Целый век тому назад автор писал: "Для того чтобы в государстве воцарился правовой порядок, чтобы государство стало правовым государством, должна быть ограничена сама государственная власть ... чтобы граждане могли свободно пользоваться определенной совокупностью прав ... признанием этих прав государство добровольно ограничивает свою власть" [7, c. 42–43].
Далее автор раскрывает суть и содержание самого понятия правового государства, которое многие не понимают и по прошествии целого века. "Участие народа в составлении законов и контроль над их исполнением с одной стороны, самоограничение государственной власти, с другой – являются двумя главными признаками современного правового государства. Правовое государство – это такое государство, которое, как правительство, подчиняется юридическим нормам, выработанным им же, как законодателем. Правовое государство, словом, есть царство закона" [7, c. 43].
Вторая часть статьи А.К. Дживилегова посвящена правам и свободам личности. Они составляют суть конституционного государства. Когда говорят о гражданских свободах, – говорит автор этой статьи, – чаще всего подразумевают декларации прав, а когда говорят о декларации, имеют в виду Французскую "Декларацию прав человека и гражданина". Но декларации прав или гарантии прав являются необходимой частью всех западных Конституций того времени [7, c. 49-57].
Автор этой статьи рассматривает такие права человека, как право на труд, такие гражданские свободы, как свобода совести, слова и мысли, свобода печати и запрет цензуры, неприкосновенность жилища и корреспонденции, и такие, кажущиеся достоянием современной юридической мысли, как право на участие в управлении государственными делами, свобода ассоциации и союзов, а так же – субъективные публичные права граждан [7, c. 67–69].
Н.И. Лазаревский издал объемистый труд, посвященный значению и сути народного представительства. Автор строит свои рассуждения на реальных юридических тактах, доступных для российского ученого того времени, и цитирует Конституцию штата Калифорния: "Вся политическая власть принадлежит народу. Правительство учреждено для охраны, для безопасности и для благосостояния народа, а народ имеет право изменять, или преобразовывать его всякий раз, как этого потребует общественная польза" [7, c. 122].
Суверенная власть принадлежит нации; никакая часть народа, никакое лицо не могут приписывать себе ее осуществления. Кантоны Швейцарского Союза в своих Конституциях закрепили аксиоматические положения, что суверенитет принадлежит народу, в установленных Конституцией пределах, осуществляется же власть прямо в народных собраниях или опосредованно – через своих избранных представителей. Даже монархи пользуются более приемлемой формулой об их правлении "волею народа". "Нет закона без народного представительства, – писал знаменитый Лоренц-фон-Штейн, – ибо в этом случае теряется различие между законом и распоряжением исполнительной власти" [7, c. 122].
Только в представительном, а значит конституционном государстве, само правительство, сам глава государства обязаны подчиняться законам, чем правовое государство и отличается от полицейского государства.
Вывод автора статьи о соответствии международным стандартам и в том числе о возможностях участия в государственных дела и в народном представительстве российских граждан, по проектам царского манифеста 17 октября 1905 года, был вполне обоснованно весьма критичен. Представительный орган России ни по целям, ни по полномочиям не был самостоятельным и тем более, он стоял во многом ниже исполнительной власти, что не соответствовало принципам конституционного государства.
В исследуемом сборнике была представлена статья С.А. Котляревского о выборах в конституционном государстве, которую он называет кратким этюдом о правильном разделении труда, полномочий – сказали бы сейчас, между центральными и местными учреждениями. Попросту маститый ученый ставит вопрос о том, почему в России не удавалось и не удается истинное местное самоуправление.
"Чем более разнообразий представляет страна, – говорит С.А. Котляревский, – в географическом этнографическом и экономическом смысле, тем необходимее для нее широкое местное самоуправление, широкое освещение законодательной работы местными интересами. Мы в России, – пишет автор, сто с лишним лет тому назад, – слишком хорошо знаем, к чему ведет бюрократическая централизация" [7, c. 309]. В пору сказать: знать-то мы, может быть, и знаем, но вот сделать по уму нам чаще всего не удается. Что касается местного самоуправления, то положительного опыта накоплено как в мире, так и в самой России, достаточно, только реального самоуправления нам ввести не удается.
Приводя положительный опыт Бельгии С.А. Котляревский пишет: достаточно нам переехать из Франции в Бельгию как мы увидим полный контраст: богато расцветшая муниципальная жизнь, широкое развитие местного самоуправления ... Недаром бельгийская Конституция ставит рядом с властями законодательной, исполнительной и судебной власть муниципальную, как самостоятельную [7, c. 308–309].
О важности народного представительства, как признака правового государства неоднократно говорил Борис Николаевич Чичерин, "В наше время (!) едва ли кто станет отрицать огромное и благодетельные последствия, истекающие из представительных учреждений для народов к ним приготовленных, в странах, где установилось вожделенное согласие политической свободы с властью, порядком и общей пользою. Прежде всего, права и интересы граждан находят здесь высшее обеспечение. Участвуя в верховной власти, представитель является в ней законным заступником не только своих избирателей, но и всех граждан в совокупности" [8, c. 34–35]. Говоря о правомерном государстве, Б.Н. Чичерин вполне обоснованно касается и гражданского общества. Находясь в государстве и подчиняясь ему, гражданское общество влияет на государство в той же степени, как и государство, влияет на общество. Но общество не поглощается государством... Для человеческой личности, для ее свободы и прав, это признание самостоятельности гражданского общества имеет в высшей степени важное значение, ибо именно таким признанием оно ограждается от поглощения целым [9, c. 30–302].
Богдан Александрович Кистяковский о правовом государстве писал: Характеризуя правовое государство надо признать, что основной признак этого государства заключается в том, что в нем власти положены известные границы, здесь власть ограничена и подзаконна...
Современное (!) конституционное государство является по преимуществу государством правовым; ведь власть в нем и организуется и осуществляет свои полномочия в силу правовых норм... В современном правовом государстве господствует не лица, а общие правила или правовые нормы [10, c. 559].
Весьма молодым для маститого ученого и депутата Государственной Думы Сергей Александрович Котляревский издал книгу "Власть и право", с примечательным подзаголовком – проблема правового государства. Основой государственных идей того времени Котляревский считал идею правового государства, находящейся в фокусе юридического мышления того времени [11, c. 7]. В этой книге автор рассматривает состояние исследования проблемы правового государства в отечественной юридической литературе. В той или иной мере к изучению этой проблемы подходил М.И. Коркунов, роль которого С.А. Котляревский оценивал как глубокую и замечательную попытку обосновать основы правового государства [11, c. 104].
Главное назначение правового государства – по С.А. Котляревскому, – быть государством справедливости, ценность его определяется ценностью самого правового начала и при том предположении, что закон в таком государстве всегда справедлив и что "способ его создания есть в то же самое время – при недостатках человеческой природы, – обеспечение этой возможной справедливости" [11, c. 104].
Итак мы видим, что российские юристы начала XX века ясно и четко связывали идею правового государства с необходимостью установления в стране народного представительства, принципов разделения власти, верховенства права справедливого и беспристрастного судопроизводства, реального самоуправления, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Но о последней ценности они не только грезили, но в краткой жизни I Государственной Думы продемонстрировали истинный гуманизм и возможности депутатов в правозащитной деятельности.
В составе народных представителей юристы-гуманисты были самыми активными, профессионалами законотворческой деятельности, они были убедительными в большинстве случаев, и во весь голос выступали и будоражили Думу по поводу защиты прав и свобод человека и гражданина, за амнистию политическим заключенным, отмену смертной казни и телесных наказаний, а также против полицейского и бюрократического произвола, ксенофобии и шовинизма, столь развитых в царской России.
Истинными защитниками народных интересов депутаты-юристы проявляли себя при первой же возможности. Таким случаем была тронная речь царя при открытии первой сессии Государственной Думы. Последний, конечно же, выразил свое едва терпимое отношение к парламентаризму и самодержавию. Но депутаты получили возможность ответить на речь царя и изложить свои взгляды на состояние дел, на взаимоотношения народных представителей и всей законодательной власти с исполнительной и судебной системами.
Как и всегда у депутатов было два варианта поведения. Восхитится самодержавием и царской властью, поклясться ей в верноподданническом поведении и забыть о своем истинном предназначении. В таком случае их ждала безмятежная жизнь.
Можно было выразить свое критическое отношение к власти, вскрыть язвы самодержавия, разоблачить взяточничество чиновников, произвол полиции, насилие над народом, нарушение прав и свобод человека и гражданина.
Под воздействие и активным напором юристов, земцев и иных прогрессивных народных представителей Дума избрала второй вариант.
Над ответом на тронную речь группа депутатов работала до 5 мая, когда глубокой ночью вынесла свой проект на обсуждение Думы, как документа особой важности, не терпящий промедления. На самом деле этот документ Думы по своей важности, по своему правовому и политическому пафосу можно сравнить с Декларацией Независимости и Декларацией прав человека, ибо мог стать их прообразом и получить историческое значение. В думском ответе на тронную речь содержатся как теоретические положения, так и практические соображения по превращению абсолютной монархии в ограниченную народным представительством и с правительством, составленным парламентским большинством. Или, как говорили в то время, с ответственными министрами, ибо их зависимость только от воли монарха превращала их в совершенно безответственных вельмож.
Итак, сделав несколько неизбежных реверансов, совершенно необходимых в таком случае, депутаты следующим образом обрисовали свой взгляд на состояние России. С их точки зрения страна сознала, что «главной язвой всей нашей государственной жизни является самовластие чиновников, отделяющих Царя от народа. И охваченная единодушным порывом, страна громко заявила, что обновление жизни возможно лишь на основе свободы, самодеятельности и участия самого народа в осуществлении власти законодательной и в контроле над властью исполнительной.
Вашему императорскому Величеству благоугодно было в Манифесте 17 октября 1905 года возвестить с высоты Престола твердую решимость положить эти именно начала в основу дальнейшего устроения судеб земли русской. И весь народ единодушным кликом восторга встретил эту весть» [12, c. 238] – говорилось в ответе депутатов. На этом славословия в адрес царя и царской власти закончились, и зазвучала речь истинных и убежденных радетелей за народное счастье и за неуклонное соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Уже первые дни свободы написали они царю, омрачились тяжелыми испытаниями, в которые ввергли страну те, кто, все еще преграждая народу путь к Царю и попирая все основы Высочайшего Манифеста 17 октября, покрыли страну позором бессудных казней, погромов, расстрелов и заточений [13, c. 239].
Никакое умиротворение страны, – полагали далее народные представители, – невозможно дотоле, доколе не станет ясно народу, что отныне не дано властям творить насилие, прикрываясь Именем Вашего Императорского Величества, доколе все министры не будут ответственны перед народным представительством и сообразно с этим не будет обновлена администрация на всех ступенях государственной службы [13, c. 240].
Столь радикальные суждения думцев, проистекало, думается от их чрезвычайно продвинутого правового и политического мировоззрения, совершенно адекватного европейскому правосознанию.
Далее юристы-профессионалы выделили наиболее актуальную юридическую проблему. «Но прежде всего, – написали они, – необходимо освободить Россию от действия тех чрезвычайных законов – усиленной и чрезвычайной охраны и военного положения, – под прикрытием которых особенно развилось и продолжает проявляться самовластие безответственных чиновников» [13, c. 240].
Народные представители категорично высказались против превращения действующего Государственного Совета в верхнюю палату парламента. В этой позиции сказались две важные теоретические проблемы: быть ли парламенту однопалатным или двухпалатным. Государственный Совет, по мнению депутатов, составленный из назначенных сановников от высших классов населения, но им, населением, не избранный не может быть палатой представительного органа. Кроме того, налоги или иные «денежные тягости» не могут назначаться учреждением, не представляющим собою массы налогоплательщиков [13, c. 240].
В области предстоящей законодательной деятельности Государственная Дума, исполняя долг, возложенный на народных представителей, как они совершенно обоснованно полагали, на них народом, посчитали долгом своим неотложно «обеспечить страну законом о неприкосновенности личности, свободе совести, свободе слова и печати, свободе союзов, собраний и стачек. Без обеспечения этих элементарных свобод, считали депутаты, никакая реформа общественных отношений не осуществима. Дума полагала важным гарантировать гражданам старинное право обращаться в высшие государственные инстанции, а поэтому возродить свободу петиций и обращений. Народные представители Первой Государственной Думы имели непреклонное убеждение в том, что ни свобода, ни порядок, основанный на праве, не могут быть прочно укреплены без установления общего равенства всех без исключения граждан перед законом» [13, c. 240].
Совершенно прогрессивным было требование парламентариев об отмене смертной казни и амнистии политических заключенных.
Заботой членов Думы о народном благосостоянии проникнуты намерения немедленно заняться разработкой законов о равноправии крестьян и снятии с них гнета и произвола, об охране наемного труда, о праве на образование, об установлении истинного самоуправления, равноправии народов и национальностей.
Как видно из изложенного, ответ на тронную речь царя представляет собой программу деятельности представительного органа и вполне адекватно отражает цивилизованные параметры истинного конституционализма и правового государства. Этим заявлением Дума остановилась в полушаге от того, чтобы выработать некий нормативно-правовой акт близкий по духу Декларации прав и свобод.
Список литературы Российские юристы - депутаты I Государственной Думы о правовом государстве и правах человека
- Сын Богдана Александровича Кистяковского Георгий (Джордж) в далекой Америке стал великим химиком и ученым нашего времени. Вместе с Ферми и другими учеными создавал в Лос-Аламос атомную бомбу. А потом стал советником президента Эйзенхауэра по науке и технике. Всемирно известный ученый с русскими корнями в Белом Доме дорого стоит.
- Современному читателю более известен его сын - Владимир Владимирович Набоков. Знаменитый русский и американский писатель, поэт, драматург и переводчик.
- Федор Федорович Кокошкин декретом Временного правительства был назначен председателем специальной комиссии по выработке закона об Учредительном собрании.
- Винавер М.М. Адвокатура и правовое государства. Оттиск из газеты "Право". С.-Пт., 1905.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах. Дополненный том 1А.