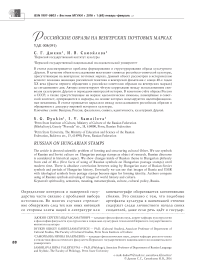Российские образы на венгерских почтовых марках
Автор: Дюкин Сергей Габдульсаматович, Самойлова Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (69), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема формирования и структурирования образа культурного Другого. В качестве объекта исследования выступают символы российско-советской культуры, присутствующие на венгерских почтовых марках. Данный объект рассмотрен в историческом аспекте: показана эволюция российской тематики в венгерской филателии с конца 40-х годов XX века (факты первого обращения к российско-советским образам на венгерских марках) до сегодняшнего дня. Авторы констатируют чёткую корреляцию между использованием символов культурного Другого и периодами венгерской истории. В конечном счёте образы России и СССР, а также присутствующие на марках идеологические символы, помещённые в советский контекст, превращаются в маркеры, на основе которых моделируются идентификационные механизмы. В статье проводятся параллели между использованием российских образов и обращением к дискурсу мировой истории и культуры.
Венгрия, Россия, филателия, символ, идентичность, культурный другой
Короткий адрес: https://sciup.org/144160577
IDR: 144160577 | УДК: 008(091)
Текст научной статьи Российские образы на венгерских почтовых марках
Определение интересов и намерений государства часто связано с проблемой выбора источников. Во многих случаях стремление обнаружить след тех или иных интенций со стороны элиты наций в литературе или кинематографе оборачивается когнитивными сбоями. Это связано с тем, что подобные артефакты культуры в наименьшей степени содержат следы личностного начала своих создателей, даже если речь идёт о государ- ственном заказе. Символические единицы, вкрапляемые в тексты, лишены однозначности: связь между означающим и означаемым во многом зависит от сиюминутного контекста, индивидуальных ассоциаций, а также от герменевтической позиции как создателя, так и воспринимающего.
Иной вариант демонстрации государством собственного видения оснований содержания национальной идентичности, закрепляемых в однозначной и понятной массам символике, представляют собой почтовые марки. Об их месте среди инструментов национальной идентификации в течение последних лет написан ряд текстов. В частности, можно отметить диссертации В. А. Шевляковой и Ю. А. Ишутиной [4; 1], посвящённые итальянской и тайваньской идентичности соответственно.
Обращаясь к маркам Венгрии, мы сосредоточимся на заявленных инструментах построения национальной идентичности, предлагаемых государством в отношении как объекта данной идентификации, так и внешнего созерцателя, оценивающего способ идентификации. В рамках обозначенного предмета нам хотелось бы выделить особый мини-предмет — использование в тематике марок образов, связанных с Россией, которая в данном случае берёт на себя роль культурного Другого .
Появление в венгерской филателии российских образов коррелирует с определёнными тематическими колебаниями и за пределами собственно российского дискурса. Иначе говоря, мы вправе предполагать, что появление или, наоборот, вытеснение российских сигналов на венгерских почтовых марках большей частью совпадает с изменениями тематической конъюнктуры, обращённой в сторону собственной истории и культуры. И в этом контексте, разумеется, очевидно предположение о зависимости российскости в венгерском символическом поле от конфигурации исторических периодов.
Помимо российских образов и собственно внутренней венгерской символики, в поле данного микроисследования присутствуют другие внешние для Венгрии культурные маркеры, обозначающие определённые национальные идентификационные ориентиры. Цель исследования, таким образом, выводится через два уровня. Во-первых, необходимо понять, как российская символика используется венгерским субъектом (филателистической индустрией) в контексте выстраивания идентификационных стратегий. Помимо этой частной цели возможен выход на более общий уровень — на выявление закономерностей в манипуляциях символами различных национальных культур в аспекте реализации культурной политики, частью которой является процесс идентификации. Обе цели при работе с филателистическим материалом достигаются при использовании структурно-семиотического анализа, дополненного элементами функционального анализа.
Ввиду той особой роли российской тематики, которая возникает в контексте данной рефлексии, определённое значение получают собственно российские марки аналогичного периода, как ответ и отражение венгерского способа осознания своей самости в её соотношении с культурным Другим .
Первые марки, отсылающие созерцателя к российской тематике, появляются в Венгрии в 1947 году. Это изображения Ленина, Сталина и монумента Освобождения в Будапеште. Все марки объединены серией «30лет Октябрьской революции». Интересна в данном контексте взаимосвязь, устанавливаемая между двумя датами — 1917 и 1945 годами. Обозначив в момент становления коммунистической диктатуры своё вхождение в советский дискурс путём использования идеологизированных символов, в последующие годы венгерская филателия перешла к выражению лояльности перед восточным гегемоном через использование в том числе маркеров дореволюционной российской культуры. В частности, речь идёт о А. Пушкине, Л. Толстом и А. Попове. В целом же с полной уверенностью можно констатировать, что наибольшая плотность использования российско-советских образов в венгерской филателии приходится на 1947—1953 годы. Исторически данный период характеризуется абсолютной концентрацией власти в руках лидера Коммунистической партии Венгрии М. Ракоши, проводившего политику репрессий в контексте всецелого копирования советской модели управления.
В 1948 году выходит серия «Зарубежные учёные», отмеченная маркой, которая была посвящена изобретателю радио А. Попову, а в серии «Писатели» появляются марки с изображением Л. Толстого и М. Горького. В следующем году венгерская филателия отмечена двумя марками с российскими персонажами. Это А. Пушкин и И. Сталин. В 1950 году выходит только одна марка со ссылкой на Россию. Она посвящена пятилетию освобождения Венгрии от нацизма. На ней изображены советские солдаты. Максимальным числом ссылок на Россию-СССР в венгерской филателии за всю её историю отмечен 1951 год, давший десять марок на интересующую нас тему. Это серия «Максим Горький», состоящая из трёх однотипных знаков с портретом писателя; серия «Октябрьская революция», которая включает изображения штурма Зимнего дворца, руководящего матросами Ленина и Ленина со Сталиным на фоне Спасской башни Кремля и флагов; серия «День рождения Сталина», состоящая из двух портретов советского лидера; марка с изображением советского и венгерского флагов; марка «Советские рабочие дают наставления своим венгерским коллегам». Налицо вертикальный характер семиозиса, осуществляемого с помощью почтовых знаков. Все изображения, за исключением М. Горького (также включаемого в идеологизированный контекст), сугубо политизированы. Венгерский субъект добровольно занимает подчинённую позицию: венгерские рабочие пассивны перед своими советскими коллегами, а венгерский флаг изображается на втором плане позади советского.
Обозначенное обращение в филателии к изображениям глав других государств, носящее предельно уплотнённый характер, также указывает на выстраиваемость определённой иерархии, в которой субъект семиозиса ставит себя на нижнюю ступень ментальной иерархии.
После 1951 года число обращений к российско-советской тематике заметно уменьшается. В 1952 году нет ни одной подобной марки. В 1953 году выходит марка с изображением Сталина в связи с его смертью. Также выпускается серия из двух марок, посвящённых десятилетию окончания Сталинградской битвы.
В эпоху попытки десталинизации венгерского общества (1953—1956 годы) выходит лишь одна марка с портретом Ленина — в 1954 году.
Важно отметить, что появление в венгерской филателии российских образов совпадает с её обращением к зарубежной тематике в целом. Для рассмотренного периода характерны немногочисленные обращения к западной литературе (В. Гюго, Э. По, М. Твен) и к революционной истории (Парижская коммуна). До конца Второй мировой войны тематика венгерских марок не выходила за пределы внутренней символики. Таким образом, можно говорить о некотором развороте идентификационных стратегий во внешнюю сторону, о принятии в структуру представления о себе маркеров, важных для мирового сообщества. Однако в конечном счёте ориентация на всеобщее ассимилируется и подавляется построением иерархической ментальной системы, ориентированной на неравную связь с особенным , роль которого выполняет Советский Союз.
После антикоммунистического восстания 1956 года частота обращений к российской истории, культуре, топонимике заметно снижается. Венгерская филателия прилагает усилия для гармонизации ситуации балансирования между различными культурными контекстами. То, что мы видим между 1947 и 1953 годом, можно расценить как постро- ение агрессивной идентичности закрытого типа. Появление в этом случае Другого в виде российско-советской тематики есть не более, чем замена подлинного объекта идентификации его симулякром, в качестве которого используется собственная копия. Всемирное культурное наследие в данном случае отбрасывается как опасное, так как субъект радикальной диктатуры коммунистического типа ощущает свою шаткость. По замечанию П. Рикера, «те, кто видят угрозу для себя в непохожести другого, не уверены в себе» [2, c. 45].
В обозначенный период ссылками на факты советского прошлого и настоящего отмечен далеко не каждый год истории венгерской филателии между 1957 и 1988 годом, то есть в эпоху «мягкой» кадаровской диктатуры. В этот период в тематическом наборе венгерской филателии кардинальным образом меняется соотношение Россия-Запад . На почтовых изображениях всё чаще появляются деятели западноевропейской культуры, достопримечательности европейских городов, также заметное место в арочной тематике начинают занимать международные экономические выставки. Так, в 1958 году на венгерских марках нет ни одного изображения, связанного с Советским Союзом, но выпускается серия, посвящённая выставке в Брюсселе, и марка с фотографией Праги. В последующие годы усиливается международная составляющая, помимо России и СССР. В 1960-е годы среди изображений на марках мы обнаруживаем физиков Д. Гленна и С. Карпентера, основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена, жену американского президента Элеонору Рузвельт, Микеланджело, Галилея, Шекспира, Гайдна, Шиллера, а также фотографии мировых городов (Бейрут, Афины, Франкфурт), флаги участников Чемпионата мира по футболу 1962 года (советский флаг отсутствует).
Российская тема, при некотором ослаблении, меняет на протяжении конца 1950-х — 1960-х годов в венгерской филателии вну- треннюю конфигурацию. Ослабевает идеологический накал ссылок на российско-советский дискурс. Между 1967 и 1988 годами, заключающими в себе эпоху «мягкого» социализма, в Венгрии было выпущено десять марок, устанавливающих связь с советской идеологией. В большинстве своём это изображения Ленина. Помимо этого, по одной марке посвящено пятидесятилетию Октябрьской революции и пятидесятилетию образования СССР. На этом фоне доминирующей предстаёт тема космонавтики: семнадцать отдельных марок и серий содержат изображения Ю. Гагарина, Г. Титова, А. Леонова, В. Терешковой и других космонавтов, а также советских космических кораблей. Тема освоения космоса продолжает устойчиво присутствовать в венгерской филателии вплоть до начала 1980-х годов. Наряду с этим в данный период встречаются марки с изображением А. Пушкина, В. Маяковского и Ф. Беллинсгаузена, центрального здания Совета экономической взаимопомощи в Москве. В серии «Города мира» одна марка посвящена Москве, а в серии «Оперы» одна из марок отсылает коллекционеров к опере А. Бородина «Князь Игорь».
Одновременно с относительной деидеологизацией российско-советского дискурса наблюдается расширение объёма ссылок на внешние культурные факторы. В 1960— 1980-е годы нормой для венгерской филателии становится выпуск серий с произведениями мирового искусства, изображениями деятелей зарубежной политики, культуры, видами мировых достопримечательностей. Начиная с середины 1980-х годов соотношение в рамках дихотомии Россия-Запад в венгерской филателии однозначно изменяется в пользу последнего. Между 1975 и 1988 годами российско-венгерская тематика отмечена всего лишь шестью марками, которые ассимилируются контекстом из живописи Рафаэля и Тициана, портретов братьев Монгольфье, Ж. Верна, И. Гёте, П. Пикассо, М. Лютера, Ф. Шопена, изображений зданий ООН в городах западного мира и т.п.
Налицо стремление со стороны реализующейся в филателистической символике венгерской модальной личности к преодолению идентификационных стандартов, навязываемых в предшествующий период совокупностью политических реалий. Подобно тому, как Венгрия кадаровского периода (1956— 1989 годы) была вынуждена проводить политику «двойной игры» в собственно политическом и экономическом поле, точно так же она пыталась балансировать между советским и западным цивилизационными пространствами. Принятие западной идентичности, начиная с 1960-х годов, обеспечивалось, во-первых, постепенной тематической сменой ссылок на внешние символы. Во-вторых, одновременно происходит смена внутренних ориентиров. В филателии данного периода всё большее место занимают религия (рождественские и пасхальные марки), искусство, средневековая история Венгрии. В идеологизированной сфере явно преобладает молодёжная тематика. Почти все серии, связанные с коммунистическим движением, посвящены в это время венгерскому комсомолу и пионерии. Исключение составляют лишь юбилейные марки, связанные с Венгерской советской республикой 1919 года. На определённую реювенацию самосознания указывает в этот же период постоянный выпуск марок с детскими рисунками, иллюстрациями к детским книгам и т.д. В послевоенной филателии детская тематика не является каким-то исключительным явлением. В некотором роде можно сказать, что детский дискурс в символике марок сродни присутствию в филателии флоры, фауны, спорта и других общеобязательных тем. Однако обращение к этому тематическому блоку в Венгрии обладает предельной частотой и устойчивостью. Совокупность марок, отсылающих нас к теме детства, в 1970—1980-е годы не меньше, чем общее число почтовых знаков, связанных с идеологическим дискурсом. Иную картину являют филателии других стран социалистического блока. Среди советских, польских или восточногерманских марок в аналогичный период обнаруживается гораздо большее число изображений, связанных с коммунистической идеологией, военной историей, армией. Открытость в отношении внешнего культурного пространства, аналогичную той, что мы находим в Венгрии, в этот же период демонстрирует лишь советская филателия. При этом советская идентификационная напряжённость, отчасти сглаживаемая выходом за собственные пределы, не способна в данном случае найти компенсацию в виде инфантилизации символики: в СССР марки с детскими рисунками и иллюстрациями к детским книгам единичны.
Расширение в обозначенный период общей филателистической тематики коррелирует с процессом преодоления позднесоциалистической Венгрией идеологической исклю-ченности из мирового сообщества. Именно с этим и связан поиск новой символики, на основе которой создаются основания для гармоничной национально-культурной идентичности без негативного субстрата. Именно этот аспект формирования идентификационных институтов подчёркивает И. Фадеева: «Культурно-национальная идентичность предполагает разрушение собственно аутентичного опыта, поскольку основана на инте-риоризации опыта “другого”, то есть на семиотическом опосредовании символических смыслов» [3, с. 72].
С конца 1980-х годов Венгрия входит в новый исторический период своего существования. В аспекте взаимоотношений с Россией и рефлексии в её отношении со стороны венгров эта эпоха имеет внутреннюю дифференциацию. В 1990-е годы наблюдалось однозначное охлаждение в отношениях между двумя странами. Венгерская сторона отказывалась в том числе даже от выгодного для себя экономического сотрудничества с Россией. С санкции государства в Венгрии были актуализированы факты взаимного негативного исторического опыта. В первые полтора десятилетия XXI века наметилась тенденция к сближению между двумя странами, особо ярко проявляющаяся после прихода к власти правоцентристской партии «ФИДЕС» в 2008 году (интересно, что, будучи у власти на рубеже тысячелетий, эта же партия отчасти разыгрывала русофобскую карту). Несмотря на подобные изменения внешнеполитической конъюнктуры, государственный заказ, проявляющийся в филателистической символике, между 1989 и 2015 годами остаётся статичным. Выражается данный факт в игнорировании российской тематики. Даже на фоне кадаровской эпохи, в течение которой, как мы увидели, происходило максимально возможное дистанцирование от российско-советского дискурса, после десоветизации российская тематика почти полностью устраняется из венгерской филателии. За этот период мы находим всего лишь два исключения. Это марка с изображением физиолога И. Павлова в серии «Выдающиеся медики» 1989 года и марка с портретом Ю. Гагарина, приуроченная в 2011 году к пятидесятилетию первого полёта человека в космос. В какой-то степени эту марку можно воспринимать как дань уважения собственной филателистической традиции, сложившейся в 1960-е годы.
Сегодня этот факт является последней точкой в российском нарративе, создаваемом венгерской филателией на протяжении почти семидесяти лет. Вопреки возможным профанным ожиданиям, балансирующим на стыке публицистического и обыденного восприятия исторического прошлого, подразумевающего всецелое подчинение всех сторон жизни в стране социалистической системе и интересам СССР, российско-советская тематика венгерских марок носит довольно фрагментарный характер. Особенно в поздний социалистический период становится очевидным, что российские образы целиком ассимилированы всемирным культурным дискурсом, являются его составной и неотъемлемой частью. То, что около половины марок на «российскую тему», выпущенных в Венгрии, связаны с освоением космоса, указывает на подчинение российско-советского дискурса магистральной линии мирового прогресса в отражении последнего в официальной семиотике. Космонавтику можно отнести к одному из наиболее интернациональных нарративов, создаваемых в СССР, поэтому он и присутствует неизменно в венгерской филателистической концептосфере. В то же время налицо жёсткая корреляция между тоталитаризацией общества и семиотической агрессией со стороны советского идеологического дискурса.
Таким образом, обоснованной становится гипотеза о достаточно однозначном, линейном соотношении между филателистической символикой, государственной идеологией и способах построения идентификационных механизмов в аспекте обращения к культурному Другому . Значительную роль в официальной семиотической структуре играет соотношение между внутренней и внешней символикой, а также частота обращений к одному из объектов внешней ориентации.
Список литературы Российские образы на венгерских почтовых марках
- Ишутина Ю. А. Формирование и репрезентация национальной идентичности тайваньцев: автореферат на соискание учёной степени кандидата культурологии: 24.00.01 - история и теория культуры / Ишутина Юлия Александровна; Дальневосточный государственный технический университет имени В. В. Куйбышева. Владивосток, 2006.
- Рикер П. Универсальность и сила различия // Керни Р. Диалоги о Европе / [пер. с англ. В. Л. Алешиной и др.]. Москва: Весь мир, 2002. С. 44-50.
- Фадеева И. Е. Аутентичный опыт и тексты культуры // Семиозис и культура: сборник научных статей / Министерство образования и науки РФ, Междунар. акад. наук (Рус. секция), Коми гос. пед. ин-т, Каф. Культурологии; [под общ. ред. И. Е. Фадеевой]. Сыктывкар: Коми государственный педагогический институт, 2007. С. 72-77.
- Шевлякова Д. А. Доминанты национальной идентичности итальянцев: автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора культурологии: 24.00.01 - история и теория культуры / Шевлякова Дарья Александровна; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Москва, 2011.