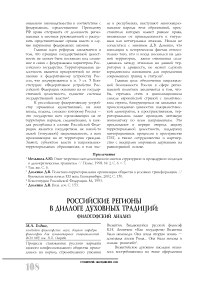Российские регионы в диалоге духовных традиций: философский анализ
Автор: Елдин М.А.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720347
IDR: 14720347
Текст статьи Российские регионы в диалоге духовных традиций: философский анализ
-
1 Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис. 1998. № 2. С. 6 —7.
-
2 Там же. С. 6.
-
3 Доленко Д.В. Политико-территориальная организация общества в условиях трансформации // Вузовская наука начала XXI века. Екатеринбург, 2002. С. 150.
-
4 Конституция Российской Федерации. М., 1993.
-
5 Доленко Д.В. Указ. соч. С. 153.
РОССИЙСКИЕ регионы[
В ДИАЛОГЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ:
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
М.А. Елдин, кандидат философских наук, доцент кафедры философии для гуманитарных специальностей ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева_____________________ Процессы становления русского варианта единого конфессионального общества приходились на период стремительного угасания
Византии. Выдающийся русский философ К.Н. Леонтьев: «Как государство Византия была немолода. Она жила вторую жизнь — доживала жизнь Рима... Она была молода и сильна религией»1.
Византийское духовное наследие оказалось востребованным на этапе оформления общероссийского социально-экономического и политического пространства, когда появилась новая империя — «Москва — Третий Рим», в отличие от первых двух (Римской и Византийской) носившая периферийный характер. В российской специфике православие выступало не сколько в качестве нравственно- дидактической доминанты жизни общества или основания совершенствования духовной жизни индивида и общества, что безусловно присутствовало в древнерусской традиции, сколько в качестве политического и мифоритуального фактора, известного особенно со времен Петра Великого, как русский цезарепапизм. Однако попытки решить конъюнктурные политические проблемы с помощью политического контроля над Русской православной церковью наталкивались на надмирской характер указанной конфессии. И тогда очень часто российская действительность изменялась по более понятным российской элите западническим стандартам быта, культурных установок, интеллектуальной жизни. В статье «Византизм и Россия» выдающийся русский философ XIX в. Вл. Соловьев верно писал: «Византия погибла потому, что чуждалась самой мысли о совершенствовании... Россия в XVII веке избегла участи Византии: она сознала свою несостоятельность и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого решения воплотился в лице Петра Великого»2.
В духе западнического реформационного секуляризма выступал и Н.А. Бердяев, представлявший православную церковь в виде монофизитского организма, где человеческое начало подавлено «извне навязанной идеей смирения и творчества». Согласно мыслям философа, невозможно творить произведения искусства, открывать тайны мироздания, реформировать общество в состоянии смирения. Бердяев приводит пример святителя Афанасия Великого (IV в.), которому, как он думает, истина единосущия открылась не в состоянии смирения, а в состоянии творческого подъема и озарения3.
Российская духовная традиция складывалась прежде всего в русле политического, а в контексте просветительского аспекта развития общественной жизни, выступая с идеями преобразования мифоритуализма. Следует отметить, что и праздничные ритуа- лы господствующего в России христианского вероучения тесно переплеталась с языческими суевериями и обрядами. Масштабы синкретизма для России были беспрецедентны. Он опирался на живучесть веры в силы природы и использование в качестве магических «инструментов» христианских ритуальных принадлежностей. Большое значение в религиозных ритуалах имело задабривание умерших, которые считались распорядителями сил земли.
Христианизация на Руси в конечном счете причудливым образом отразилась на народном менталитете. Многочисленные свидетельства XVIII — XIX веков говорят о том, что русский народ искренне исповедовал православное христианство. Однако условия погружали народное самосознание в бездонный мир суеверий, примет и обрядов.
Реальным итогом этого было весьма слабое приобщение русского народонаселения к организационным структурам православия. Исследователь И.Ф. Петровская приводит документ, позволяющий представить духовную атмосферу того периода: «Приказчику ж смотреть накрепко, чтоб. крестьяне и их жены и дети. по воскресным дням и по праздникам. для моления приходили к церкви.» и в противном случае «бить батогами на мирском сходе нещадно»4.
Своеобразие подобного отношения российского крестьянства к церкви имело немалые политические следствия. Одно из них — максимальная контактность с народами иных религиозных конфессий. Вполне очевидно и то, что без статуса государственной религии, без поддержки государственной машины российское православие не имело бы серьезных шансов обеспечить себе всепоглощающий характер влияния, что было достигнуто в XIX в. Как замечает исследователь социальных аспектов жизнедеятельности человека Н. Смелзер, «практически почти все члены общества проявляют религиозную преданность церкви, которая обычно связана с государством»5.
Уникальным по своей специфике, социально-этическим традициям является опыт Поволжского региона относительно восприятия ценностей русской религиозной традиции в плане межобщинного единения России.
Уже в период раннесредневековых форм взаимодействия волго-вятские этни-
РОССНЕВЕДЕННЕ
ческие группы входили в сферу экономического и политического влияния российских структур общества и государства.
В то же время регион Средневолжья был сферой воздействия не только русской конфессиональной традиции, но и тюркско-исламской. Так, в период конца XIII — начала XIV столетия в Мохше — центре ордынского улуса (до 1395 г.) началась исламизация края; в районе современного центра Наровчат до сего времени находят археологические свидетельства интенсивного мусульманского окультуривания (Пензенская обл.). М.Ф. Жиганов в своем обстоятельном исследовании по духовной фактуре древнемордовских археологических изысканий в указанный период отмечает: «стали хоронить по-мусульмански»6. Значительная часть мордовского населения была оттеснена на северную периферию Волго-Окского междуречья, к югу от Казани, где обрабатывала земли татарских феодалов6. Необходимо считаться с тем обстоятельством, что численность мусульманского населения под воздействием демографических и миграционных процессов в России возрастает и будет расти в обозримом будущем.
Традиционные духовные ценности общественных отношений народов Средневол-жья основывались на важнейших принципах, присущих большинству семей других народов: самобытности, прочности, родственной любви, теплоте отношений между всеми членами, общности духовных интересов. Жить в ладу и согласии — вот принцип, которым руководствовалась мордва в семье и во взаимоотношениях с миром. Эта идея нашла свое воплощение в устно-поэтическом творчестве, социальной культуре, менталитете.
Типичным для социальных отношений, согласно воззрениям мордвы, должно быть уважение друг к другу. Основой совместного общежития являлась семья, идеалом которой были взаимопомощь и уважение: «Живут, друг другу угождают, друг друга уважают», «У хороших супругов одни мысли, одни сло-ва»7. «В характере мордвы невольно наблюдается какое-то горделивое спокойствие, порядочность и сдержанность, полная сознания своего собственного достоинства и чуждая всякого рода выходок, резкостей, крайностей», — писал русский этнограф Н.Н. Оглоблин в конце XIX века8. Это высказывание о мордовском характере представляется во многом верным и сегодня. В современной научной и художественной литературе, прямо или косвенно рассматривающей специфические национальные качества мордвы, можно выделить ряд наиболее часто встречающихся черт, подтверждающих вышеприведенное мнение. К таким чертам, как правило, относятся традиционность, настойчивость, упорство, спокойствие, умеренность, уравновешенность и т. д. В культуру финноугорских народов христианство вошло лишь 350 лет назад, причем в значительной степени принудительно, поэтому «ограничения христианской морали у них практически от-сутствуют»9.
Под определенным влиянием перечисленных особенностей развития России формировалась и ее государственная машина. Ощущалась постоянная необходимость насильственного изъятия государством у крестьян прибавочного продукта в размерах, далеко превосходящих то, что русский крестьянин мог дать. Отсюда деспотическая, самодержавная форма государственного правления, сочетавшая государственный патернализм с потусторонними, подчас утопическими, проектами общественной идеологии.
Отличие западной и российской цивилизации было обусловлено и разной ролью христианской этики, что связано с языческими рудиментами. В центре деятельности людей еще в XVIII — XIX вв. стояла не трудовая, а магическая практика: «Низший клир был малограмотным или вовсе безграмотным, учился службам со слуху, а высший отличался величайшей распущенностью» в них. Мирянин искал близкого бога, который во всякое время был легкодоступным просьбам верующего. Икона — самый распространенный объект культа, ставший в русском обрядоверии подлинным фетишем. Икона видит и слышит, живет и чувствует, а если не выполняет своих функций, то ее забрасывают10.
По описанию современников, русские «...молящиеся вели себя как на базаре, стояли в церкви в шапках, громко разговаривали и сквернословили, попы совершали богослужение в пьяном виде, заводили между собой ругань и драки до кровопролития»11. В такой ситуации говорить о глубоком при- общении русских людей к одной из мировых религий не приходится.
Однако в России существовали и довольно влиятельные духовные движения, способствовавшие зарождению новых форм культурного созидания. Речь идет о традиции византийского исихазма, проявившейся в русском нестяжательстве XV — XVI вв. Центральным в учении Нила Сорского был идеал общего труда во имя спасения души: «Брат братом помогает» —молись и трудись, что означало самостоятельный путь решения религиозных вопросов.
Социально-духовные противоречия последующей российской истории связаны с попыткой оформить и смирить, упорядочить многообразие традиций на путях установле- ния единовластия, осознавшегося к имперскому периоду в виде триады «православие, самодержавие, народность».
Следует заметить, что истоки конфессиональных традиций этнокультурных сообществ региона Средневолжья уходят в столь давние времена, что определить их с необходимой для знания точностью невозможно. Данное обстоятельство обусловлено: 1) особым геополитическим положением Поволжья; 2) особенностью социально-экономических процессов данного региона и открытого воздействия на него различных этносо-циологических типологий развития; 3) перманентно меняющимся фактором доминантного воздействия различных этико-религиоз- ных доктрин.
Исходя из указанного основным объектом при рассмотрении мировоззренческих оснований этносоциального развития Сред- неволжского региона следует считать структуру нравственного сознания и общественного уклада, господствовавшего в тех или иных традиционализмах: тюркского, или финно-угорского плана. Важной составляющей был аспект философии и семантики языка, имеющий большое значение при распространении общероссийской парадигмы общественного сознания.
О широком стремлении наладить мирный симбиоз разнородных конфессиональных культур свидетельствует множество
Примечания
1Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. С. 107.
2 Соловьев В.С. Спор о справедливости: Сочинения. М., Харьков, 1999. С. 677.
3Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. С. 30.
фактов из культурной жизни России XIX — начала XX в. Достаточно широко известен факт веротерпимого отношения русских властей к распространению ислама в Поволжье и развитию исламского просветительства уже во времена Екатерины II, которая своими распоряжениями и указами конституировала положение исламского духовенства в империи. Значительно позднее по протекции русских властей в столице Российской империи открывается соборная мечеть12. Эти и другие явления в культурной жизни свидетельствовали о присущей российскому самосознанию терпимости в отношении инорелигиозных традиций. В то же самое время русское общество сохраняло свой культурный облик, которому свой- ственны: веротерпимость, отсутствие демонизма, жесточайшей борьбы сект. Можно сказать, что Российское государство, стремясь приспособиться к весьма агрессивному окружению и неудобной близости Запада, не только преодолевало свою специфику, но и стремилось к институционализации такого положения. В условиях «тотальной эта-тизации» произошло реанимирование общины как социальной формы адаптивного, сплачивающего общения. В XVII в. началось интенсивное распространение русской тягловой общины в Сибири, на Кубани, Кавказе, Украине. Эти процессы дали не только социально-экономический, но и социокультурный эффект. Получили развитие кол- лективистские ценности, жившие в русском народе. Это стало основой героизма российского солдата, оживило царистские настроения и было осознано как духовная ценность.
Проблемы современной специфики общественного самосознания в России связаны прежде всего с изменениями, происходящими в ментальности общества. Нельзя не отметить тот факт воздействия глубоких традиций, что обусловил своеобразие российской духовной проблематики. И это важно не столько с социально-политической, сколько с духовно-нравственной точки зрения, корни которой уходят в глубокое прошлое российского народа, его верования.
4 Петровская И.Ф. Наказы вотчинным приказчикам первой четверти XVIII века // Ист. архив. 1953. № 8. С. 238.
5Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. М., 1994. С. 467.
6Жиганов М.Ф. Память веков. Саранск, 1976. С. 76.
7Майнов В.Н. Очерки юридического быта мордвы. СПб., 1885. С. 129.
8Оглоблин Н.Н. В мордовском краю // Масторава. 2000. № 6 / 7 (9 / 10). С. 3.
9Дмитриева Т.Б. Психическое здоровье россиян // Человек. 2002. С. 29.
10Никольский Н.М. Реформа Никона и происхождение раскола // «Три века России от смуты, до нашего времени. Т. 2. М., 1991. С. 7.
11 Там же. С. 10.
12Бякишев В. Первая в столице // Наука и религия. 1987. № 5. С. 30.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ: О НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»
Актуальность названной темы обусловлена прежде всего ее неразработанностью, особенно в историко-методологическом отношении. По крайней мере, нам не известны сколько-нибудь значительные работы с подобной постановкой вопроса. Между тем именно в этот период, вошедший в историю под аллегорическим названием «оттепели», иногда с дополнением — «Хрущевской», произошли существенные изменения в авторитарной политической системе, в основе своей с внутренне присущей ей статичностью, постоянством и неизменностью. Исторический опыт подтверждает, что любые новации в предельно централизованной авторитарной системе, какими бы побуждениями и обстоятельствами они ни обусловливались, таят в себе серьезную опасность для самой этой системы. Рассмотрение проблемы под таким углом зрения требует решительного дистанцирования от упрощенно-оценочного подхода к исследованию сложных и противоречивых явлений данного периода. Правомерна, наконец, и необходимость ис- следования ее регионального аспекта, имеющего не только теоретическое, но и сугубо практическое значение для разработки стратегии социально-экономического и общественно-политического развития страны и ее отдельных регионов..
Хронологически оттепель не укладывается в рамках традиционной периодизации советской истории, где этапным событием считался ХХ съезд КПСС. Действительное же эпохальное значение имела смерть Сталина, богочеловека (конечно не под углом зрения «огромности потери»), имя которого стало символом жесточайшего террора и репрессий, узаконенного беззакония и средневекового бесправия. Закончилась эпоха тирании, основанной на голоде (еще Аристотель увидел непосредственную связь между нищетой и тиранией), подавлении индивидуальности и внеэкономическом принуждении. Закрылась самая мрачная страница в истории Отечества. В лице Сталина и его осиротевших сановников система власти утратила свою железобетонную скрепу.
Предельное перенапряжение общества в предыдущие десятилетия сопровождалось колоссальным выбросом энергии, за которым неизбежно следовали более или менее расслабленное состояние общества, спад остроты ощущения страха. Принципиально важ-
Список литературы Российские регионы в диалоге духовных традиций: философский анализ
- Леонтьев К.Н. Избранное. М„ 1993. С. 107
- Соловьев B.C. Спор о справедливости: Сочинения. М., Харьков, 1999. С. 677
- Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993. С. 30
- Петровская И.Ф. Наказы вотчинным приказчикам первой четверти XVIII века//Ист. архив. 1953. №8. С. 238
- Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. М., 1994. С. 467
- Жиганов М.Ф. Память веков. Саранск, 1976. С. 76
- Майнов В.Н. Очерки юридического быта мордвы. СПб., 1885. С. 129
- Оглоблин Н.Н. В мордовском краю//Масторава. 2000. № 6/7 (9/10). С. 3
- Дмитриева Т.Б. Психическое здоровье россиян//Человек. 2002. С. 29
- Никольский Н.М. Реформа Никона и происхождение раскола//«Три века России от смуты, до нашего времени. Т. 2. М., 1991. С. 7
- Бякишев В. Первая в столице//Наука и религия. 1987. № 5. С. 30