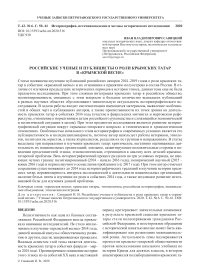Российские ученые и публицисты о роли крымских татар в "крымской весне"
Автор: Савицкий Иван Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению публикаций российских авторов 2014-2019 годов о роли крымских татар в событиях «крымской весны» и их отношении к принятию полуострова в состав России. В отличие от изучения предыдущих исторических периодов в истории этноса, данная тема еще не была предметом исследования. При этом сложная интеграция крымских татар в российское общество, политизированность связанных с этим вопросов и большое количество вышедших публикаций в разных научных областях обусловливают значительную актуальность историографического исследования. В задачи работы входит систематизация имеющихся материалов, выявление особенностей и общих черт в публикациях авторов, а также преемственности их точек зрения на деятельность крымских татар в событиях 2014 года (участие в февральских митингах и мартовском референдуме, отношение к нормативным актам российского руководства и сложившейся экономической и политической ситуации в целом). При этом предметом исследования является развитие историографической ситуации вокруг «крымско-татарского вопроса» в тематическом и хронологическом отношениях. Особенностью начального этапа историографии в современных условиях является его публицистичность и полидисциплинарность, поэтому автор использует работы историков, этнологов, политологов, юристов, а также журналистов, разделяя их по группам и направлениям. В статье выделены три направления в изучении крымских татар: критическое, негативно оценивающее деятельность их национальных организаций; лояльное, акцентирующее положительные стороны в поведении представителей этноса; этнополитическое, стремящееся к анализу всех деталей крымскотатарской проблемы. Весь историографический процесс разделен на три условных периода, не имеющих четких границ: политизированный (2014 - начало 2016 года), эмпирический научный (2015 -конец 2016 года) и период научного осмысления пройденного (с 2017 года). При этом автор отмечает сохранение существовавших до 2014 года историографических традиций в изучении истории крымских татар, неравномерность интереса исследователей к деятельности национальных организаций, наличие белых пятен в изучении их роли в событиях 2014 года, а также медленное развитие источниковой базы для изучения данной проблемы.
"крымская весна", крымские татары, этнополитика, российская историография, национальные объединения, этническая интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/147227292
IDR: 147227292 | УДК: 930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.516
Текст научной статьи Российские ученые и публицисты о роли крымских татар в "крымской весне"
Полиэтничность как одна из базовых составляющих Российской Федерации всегда привлекала внимание исследователей. Не стало исключением и изучение «крымской весны» 2014 года, давшей мощный импульс общественному развитию и другим, еще не завершившимся процессам. Важным аспектом этой темы является деятельность крымских татар в событиях февраля – марта 2014 года1. Противоречивое освещение истории этого этноса из-за событий ХХ века в настоящий период претерпевает значительные изменения: в результате крымской сецессии крымские татары стали полноправными гражданами Российской Федерации, и неосторожное обращение с исторической памятью вполне может быть квалифицировано как разжигание межнациональной розни. Актуальность темы подчеркивается протестом крымско-татарской общественности против использования школьного учебника по истории Крыма для десятых классов, в котором акцентировался коллаборационизм крымских та- тар2, а также резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о нарушениях прав человека на Крымском полуострове от 31 октября 2019 года. В данной ситуации велика роль неполитизированного научного подхода. Анализируя эволюцию взглядов коллег на наиболее актуальные вопросы недавнего, но прошлого, историк помнит о четырех основных задачах историографии – познавательной («кто, где, когда»), рефлексивной («все ли было так»), рациональной («учесть уроки прошлого») и никуда не ушедшей пропагандистской («нужно только так»). При этом важной особенностью историографии новейшей истории является публицистический уклон, объясняемый принадлежностью авторов к поколению, современному изучаемым событиям. Этому способствуют эмоциональность, использование узкого круга доступных источников, определенная предвзятость в восприятии событий, приводящие к методологической эклектике (от добротного позитивизма до псевдонаучного идеологического пафоса) и незавершенности выводов. Тем не менее без этого этапа историографии дальнейшее ее развитие было бы невозможно.
Новейшая история крымских татар до событий 2014 года была объектом изучения как российских [12], [28], так и зарубежных авторов [47]. В задачи данной статьи входит систематизация точек зрения широкого спектра научных исследований и наиболее крупных публицистических работ о роли крымских татар в событиях 2014 года. Среди бума опубликованных в 2014–2019 годах работ, посвященных «крымской весне»3, редкий автор не затрагивал этнополитические аспекты этого события (при этом особым вниманием пользуются результаты социологических опросов [11: 25–26]). Поэтому статья носит по-лидисциплинарный характер, а ее предмет исследования ограничен лишь мнениями ученых и публицистов о деятельности крымских татар на полуострове и их отношении к российской государственной власти зимой – весной 2014 года; историчность дальнейших сюжетов в настоящий период не очевидна.
* * *
Можно выделить несколько направлений в изучении политического поведения крымских татар российскими авторами. Первое из них целесообразно назвать критическим: оно негативно оценивает роль представителей крымско-татарской общественности в 2014 году и склонно проецировать это отношение на другие этапы российской истории (при этом обходя такие сюжеты, как московско-крымский союз при Иване III или борьба крымских татар против нацизма). Ярким представителем этого направления является А. Б. Широкорад. За политизированность и поверхностный взгляд на объекты своего изучения его публицистические работы не единожды подвергались критике, в том числе и петрозаводскими историками [41: 70–71]. Если первоначально в своей книге, подписанной в печать уже в апреле 2014 года, А. Б. Широкорад пугал читателя угрозой создания татарского халифата [43: 331], то в дальнейшем автор перешел к более конкретному описанию. По его мнению, роль крымских татар в событиях на полуострове была активна и направлена против пророссийских сил: они якобы заранее организовывали схроны с оружием, сорвали сессию Верховного Совета Крыма 26 февраля и пытались захватить власть путем организации территориальных штабов под контролем меджлиса4 [44: 181–192]. При этом автор не обращает внимания на митинги крымских татар до 26 февраля (упоминания о них можно найти у других, не менее ангажированных публицистов [37: 50]), а также переоценивает влияние меджлиса и монолитность крымско-татарской общественности в целом. В отличие от А. Б. Широкорада другой автор – полковник В. Н. Баранец – в своем «документально-художественном исследовании» все же указал на разделение крымских татар в «битве при парламенте» на сторонников и противников возвращения Крыма в состав России [1: 216].
Важная черта публикаций с односторонними негативными оценками действий крымских татар – отсутствие исследовательского характера. Некритическое отношение к источникам, необходимость дополнительного обоснования тезисов и выводов, игнорирование вклада не только специалистов, но и себе подобных авторов приводят к тому, что результаты работы публицистов невозможно использовать в научной литературе иначе как в качестве историографического казуса.
Второе направление выглядит малозаметным на фоне остальных из-за нечеткости своей позиции. Автор назвал бы его лояльным, выжидательным. Причисляемые к нему исследователи более внимательно анализируют ситуацию и отмечают наличие среди крымских татар других общественных объединений, в том числе оппозиционных «Меджлису». Более того, они воспринимали антироссийскую позицию «Меджлиса» как временное явление, и лишь запрет его деятельности на территории России в 2016 году положил конец данным заблуждениям. Одним из примеров «выжидательной» позиции можно считать статью профессора В. К. Самигуллина, поставившего перед исследователями ряд вопросов: что на самом деле представляют собой крымские татары (этнос или часть другого этноса), что они думают о себе, как должны развиваться в современных условиях, должны ли бороться за культурную, национально-территориальную автономию или независимость? В завершение этого перечня автор допустил бессмысленность поставленных им же вопросов [33: 18], что может говорить о большой растерянности исследователя в сложившейся политической ситуации.
Схожа по своей направленности и публикация академика АН Республики Татарстан И. Р. Тагирова, в прошлом первого председателя Всемирного конгресса татар. Как и предыдущий автор, И. Р. Тагиров дал краткий обзор роли крымских татар в истории полуострова, подчеркнул роль Президента Татарстана Р. Н. Минниханова в «убеждении» Р. Чубарова и В. В. Путина в возможности компромисса, а также в общих чертах обрисовал недоброжелательную позицию руководства Меджлиса. При этом объектом критики со стороны автора стало руководство Республики Крым, чья «не совсем адекватная» позиция привела к избиениям и убийствам крымских татар, более 7 тысяч которых были вынуждены уехать с полуострова. Кульминацией размышлений автора стало утверждение о противоречии между действиями руководства Республики Крым и позицией Президента России В. В. Путина, «стоящего за справедливое решение статуса крымско-татарского народа» [40: 83, 85]. Несмотря на безусловную поддержку позиции российского Президента, статья И. Р. Тагирова была быстро признана тенденциозной из-за идеализации политики Меджлиса [3: 209], [4: 123]. Однако необходимо иметь в виду, что его материал был написан под влиянием временного улучшения отношений между «Меджлисом» и российской государственной властью: вице-премьером Республики Крым был Л. Э. Ислямов, а лидеры этого движения публично призывали население к спокойствию (в том числе на мартовском курултае в Бахчисарае с участием Р. Чубарова и Р. Н. Минниханова). Это обусловило положительное отношение И. Р. Тагирова к деятельности данной организации. Однако необъективность автора сказывается в игнорировании других крымско-татарских общественных сил и в наивном стремлении столкнуть между собой позиции центральной и региональной властей, что явно не соответствует задачам научной публикации.
В похожую ловушку попал и «школьный путеводитель» по истории Крыма Б. Г. Деревен- ского: показав активную роль крымских татар в столкновениях 26 февраля и их убедительную (хоть и временную) победу, автор проиллюстрировал этот этап крымской истории тремя фотографиями, в том числе митинга 26 февраля у здания Верховного Совета Крыма (с явным превалированием флагов Евромайдана) и курултая крымских татар с крупным изображением их лидеров (включая двух руководителей «Меджлиса») [15: 74–78]. Запрет деятельности этой организации в России и заочный арест ее лидера за подрыв основ государственной безопасности России поставили автора школьного пособия в неловкое положение: в тексте не хватает упоминания о том, что именно данные лица были в числе инициаторов экономической блокады Крыма.
Третье направление можно назвать этнополитическим. Сюда на нынешнем историографическом этапе можно включить и юридические, и этнокультурные исследования, так как все они касаются положения крымских татар в новом для Крыма статусе. В данном направлении превалируют научные публикации; однако чем лояльнее исследователь относится к пропагандистской функции науки, чем менее аргументированы его выводы, тем сильнее его работа приобретает публицистический оттенок. Основными позициями являются акцентирование неоднородности мнений крымско-татарской элиты о принятии Крыма в состав России и приоритетной роли руководства Российской Федерации в решении крымско-татарской проблемы. При этом основной источник нормотворчества российского руководства – указ Президента РФ от 21 апреля 2014 года № 268 (как и усиливший его смысл указ от 12 сентября 2015 года) часто остается за кадром и анализу не подвергается. Одну из причин этого можно видеть в понимании исследователями роли мелкого бизнеса как основного интереса крымских татар, в отсутствии у представителей этого этноса «иждивенческих установок» [14: 580]. Данное мнение не бесспорно, однако решение «крымско-татарского вопроса» действительно зависит не столько от дотаций из госбюджета, сколько от создания возможностей для самостоятельного эффективного развития частного предпринимательства, в том числе совместно с иностранным. В российских условиях эта проблема выходит за рамки этнополитической, и указ Президента 2014 года изначально не мог быть нацелен на ее полное решение (создание экономических привилегий по этническому признаку противоречило бы принципам демократического общества). Указ мог быть действенен только в комплексе с другими мероприятиями по поддержке крымско-татарского населения, обзор которых дан в статьях В. Е. Полякова [29: 164], Д. С. Маслякова [20] и других авторов. Одновременно исследователями приводятся данные о недовольстве со стороны русского населения льготами, полученными крымскими татарами по итогам президентского указа [18: 115]. Это может актуализировать в будущем изучение феномена «позитивной дискриминации» крымских татар.
Можно предположить еще одну причину поверхностного отношения исследователей к значению указа № 268 – политика государства в отношении земельных самозахватов. В тексте документа об этом напрямую не говорилось, но исследователи изначально связывали его действие с предстоящей амнистией по земельным захватам [2: 180], [3: 211]. Между тем в реальности государство начало активное наступление на 59 «полян протеста» [46: 291], одновременно выдав к 2016 году документы на 3,5 тысячи земельных участков [19: 160].
По мнению профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС А. Н. Михайленко, за 2014 год Россия для крымских татар «сделала больше, чем Украина за всю свою независимую историю» [21: 35]. Между тем, по словам руководителя сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН В. И. Мукомеля и его коллег, очевидные потери крымских татар от присоединения к России пока не перекрываются соответствующими дивидендами. От правительственных мер выиграли бюджетники, государственные и муниципальные служащие, а также служащие без высшего образования [22: 60]. Опубликованные позднее тем же автором высказывания крымских татар об «удушении» мелкого бизнеса и высоком уровне коррупции отражают, по его мнению, эрозию ожиданий крымчан и усиление неоднородности отношения крымских татар к России [23: 147–148, 155].
Важным вкладом в изучение крымско-татарской проблемы в 2015 году стала коллективная монография, подготовленная известными крымскими историками и политологами [46]. Рассматривая всю этнополитическую историю Крыма, авторы подробнее останавливаются на рубеже XX–XXI веков. Исследование наглядно показало, насколько сложна работа с источниками по изучению периода, еще не ушедшего в историю. Авторы используют в основном личные наблюдения, подстраховывая друг друга и изредка ссылаясь на нормативные документы, материалы СМИ и опубликованный к тому времени сборник документов [13]. Показывая эволюцию крымско-татарского движения, они акцентируют внимание на внутренних противоречиях в его развитии, связи меджлиса с Евромайданом, а также подробно прослеживают ход событий 2014 года (с указанием несовпадающих с их точками зрения позиций) и ближайшие последствия введения президентского указа. По данным авторов, за присоединение Крыма к России могли проголосовать максимум четверть крымских татар при значительной доле воздержавшихся [46: 276]. При этом используемые авторами эпитеты бывают предельно честны; например, упоминавшийся выше вклад руководства Татарстана и Башкортостана в развитие отношений с крымскими татарами авторы назвали «массированной обработкой» меджлиса, а лидеров этой организации – изгнанными [46: 279, 283]. Несмотря на преждевременный вывод о том, что «с возвращением Крыма в состав России потребность в протестном национальном движении для крымских татар исторически отпала» [46: 281], такой подход до сих пор сохраняет актуальность данного издания.
Мнение о деполитизации этнического фактора в Крыму высказала и профессор Крымского федерального университета Т. А. Сенюшкина [36: 83], задолго до «крымской весны» предсказавшая усиление межэтнической напряженности в Крыму и ее зависимость от интенсивности геополитического соперничества [34: 378]. Именно Т. А. Сенюшкина к 2017 году показала частичную переориентацию представителей меджлиса в пророссийскую сторону на примере деятельности Ремзи Ильясова [45: 130] (избранного в Государственный Совет Республики Крым от партии «Единая Россия»). Таким образом, меджлис до и после событий 2014 года – это разные по количественному и качественному составу организации.
Анализируя значение президентского указа № 268, Т. А. Сенюшкина справедливо связывает его с положениями Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377–ФЗ о создании в Крыму свободной экономической зоны сроком на 25 лет [36: 83–84], что могло способствовать развитию частного бизнеса и других сфер экономики. Приверженность цивилизационному подходу обусловила признание автором за крымскими татарами «своей версии коллективной памяти и исторической правды», способствовавших состоянию «коллективной виктимности». Между тем реальный социальный и экономический статус крымских татар, по ее словам, выше официально декларируемого, и потерять его в противостоянии с новой властью они не захотят [35: 189].
Мнение о лучшей материальной обеспеченности (например, земельными участками) крымских татар по сравнению с представителями других этнических групп высказывали и другие исследователи [42: 64].
Важное значение в рассмотрении данной темы имеют исследования московского этнолога Р. А. Старченко, основанные на этносоциологи-ческих опросах Института этнологии и антропологии РАН 2013–2014 годов. По его данным, в референдуме 2014 года приняли участие около 47 % крымских татар [38: 185], что является значительной цифрой на фоне предположений других авторов; 42 % опрошенных отрицательно отнеслись к Евромайдану, характеризуя его как государственный переворот (остальные точки зрения получили меньше поддержки) [38: 195]. Р. А. Старченко акцентирует внимание на про-российских настроениях среди этого этноса, объясняя противоположную позицию исторической памятью населения о депортации 1944 года и снижая, таким образом, степень недовольства крымских татар современными российскими условиями. Соглашаясь с тем, что указ Президента 2014 года – это красивый политический ход, автор подчеркивает его актуальность на фоне 23-летней недооценки проблемы репатриированных в украинском законодательстве [39: 163–165].
Особое место в изучении этнополитической ситуации принадлежит монографии профессора КубГУ, доктора исторических и политических наук А. В. Баранова, ставшей результатом десятилетней исследовательской деятельности автора. Учитывая объект исследования (этнополитические конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму), автор с ювелирным изяществом сформулировал методологическую базу работы, дал краткий историографический обзор исследований, посвященных как пророс-сийским, так и крымско-татарским движениям, а также указал на большинство акций и достижений крымских татар в ходе «крымской весны». А. В. Баранов отмечает усиление неоднородности крымско-татарского движения с 2010 года, а также снижение уровня межэтнической конфликтности среди крымских татар в 2014 году на 40 %, связывая это с политикой России в Крыму и Украины в Донбассе. А. В. Баранов одним из первых указал на важность изучения деятельности «Милли фирка», «Къырым бирли-ги» и других общественных организаций. Признавая их пророссийскими, исследователь тем не менее отметил прагматизм их позиции, связанный с опасениями за будущее своего народа. Причину же снижения влияния Меджлиса автор видит в отрицании факта воссоединения Крыма с Россией и отказе от межэтнического диалога [4: 123–130]. Хотя с точки зрения историка автор монографии уделил недостаточно внимания источниковедческому аспекту своего исследования (нормативные документы, опубликованные воспоминания, материалы электронных СМИ), его выводы и рекомендации о профилактике этнополитических конфликтов сохраняют актуальность. При этом он избегает публицистической остроты и не стремится показывать конфликт в сферах, где его нет (например, это касается критической позиции Турции в отношении Меджлиса и по сути признания ею Крыма российским де-факто [4: 21, 129]).
Одним из перспективных направлений в научном изучении позиции крымских татар является анализ их идентичности. Ее актуальность политологи видят в связи между самоидентификацией граждан и их отношением к проводимой политике [11: 28]. Чаще всего авторы сводят многоуровневое понятие идентичности к конструктивистской парадигме этничности; при этом анализируются статусные роли и результаты взаимодействия акторов политики, использующих примордиальные основы идентичности как инструмент конструирования политической реальности. По словам А. В. Баранова, данная политика проводится с целью нациестроитель-ства, то есть закрепления гражданской нации на надэтничной основе, и должна включать в себя систему мер, направленных на конструирование, воспроизводство и трансляцию позитивного общенационального самосознания россиян [4: 9, 158]. Таким образом, политика современной российской идентичности по сути должна взять реванш за крах конструктивистского проекта «единый советский народ».
Исследователи предостерегают от абсолютизации данной методики. В частности, В. И. Му-комель напомнил о синдроме «навязанной» идентичности применительно именно к крымским татарам [24]5. Тем не менее результаты опросов крымчан показали конкретные результаты: накануне событий 2013–2014 годов крымские татары на 80 % придерживались этнической идентичности (в отличие от государственной идентичности русских и украинцев) и по результатам анкетирований выглядели наиболее сплоченным этносом. При этом причинами межэтнической напряженности после принятия полуострова в состав России 36,5 % опрошенных крымских татар назвали (как и можно было ожидать) социальноэкономические проблемы, на что представители славянских национальностей обращали гораз- до меньше внимания. Четверть крымских татар была обеспокоена провокационным поведением других национальностей (можно догадаться, каких), однако среди русских эта доля выросла до 43 % [5: 5–8]. В ходе анкетирования в октябре 2015 года лишь 16 % крымских татар признали себя россиянами, а к июню 2016 года – 8 %. При этом 44 % крымских татар были удовлетворены ситуацией в Крыму. И хотя опросы проводились разными организациями, эти цифры показывают, что о деполитизации этнического фактора на полуострове говорить еще рано. Риски конфликта идентичностей высоки, и они сосредоточены в столице Республики Крым [6: 67–68], [22: 60–65], что объясняется концентрацией ресурсов власти; зоной риска к 2018 году были признаны и степные районы в связи с их экономической депрессивностью и близостью к российско-украинской границе [7: 357].
Так или иначе, нынешняя ситуация находится в постконфликтном состоянии. В. И. Мукомелем были выделены пять причин снижения политической напряженности в регионе, лежащих в бытовой и коммуникационной сферах [23: 144– 145]. По мнению же полковника С. А. Буткевича, планы радикалов были аннулированы пророс-сийским выбором большинства крымчан на мартовском референдуме 2014 года, последующим военным присутствием России на полуострове, ужесточением правоохранительного контроля над преступностью и действием российского уголовного закона [9: 59]. К сожалению, авторы не учли активного противодействия радикалам со стороны пророссийских организаций (например, «Себат»), а также стремления российских властей к решению проблем крымских татар. При этом, по мнению С. А. Буткевича, вероятность спорадического, латентного характера деятельности радикалов сохраняется в местах компактного проживания этнических диаспор.
Безусловно, указанные три направления изучения крымских татар взаимосвязаны и имеют общие точки соприкосновения. К ним относятся признание Республики Крым и города Севастополя частью Российской Федерации, ведение бизнеса как основного объекта интереса крымских татар и признание их настороженного отношения к изменению статуса Крыма. По развитию этих трех направлений можно предположить, что некоторые из них в настоящий период перестали быть актуальными. Поэтому целесообразно выделить три этапа развития исследовательского интереса в отношении крымских татар после 2014 года, не имеющих резких хронологических гра- ниц и зависящих от эволюции позиции каждого исследователя.
-
1) Историография 2014 – начала 2016 года отличается эмоциональностью и недостаточной толерантностью ряда патриотически настроенных авторов на фоне бума публикаций о «крымской весне», объясняемого общественной эйфорией от принятия в состав Российской Федерации новых субъектов. При этом была заметна растерянность со стороны специалистов, симпатизировавших своему объекту исследования, что привело к постепенному прекращению их публикаций.
-
2) Историография 2015 – конца 2016 года отличается более научным, эмпирическим подходом. В данный период Р. А. Старченко была защищена первая диссертация о крымских татарах, включающая сюжет о «крымской весне» (анализу диссертационных работ посвящена отдельная статья [32]); ее материалы стали основой для совместной работы с крымскими исследователями [45]. Кроме того, были опубликованы другие коллективные и индивидуальные монографии, демонстрировавшие комплексный подход к изучению проблемы.
Одновременно разворачивается критика ряда работ, посвященных истории крымских татар. В частности, были раскритикованы взгляды автора капитальной четырехтомной «Истории крымских татар» [12] – известного историка-скандинависта, профессора СПбГУ В. Е. Воз-грина (1939–2020). Его петербургские коллеги встретили книгу вполне доброжелательно, чего нельзя сказать об украинских и тем более крымских историках. В рецензии на одну из его работ известный крымовед, профессор КФУ им. Вернадского А. А. Непомнящий определил В. Е. Воз-грина как автора некорректной с научной точки зрения концепции «коренного народа» в истории Крыма [27: 147–148]. Другие крымские историки в выражениях не стеснялись и придумали связанный с фамилией В. Е. Возгрина обидный термин, подразумевающий необоснованное преувеличение значения конкретного народа в истории региона. Значение публикаций петербургского профессора на сегодняшний день противоречиво: с одной стороны, современные авторы напрямую не используют его работы (упоминания о них встречаются лишь в историографических разделах диссертаций), с другой – его вклад отражается в статьях В. К. Самигуллина, И. Р. Тагирова и других авторов, сочувствующих крымско-татарскому национальному движению.
Многие исследователи акцентировали способность России решить крымско-татарский вопрос административно-правовыми методами и уже констатировали исчерпанность данной проблемы. Кроме того, была усилена критика «Меджлиса крымско-татарского народа» в связи с запрещением деятельности этой организации на территории России.
-
3) С 2017 года начинается осмысление пройденного, вводится понятие историографии «крымской весны» [31], публикуется капитальный двухтомный труд «История Крыма». В главе о «крымской весне», написанной доцентом КФУ им. Вернадского А. Р. Никифоровым, описана антироссийская политика Меджлиса и агрессивные действия его сторонников с применением толченого стекла, дубинок и газовой атаки. Однако затем автор сместил акцент на деятельность пророссийской «Милли Фирки», сославшись на мнение о нейтральном и благожелательном отношении крымских татар к референдуму вследствие миротворческой роли мусульманских организаций России [17: 746–750].
Важной чертой этого периода стало признание недочетов в национальной политике и нарушении прав человека на полуострове. При этом если профессор Т. А. Сенюшкина лишь ссылается на мнение зарубежных организаций [45: 171], то ее коллега доцент КФУ им. Вернадского Э. С. Муратова в доказательство приводит фрагменты интервью с крымскими беженцами в Львовской области Украины. Ее публикации содержат упоминания о патрулировании крымскими татарами своих сел в период событий Евромайдана, стычках с отрядами «самообороны» и вынужденной эмиграции из-за опасений поддержки российской армией тех сил, с которыми они конфликтовали [26: 91]. По ее мнению, задержания и аресты мусульман в Крыму стали фактором, способствующим сближению крымских татар, принадлежащих к разных исламским течениям [25: 141]. К сожалению, автор не дала всесторонней характеристики «глубинных интервью» и не показала степень влияния на сознание беженцев общей нервозной обстановки, общественных стереотипов и информационной войны. Учет этих пунктов может стать новым стимулом для изучения социальной памяти (memory studies) крымских татар.
В итоге прошедшие шесть лет были наполнены активным изучением как роли крымских татар в событиях 2014 года, так и крымско-татарского вопроса в целом. Оно является отражением общественных настроений в России данного периода, признаком осознания новой общественнополитической реальности и необходимости по-новому взглянуть на историю крымских татар, долгое время воспринимавшихся антиподами пророссийских сил на полуострове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение роли крымских татар в событиях 2014 года развивается динамичными темпами и является одним из самых популярных объектов внимания исследователей «крымской весны». Может ли историография в современных условиях формировать положительное отношение к объекту исследования? Да, если сконцентрирует внимание на деятельности пророссийских политических сил и признает право объекта изучения на свою точку зрения. К этому стремились Э. С. Кульпин-Губайдуллин, А. Р. Вяткин [16], В. К. Самигуллин, Т. А. Сенюш-кина, Э. С. Муратова, С. Б. Бережкова [8] и другие исследователи; в июне 2019 года «прорвать информационную блокаду» в отношении крымских татар призвала председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко. Однако если историография будет и дальше акцентировать внимание на деятельности лишь запрещенных в России формирований, подогревая интерес к ним и ошибочно ассоциируя со всей крымско-татарской общественностью, это обусловит складывание отрицательного отношения к объекту изучения и замедлению интеграции данного этноса в российское общество. Между тем существующие тенденции оставляют белые пятна в изучении крымских татар. Так, авторы обходят своим вниманием деятельность пророссийских движений «Милли фирка», «Къырым бирлиги», «Себат» и др., хотя традиция их изучения (с историографическими экскурсами) была заложена О. В. Рябцевым [30], А. Р. Никифоровым [28] и другими авторами еще до «крымской весны». Напротив, практически каждый шаг руководства «Меджлиса крымско-татарского народа» становится предметом изучения политологов. Нуждаются в дополнительном изучении и другие сюжеты. Например, из российских публикаций неясны детали телефонного разговора Президента России В. В. Путина с лидером «Меджлиса» М. Джемилевым. Нуждаются в подтверждении или опровержении слухи об активной подготовке экстремистски настроенных лиц (которые могут не иметь к крымским татарам никакого отношения) к активным действиям в 2014 году (так называемые схроны). Учитывая определенную выгоду для государства в обнародовании подобных сведений, их замалчивание можно объяснить либо ложностью самой информации, либо временным нежеланием раскрывать ее источники. Отсутствие публикаций исторических источников о роли крымских татар также выглядит белым пятном на фоне бума работ разного научного уровня6 (их пытаются ограничить результатами анкетирования и интервью).
На сегодняшний день не проанализированы конкретные причины частичного недоверия крымских татар в отношении российской власти. Выводы о «коллективной виктимности» и «тропе зависимости» нельзя признать исчерпывающими; в числе причин недоверия можно назвать отказ российской администрации от предоставления крымским татарам 20-процентной квоты в органах власти, ограничение земельных само-захватов, общий экономический спад (частично спровоцированный призывами руководства «Меджлиса» к экономической блокаде Крыма), жесткость власти в отношении подозреваемых участников зарубежных экстремистских организаций, сокращение числа религиозных организаций в 2014–2015 годах с 1409 до 221 [10: 125], но детального анализа еще не проведено. При этом может оказаться, что на фоне межэтнических отношений в украинский период истории полуострова нынешняя оппозиционность крымских татар сильно преувеличена и является абсолютно нормальным явлением в условиях развития демократического общества.
Важной особенностью является сохранение историографических традиций в изучении истории крымских татар. Даже противоречия между национальным и пророссийским направлениями изучения теперь воспринимаются как традиция. События 2014 года привлекли в тему много новых лиц, но лидирующие позиции в науке сохранили представители «старой» школы. Уход из жизни известных специалистов не обнулил их вклад в науку и в перспективе может стать базисом для дальнейших исследований.
Список литературы Российские ученые и публицисты о роли крымских татар в "крымской весне"
- Баранец В. Н. Спецоперация Крым - 2014: Документально-исторический роман. М.: Комсомольская правда, 2019. 460 с
- Баранов А. В. Позиционирование и стратегии активности этнополитических движений Крыма в условиях воссоединения региона с Россией // Политическая экспертиза: ПОЛИТЕЭКС. 2014. Т. 10. № 2. С. 174-184.
- Баранов А. В. Крымско-татарское движение: тенденции конфликтности и участия в миростроительстве // Власть. 2015. № 1. С. 209-212.
- Баранов А. В. Этнополитические конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ. Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2015. 235 с.
- Баранов А. В. Трансформации региональной, этнических и конфессиональных идентичностей крымчан в контексте воссоединения Крыма и России // Вестник Пермского научного центра УрО РАН. 2016. № 5. С. 4-18.