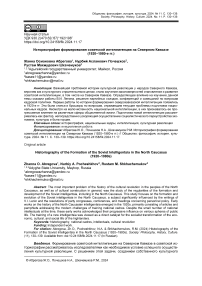Российские владения в Северной Америке в XVIII-XIX веках: особенности колонизации и причины потери региона
Автор: Афанасьев А.Д., Пигорева О.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена не теряющей в современных условиях актуальности проблеме колонизации Аляски и Алеутских островов русскими первопроходцами. Авторы с опорой на синтез формационного, модернизационного и цивилизационного подходов анализируют причины передачи в 1867 году Российской империей своих владений в пользу США. Научная новизна заключается в сравнительном анализе элитарного и экономического факторов, во многом определявших характер развития Русской Америки. Элитарный фактор рассматривается как стремление правящей элиты к получению большей прибыли от деятельности Российско-американской компании в условиях минимальной государственной поддержки. Экономический фактор анализируется в условиях преобладания в экономике России феодально-крепостнических отношений и тесно переплетается с элитарным. Обосновывается, что для успешного освоения региона на фоне изменения международной обстановки первой половины XIX века необходимо развитие экономики, что возможно было после проведения широкомасштабных реформ в России.
Аляска, алеутские острова, русская америка, русские первооткрыватели, колонизация, пушной промысел
Короткий адрес: https://sciup.org/149147054
IDR: 149147054 | УДК: 94(47+73):325.3 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.18
Текст научной статьи Российские владения в Северной Америке в XVIII-XIX веках: особенности колонизации и причины потери региона
элемента связывалась постановка вопроса об активности, объеме и темпах культурной революции в автономных горских областях. Был сделан интересный вывод о расширении в ходе культурной революции базы для «постоянного и интенсивного усиления этого элемента до полного насыщения им культурных потребностей в рамках данного периода революционного действия» (Самарский, 1928: 205). Этот подход несколько отличался от распространенного в литературе того времени представления о формировании интеллигенции как результате, продукте культурной революции и позволял взглянуть на данный вопрос в ином ракурсе, оценив обратную связь – значение интеллигенции как движущей силы культурного прогресса, интенсивность деятельности которой непосредственно влияла на ход культурной революции.
К общим закономерностям формирования интеллигенции в национальных областях Северного Кавказа авторы первых работ относили взаимосвязь этого процесса с задачами социалистического и национального строительства, утверждение единого идейно-политического мировоззрения, осознание нового исторического предназначения, демократизацию социальной базы, плановый характер подготовки кадров, регулирование социального, национального и партийного состава, установление профессиональной оптимальной структуры.
Целью данной статьи является анализ советской историографии процесса формирования интеллигенции в национальных областях Северного Кавказа как движущая сила в контексте социалистического и национального строительства, а также культурной революции.
Обсуждение . По мере развития советской историографии проблема формирования интеллигенции приобретала все большее значение: были созданы монографические исследования в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии (Литвиненко, 1966; Са-банчиев, 1951; Хачиров, 1964; Эфендиев, 1960). Появились обобщающие исследования по истории интеллигенции народов Северного Кавказа (Бекижев, 1978; Нагучев, 1974).
При таком подходе обстоятельно изучались основные этапы ее формирования, отдельные направления деятельности. Такие же вопросы, как создание отдельных профессиональных групп, изменение места и роли национальной интеллигенции в социальной структуре общества, исследовались в гораздо меньшей степени. «Важно не просто констатировать происходившие или происходящие изменения в жизни и деятельности интеллигенции, – справедливо подчеркивал В.Т. Ермаков, – а выявить объективные и субъективные факторы, определяющие характер, направленность этих изменений, их обратное воздействие на жизнь общества» (1979: 13).
Этот вопрос занимал одно из центральных мест и в общих исследованиях по истории культурной революции. В основе работ, как правило, лежал проблемно-хронологический принцип (см., например: Каймаразов, 1960, 1971), позволивший в хронологической последовательности рассмотреть ключевые направления и пути решения данной проблемы на каждом из этапов социалистического строительства. Изучение вопросов формирования интеллигенции в рамках специальных работ и общих исследований по истории культурной революции было обусловлено ходом развития самого процесса, органическим переплетением ряда проблем, наличием общих источников.
На завершающем этапе развития советской историографии явственно стал проявляться интерес к общим закономерностям и специфическим особенностям формирования интеллигенции. К основным закономерностям, присущим лишь возникновению интеллигенции в многонациональных государствах, историки стали относить создание многонациональной по составу, но единой в идейно-политическом отношении интеллигенции в каждой национальной республике; ускоренное увеличение количества национальных кадров, сопровождающееся повышением удельного веса кадров коренной национальности в составе специалистов данной республики. В качестве определяющих тенденций в данном процессе стали выделяться такие, как приближение удельного веса национальных кадров в составе всей интеллигенции к удельному весу численности данной нации в составе населения страны; постепенная унификация социальных источников пополнения интеллигенции (равная доля рабочих, служащих, крестьян, женщин в составе студенчества разных национальностей); установление профессиональной однотипной структуры и одинакового уровня квалификации специалистов разных национальностей. Именно эти явления рассматривались как отражение процесса выравнивания уровней социально-политического, экономического и культурного развития социалистических наций (Волков, 1975: 21).
Создание интеллигенции в условиях многонационального региона неизбежно вносило своеобразие, специфические черты, являвшиеся естественным отражением исторического наследия и реальных условий развития каждого народа. Сложился даже стереотип при выделении национальных особенностей. К ним стало принято относить большую долю неграмотности среди населения; отступление от общих правил при поступлении в учебные заведения (повышение или понижение возрастных норм по отдельным национальностям, особые меры по вовлечению женщин, организацию специальных школ); обучение на русском наряду с родным языком
(Хачиров, 1964: 38–39). Все эти моменты действительно имели место при формировании национальной интеллигенции на Северном Кавказе, но в каждой из областей имели разную степень влияния: в Северной Осетии они были менее выражены, так как по общеобразовательному уровню населения она стояла относительно выше других национальных районов и практически являлась единственной, где проблема укомплектования вузов и заполнения мест по краевой разверстке не приобретала особой остроты.
Разработка темы на материалах Северного Кавказа позволила расширить сложившиеся представления как об общих особенностях формирования интеллигенции в условиях многонационального государства, так и о специфических для отдельных народов этого региона. Своеобразие решения этой проблемы проявлялось в темпах развития высшего и среднего специального образования, соотношении различных типов учебных заведений, особенностях социальной и профессиональной структуры, формах и методах работы по коренизации и интернационализации кадров.
К наиболее общим результатам изучения проблемы привлечения на сторону советской власти национальной интеллигенции Северного Кавказа можно отнести стремление историков к определению хронологических границ этого процесса. Его начало большинство исследователей связывали с окончательным установлением на Северном Кавказе советской власти, по существу игнорируя немногочисленную дореволюционную интеллигенцию.
По мере развития историографии в литературе все более четко определялся круг понятий, связанных с национальными кадрами. Однако в первые годы в их применении не было достаточной идентичности, нередко происходило смещение смысловых нагрузок. Прочно вошло в традицию понятие «национальные кадры», включавшее кадры специалистов-националов для различных отраслей народного хозяйства: инженеров, техников, агрономов и т. д. (Викторов, 1935: 89).
Более широкую смысловую нагрузку несло часто встречавшееся в литературе понятие «кадры для национальных областей». Оно, как правило, не предусматривало жесткой национальной градации и основывалось на административно-территориальном принципе. Этот подход условно переносился на понятия «горские вузы», «горские техникумы», «национальные вузы», традиционно сохранившие смысловое значение до настоящего времени.
В литературе 1920–1930-х гг. встречались понятия, в дальнейшем не получившие широкого распространения. К ним можно отнести термины «культурные кадры», «кадры культурных работников», как правило, имевшие обобщающий смысл, подразумевавшие педагогические, медицинские и экономические кадры. Со временем несколько видоизменилась и смысловая нагрузка некоторых понятий. На этапе становления историографии вопрос формирования национальных отрядов интеллигенции входил в качестве составляющей в общую проблему подготовки кадров, включавшую и создание кадров квалифицированных рабочих через систему ФЗУ (Хурин, 1932: 27–41). В дальнейшем эти две темы все более стали отдаляться друг от друга, обнаруживая тяготение к различным направлениям социалистического строительства – индустриализации и культурной революции. Более четкая их дифференциация в значительной степени связана с уточнением в исторической литературе понятий «интеллигенция» и «рабочий класс».
По мере развития историографии уточнялись основные направления формирования советской интеллигенции. Общая тенденция развития исследовательской работы нашла отражение в брошюре Г. Глухова «Проблема кадров», написанной на материалах обследования Северо-Кавказской краевой рабоче-крестьянской инспекцией ряда вузов и техникумов: «В основном вопрос о кадрах распадается на две части: рациональное использование старых кадров и подготовка новых» (1930: 5). В работе очерчен круг первостепенных задач по привлечению старых специалистов: учет, дифференциация, вовлечение в профсоюзы, усиление политического воспитания. Интересно стремление Г. Глухова установить соотношение двух главных путей формирования кадров: «Если мы считаем, что работа со старыми специалистами является весьма важным участком в проблеме кадров, то все же центральным моментом во всей этой проблеме является широко развернутая и быстрая подготовка новых пролетарских специалистов» (1930: 6).
Выделение в литературе в качестве одного из путей формирования интеллигенции привлечения старых специалистов, пусть даже немногочисленных, к сотрудничеству с советской властью еще не означало окончательного утверждения этого вывода. В дальнейшем продолжали существовать диаметрально противоположные точки зрения: признания или абсолютного отрицания этого пути создания национальных отрядов интеллигенции на Северном Кавказе.
В 1950-е гг., обращаясь к этой теме, Х.М. Сабанчиев подчеркивал: «Если для Центральной России стоял вопрос об использовании определенной части старой интеллигенции, то для Ка-барды такая возможность была исключена самим фактом почти полного отсутствия интеллигенции. Кучка же людей, получивших “образование” и воспитание в арабских школах, была явно неподходящей для Советской власти как по своей идеологии, так и по характеру своего образования» (1951: 122). Такая категоричность вывода не в полной мере отражала состояние вопроса в Кабарде. Автором полностью исключалась группа дореволюционной интеллигенции, получившая светское образование в учебных заведениях России, демократически настроенная, сыгравшая немаловажную роль при комплектовании управленческого аппарата, научно-исследовательских учреждений и школ.
Более объективный анализ состояния дореволюционной интеллигенции был дан в работе А.-К.И. Эфендиева. Отмечая немногочисленность, профессиональную однотипность (учителя духовных школ, канцелярские работники), узость социальной базы дореволюционной интеллигенции в Дагестане, он в то же время подчеркивал влияние революционного движения на процесс ее политического расслоения и выделения социал-демократического крыла: «Для революционной, социал-демократической интеллигенции Дагестана была характерна резкая враждебность к самодержавному строю, горячая защита идей просвещения и духовного роста народа и, наконец, непосредственное участие в революционно-освободительном движении народных масс Дагестана» (Эфендиев, 1960: 8-10).
Достигнутый исследовательский уровень позволил углубить изучение социального состава дореволюционной интеллигенции, форм профессионального сотрудничества, методов идейного перевоспитания. Публикации первого периода довольно четко отражали происходившие изменения в процессе формирования кадров, содержали оценки основных событий, являлись своего рода барометром, указывающим на снижение практического значения отдельных вопросов или его повышение.
Учитывая особенности Северного Кавказа, главным каналом пополнения национальных кадров исследователи считали высшее и среднее специальное образование. Для его развития необходимы были соответствующие предпосылки, условия создания новой интеллигенции. В качестве основных из них назывались установление диктатуры пролетариата в форме советов, образование СССР, широкое распространение общего образования, создание разветвленной системы неполных средних и средних школ, осуществление преподавания на родном языке (Волков, 1975: 6-7).
Конечно, выделенные политические и культурные предпосылки имели важное значение для решения проблемы подготовки кадров. Однако из поля внимания нельзя исключать и экономические предпосылки. В широком смысле их создание определялось экономическим развитием национальных областей, появлением новых отраслей в промышленности и сельском хозяйстве, что, в свою очередь, обусловливало потребность в определенных профессиональных группах интеллигенции, создавало базу для их практического использования. В узком смысле речь шла о материальной базе высшего и среднего специального образования, практически отсутствовавшего в национальных районах Северного Кавказа.
Особенности социально-экономических и культурных условий региона определили преимущественное развитие определенных типов учебных заведений. Обращаясь к этому вопросу, У. Алиев подчеркивал, что в середине 1920-х гг. наиболее широкое распространение в национальных областях Северного Кавказа получили рабфаки и совпартшколы. Именно в них обучалась основная масса горской молодежи (1926: 36).
Отдельные направления этой темы получили освещение в работах по истории культурного строительства и формированию интеллигенции. Авторы, стремясь определить место и значение рабфаков и совпартшкол в системе специального образования, их роль в планировании и регулировании социального и национального состава студенчества, отмечали, что ни одно из советских учебных заведений не снискало себе такой популярности в горской среде, как рабфаки. Обращаясь к истории горских рабфаков, авторы первых статей обратили внимание на несоответствие названия и социального состава учащихся рабфаков, преобладание в них крестьянской молодежи. «В существе дела, - писал А.Я. Самарский, - широкий доступ горской молодежи, крестьянской молодежи, в рабочие факультеты был нарушением конституции последних, зиждущихся главным образом на элементах, выходящих из рабочей среды» (1930). Тем не менее это «нарушение» принесло прекрасные результаты.
Обращаясь к истории горских рабфаков, авторы выделяли ряд характерных особенностей в формах их организации (специальные отделения, женские рабфаки), социальном составе учащихся и особенностях обучения (преподавание на русском и родных языках). Такой широкий круг вопросов требовал специального изучения, анализа организационных и учебно-методических принципов. В общих исследованиях по истории рабочих факультетов национальная специфика фактически не исследовалась, авторы, как правило, ограничивались лишь отдельными фактами иллюстративного характера (Алиев, 1926; Катунцева, 1977).
Историография высшего и среднего специального образования в национальных районах Северного Кавказа складывалась по мере его развития, отражая наиболее важные черты. В част- ности, в работе У. Алиева характеристика специального образования осуществлялась по нескольким направлениям: более высокие темпы роста (по сравнению с темпами учреждений социального воспитания); разнообразие типов (вузы, техникумы, курсы, профшколы); особенности специализации (преобладание учебных заведений педагогического и сельскохозяйственного профиля); география размещения (равномерный охват всех национальных областей) (1926: 32– 34). Несмотря на схематический характер изложения, выделение автором данных направлений свидетельствовало о стремлении проникнуть в сущность происходивших качественных сдвигов.
В опубликованных работах четко определялся круг мер, оказавших непосредственное влияние на повышение качества подготовки специалистов. К ним П.А. Хурин относил разукрупнение вузов и техникумов; ликвидацию многофакультетности учебных заведений; создание специализированных, отраслевых высших и средних учебных заведений; введение непрерывной производственной практики студентов; изменения в системе организации рабфаков (1932: 31).
В работах 1920–1930-х гг. закладывались основы изучения демографических и профессиональных изменений в национальных отрядах интеллигенции, была поставлена задача изучения «качественности национальных культурных сил» в «вертикальном и горизонтальном разрезах». В это требование входила необходимость изучения не только количественного увеличения национальных отрядов интеллигенции, но и исследования их социальной и профессиональной структуры, политической сознательности и преданности революционному движению. Были сделаны первые шаги в изучении социальной структуры учащейся молодежи. В статью А.Я. Самарского вошли результаты обследования в 1927/1928 учебном году социального состава обучающихся нескольких учебных заведений: Горского педагогического института, Горского рабфака во Владикавказе и Горского отделения при Ростовском рабфаке, при укомплектовании которых наиболее строго выдерживался принцип социального отбора. Анализ позволил автору сделать вывод о преобладании крестьянства в социальной среде интеллигенции, формирующейся в районах, не прошедших стадии капиталистического развития (Самарский, 1928).
Наиболее обстоятельное освещение эти вопросы получили в статье А. Бегеулова. В ней на основе обширного статистического материала проанализирована деятельность рабфаков, техникумов и вузов с точки зрения их соответствия потребностям и задачам подготовки кадров для национальных областей. Данный в статье социально-демографический анализ горского студенчества отразил ряд характерных черт: преобладание рабфаков и техникумов, преимущественно педагогическую и сельскохозяйственную специализацию, расширение социальной базы за счет увеличения числа рабочих, неравномерность национального состава и т. п. (Бегеулов, 1930).
В плане постановки вопроса интересно стремление отдельных авторов выделить профессиональные группы интеллигенции, при формировании которых особое значение имело социальное происхождение: это партийно-советские работники и учителя, т. е. кадры, имевшие непосредственное отношение к политическому воспитанию трудящихся. К этой же группе интеллигенции У. Алиев относит работников печати и национальных издательств. Он подчеркивал, что проникновение в эти сферы социально чуждых элементов непосредственно повлияет не только на идейное содержание публикуемых работ, но и на чистоту развивающихся национальных языков, самобытность национальных культур (Алиев, 1928: 236).
Основные проблемы создания интеллигенции аккумулировались вокруг вопроса их плановой подготовки. Первой работой, где эта тема была поставлена, стала брошюра Г. Глухова, в которой не только обобщался первый опыт разработки пятилетнего плана подготовки кадров (весна 1930 г.), но и выделялись ключевые направления его реализации: укрепление материально-финансовой базы, реорганизация управления вузами, перестройка учебной работы, подготовка профессорско-преподавательских кадров, организация непрерывной производственной практики, распределение специалистов, улучшение социального состава и материального положения студенчества. Приведенные автором в качестве приложения к работе выдержки из материалов пятилетнего плана подготовки кадров отражали реальные потребности национальных областей в развитии сети высших и средних специальных учебных заведений, готовивших кадры для промышленности, сельского хозяйства и народного образования (Глухов, 1930: 13–55, 65–73).
При анализе складывающейся в крае системы планирования некоторые авторы выделяли в качестве основополагающего принципа учет потребностей и особенностей национальных областей. К важным практическим шагам в этом направлении они относили разработку специального двухлетнего плана подготовки национальных кадров с учетом потребностей отдельных отраслей хозяйства и культурного строительства в кадрах коренных национальностей (Хурин, 1932: 34).
В литературе нашла отражение еще одна сторона проблемы планирования. Речь идет о регулировании подготовки специалистов для каждой из национальных областей. Внедрение этого принципа рассматривалось как необходимый шаг на пути «подтягивания наиболее отста- лых национальных областей». «Советская власть, – писал А.Я. Самарский, – ведущая свое строительство по строго обдуманным планам, не могла и в вопросе культурного развития горских народов предоставить дело стихии, случаю» (1928: 210). Опыт создания национальных отрядов интеллигенции на Северном Кавказе давал обширный материал для изучения. Наибольший интерес вызывали темпы развития высшего и среднего специального образования. В большинстве работ утверждалась идея высоких, опережающих темпов развития специального образования. Этот вывод имел принципиальное значение.
В качестве одного из условий ускоренного и успешного формирования национальных отрядов интеллигенции исследователями (Каймаразов, 1971: 238–239; Хачиров, 1964: 45) выделялось сотрудничество народов Северного Кавказа. При этом акцент делался на помощи русской интеллигенции, стоявшей у истоков организации научно-исследовательских центров и первых учебных заведений. Это явление рассматривалось как бесспорно положительное в практике работы национальных вузов. Хотя, по-видимому, были и отдельные сложности во взаимоотношениях между частью старой профессуры и новым многонациональным студенчеством (Волков, 1975: 12–13). Вопрос о сотрудничестве при решении проблемы кадров все более выходит за рамки региона, приобретает общие для всех национальных районов черты.
Уже в первые годы в историографии начало складываться направление, связанное с изучением истории отдельных учебных и научно-исследовательских учреждений на Северном Кавказе. Это были обзорные статьи или брошюры, посвященные конкретным направлениям работы и дающие лишь самое общее представление об их деятельности1.
Своеобразие условий Северного Кавказа проявилось в создании особых типов учебных заведений. Наибольшее внимание исследователей привлекала история Ленинского учебного городка в Кабардино-Балкарии (1924–1936 гг.) (Козьминых, 1925). Сведения о создании и деятельности включались во все брошюры и статьи по истории культурного строительства. Как правило, в них подчеркивалось своеобразие подобного типа учебных заведений, вызванного к жизни особыми условиями области, острой потребностью в национальных кадрах2.
В дальнейшем, обращаясь к этой теме, историки подробно проанализировали организованную, сложную и разветвленную структуру этого учебного заведения, формы и методы учебно-воспитательной работы, их связь с реальным условиями и потребностями социалистического строительства (Сабанчиев, 1951). Новым шагом в изучении этого вопроса стала вводная статья Е.Т. Ха-куашева к тематическому сборнику документов и воспоминаний по истории Ленинского учебного городка (1964). Постановка широкого круга вопросов в рамках одной статьи не могла дать их полного разрешения. На их дальнейшее изучение в значительной степени ориентируют документальные материалы, приведенные в сборнике, воспоминания учителей и учащихся. К таким вопросам может быть отнесено изучение роли Ленинского учебного городка в создании особой культурной среды.
Изучение формирования национальных отрядов интеллигенции через систему высшего и среднего специального образования стало наиболее разработанным направлением в историографии. Особенно это заметно при сопоставлении с уровнем исследования выдвиженчества. Упоминание об использовании этого пути формирования интеллигенции встречалось уже в работах первого периода. Так, С. Воробьев, обобщая опыт культурно-массовой работы Ленинского учебного городка в Кабардино-Балкарии, включал в него и подготовку выдвиженцев преподавателей-националов из студентов педагогического техникума3.
В историографии сложилась точка зрения, что привлечение старой интеллигенции и выдвиженчество в большей степени характерны для первого двадцатилетия советской власти. По мере развития народного хозяйства и культуры подготовка кадров интеллигенции проводилась все шире через высшие и средние учебные заведения4. При всей бесспорности данное положение отражает далеко не все процессы и не может быть рассмотрено как всеобщее. Особенно это относится к методу выдвижения, который использовался и в дальнейшем.
Конкретно-исторический материал, приведенный в работах историков Северного Кавказа, свидетельствует о том, что с первых лет советской власти все три пути формирования национальной интеллигенции реализовывались параллельно, причем преимущественное значение имела подготовка национальных кадров через высшие и средние учебные заведения. Данному вопросу в работах историков Северного Кавказа отводилось первостепенное место. Этот подход определил характер и структуру большинства работ. Анализ конкретно-исторического материала в них проводится по трем основным направлениям: использование и перевоспитание старой интеллигенции, подготовка кадров специалистов в учебных заведениях, выдвижение передовых рабочих и крестьян на руководящую работу (Бекижев, 1978).
Анализируя особенности развития национальных отрядов интеллигенции на Северном Кавказе, исследователи, как правило, относят к ним ускоренные темпы количественного роста; некоторую диспропорцию профессиональной структуры, когда рост идет за счет увеличения специалистов, занятых в сельском хозяйстве и непроизводственной сфере; нетипичные сдвиги в демографической структуре (Веревкин, 1979: 227–228).
Вопрос о планировании и регулировании социального состава интеллигенции через систему высшего и среднего специального образования ставился в той или иной степени всеми исследователями. Тем не менее уровень его разработки остается весьма невысоким, слабо изучаются проблемы взаимодействия системы высшего образования с изменениями в социальной структуре населения. Как правило, в работах приводятся данные по отдельным годам и учебным заведениям, без обоснования необходимости именно этих показателей как наиболее типичных, характерных, итоговых, а не просто выявленных в архивах в виде текущей статистики. Эти выборочные данные в лучшем случае лишь подтверждают отражение в документах и материалах вопроса о социальном составе студенчества, но не могут раскрыть ход решения, этапы, формы и методы осуществления этой задачи. Причем данные, приведенные в некоторых работах только по 1930-м гг., не отражают остроты проблемы, так как к этому моменту произошли существенные сдвиги в социальной структуре советского общества, оказавшие влияние и на социальную базу формирующейся национальной интеллигенции. Поэтому интересный по своей сути вывод о крестьянской социальной базе формирующейся национальной интеллигенции остается до настоящего времени недостаточно документально обоснованным (Хачиров, 1964: 49).
В проблеме формирования национальных отрядов интеллигенции на Северном Кавказе есть тема, заслуживающая особого внимания. До настоящего времени она не сложилась и исследовательскую проблему, хотя, как представляется, весьма интересна и перспектива. Речь идет о применении «революционных методов» при решении вопроса кадров. На первом этапе краевые и областные партийные и советские органы были вынуждены прибегать к категорическим, волевым решениям при укомплектовании вузов, распределении специалистов, их перемещении. Эта позиция отразилась и в литературе. В частности, А.Я. Самарский писал о необходимости бороться «всеми мерами» с имеющейся тенденцией к «распылению» национальных кадров (1928: 212). Всестороннее изучение этого вопроса, вне всякого сомнения, значительно обогатит историю формирования интеллигенции, позволит создать более реалистическую картину, отражающую не только успехи, но и особые трудности решения кадровой проблемы в национальных республиках и областях Северного Кавказа.
По мере развития историографии пути формирования интеллигенции все более четко определялись в проблемных и хронологических границах, достигалось единство взглядов по основным узловым аспектам: об отношении к старой интеллигенции, роли и месте системы специального образования, соотношении общих закономерностей и специфических особенностей создания интеллигенции.
Особым направлением развития историографии стало изучение функциональной деятельности различных профессиональных групп интеллигенции, их социальной роли, процесса профессиональной и общественной деятельности, характера участия в производстве и распространении духовных ценностей. По мере формирования национальных отрядов интеллигенции расширялись границы их изучения, исследованию подвергались все новые профессиональные группы, возникшие в процессе политического, экономического и культурного строительства.
Одной из первых стала рассматриваться деятельность учительских кадров. Данная проблема анализировалась во всех работах по вопросам культурного строительства на Северном Кавказе. Их авторы наряду с количественными характеристиками стремились выявить изменения, происшедшие в социально-профессиональной структуре. В работах У. Алиева, А. Бегеулова, А. Гади-ева давалась обстоятельная характеристика роли учительства в культурном строительстве национальных областей, уделялось особое внимание подготовке и политическому воспитанию. Наряду с трудностями формирования учительских кадров многие авторы подчеркивали особые условия, осложнявшие их профессиональную деятельность, когда необходимо было не только повышать свой идейно-теоретический и общеобразовательный уровень, овладевать «методикой и техникой педагогического труда», но и осваивать новую письменность, впервые вводить новую азбуку1.
Уровень изучения учительских кадров в значительной степени определялся постановкой этого вопроса в документах краевых и областных органов. Переход к всеобщему начальному обучению еще более стимулировал исследовательский интерес к учительским кадрам. Дальнейшие успехи в деле социалистического строительства в нацобластях, - подчеркивал А. Бегеулов, - «обусловлены ростом культуры и образованием кадров» (1930: 11). Этот вопрос, несмотря на принятые в предшествующие годы меры по улучшению социального и профессионального состава учителей, продолжал сохранять актуальность и рассматривался как одно из решающих условий культурного развития национальностей.
Заключение . В литературе первого периода четко отражалась связь с процессами, происходившими в жизни. Проявлялось это в перемещении центра внимания с одних вопросов на другие, постановка которых приобретала в те годы наибольшее практическое значение. В 1920-е гг. такими были вопросы социального состава учительских кадров, повышения их профессионального уровня. Так, А. Гадиев, проанализировав образовательный уровень учительских кадров Кабардино-Балкарии, Чечни и других национальных районов Северного Кавказа, пришел к выводу, что их профессиональная подготовка, несмотря на достигнутые успехи, продолжала отставать от задач, стоявших перед национальной школой (1935: 124).
Для завершающего этапа советской историографии было характерно углубление в сущность многопланового и сложного процесса формирования национальной интеллигенции. Историки пытались отойти от чисто количественных характеристик (увеличение числа учителей, врачей, инженеров, высших и средних специальных учебных заведений) и исследовать глубинные процессы: изменение социальной направленности формирования интеллигенции, привлечение и перевоспитание старых специалистов, подготовку и воспитание кадров различных специальностей. Многие из этих проблем истоками уходят в первое послереволюционное десятилетие.
В то же время немало вопросов ждут дальнейшей разработки с учетом более широких возможностей современной историографии. К наиболее значимым из них можно отнести организационные формы - деятельность различного рода советов, комиссий, обществ; комплексное изучение изменений в социальном, национальном, половозрастном составе интеллигенции; создание особых типов учебных заведений (совпартшкол, учебных городков, горских рабфаков, женских учебных заведений). Не нашли должного освещения в литературе идеологические, воспитательные аспекты формирования интеллигенции. Недостаточно изучены изменения в социально-демографической структуре студенчества. Требует дальнейшей разработки вопрос о повышении его общественной активности, участии в культурно-массовой работе. В наши дни проблемы национально-культурного развития вновь приобретают особое значение, вокруг них происходит консолидация основных политических сил, на них базируются «возрожденческие» программы. Утверждение новых теоретических подходов требует аналитического отношения к сложившимся в историографии исследовательским системам (Шеуджен, 2007: 90).
В числе вопросов, не получивших еще широкого освещения в литературе, следует назвать проблему выдвижения передовых рабочих и крестьян на руководящие посты, задачу корениза-ции советского государственного аппарата в национальных районах Северного Кавказа. По-прежнему исследователи ограничиваются показом лишь отдельных фактов, не дающих полного представления о задачах, успехах и трудностях использования этого пути формирования национальных отрядов интеллигенции.
Все большую значимость приобретает вопрос подготовки женских кадров. Он лишь частично исследовался в работах по истории формирования национальных кадров и раскрепощения женщин-горянок. Учитывая современный уровень развития гендерной истории, назрела настоятельная потребность специального изучения этой важной проблемы с учетом новых теоретических подходов. Особую значимость получает изучение форм и методов помощи, оказанной национальным образованиям Северного Кавказа в подготовке кадров интеллигенции. При существующем в общественном сознании критическом отношении к национальной политике большевиков необходимо понять, какую роль в решении проблемы кадров сыграли такие формы помощи, как предоставление мест горской молодежи по направлениям в вузах страны, создание специальных горских вузов, техникумов, рабфаков, научно-исследовательских институтов, направление специалистов для работы в национальных республиках и областях.
Список литературы Российские владения в Северной Америке в XVIII-XIX веках: особенности колонизации и причины потери региона
- Беляков Д.А. Исследование и анализ причин продажи Аляски США в 1867 году // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 19. С. 105-109.
- Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834-1867. М., 1990. 367 с.
- Готовцева А.Г. Российско-американская компания в планах декабристов. К биографии К.Ф. Рылеева // Россия XXI. 2009. № 2. С. 158-193.
- Гринев А.В. Могла ли Россия удержать Аляску? // Переломные моменты истории: люди, события, исследования. К 350-летию со дня рождения Петра Великого: материалы международной научной конференции: в 3 т. СПб., 2022. Т. 1. С. 111-118.
- Ермолаев А.Н. Вклад Российско-американской компании в социально-экономическое развитие Сибири // Российская история. 2015. № 4. С. 112-122.
- Иерусалимский Ю.Ю., Давыдов В.В., Коскина М.М. Актуальные проблемы изучения Русской Америки в современной отечественной исторической литературе // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 130-142. https://doi.org/10.17223/19988613/66/16.
- Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и зарубежном рынках (1799-1867). М., 2006. 315 с.
- Петров А.Ю. Открытие Америки: Первая и Вторая экспедиции Витуса Беринга (компаративистский анализ) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Т. 12, № 12-1 (110). Ст. 9. https://doi.org/10.18254/S207987840018237-9.
- Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1815-1841: сборник документов / сост. Т.С. Федорова, Л.И. Спиридонова; отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М., 2005. 456 с.
- Савельев И.В. Промысловое освоение русской Америки во второй половине XVIII века: монография. Архангельск, 2006. 191 с.
- Савельев И.В. Ранние русские поселения на Аляске: миф или реальность // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5. С. 24-30.
- Шахеров В.П. Русская Америка в современной российской и зарубежной историографии // Иркутский историко-экономический ежегодник: сборник статей. Иркутск, 2016. С. 539-548.
- Шахеров В.П. Судьба иркутского купца Ивана Бечевина в контексте взаимоотношения власти и сибирского предпринимательства середины XVIII века // Исторический курьер. 2023. № 5 (31). С. 251-261. https://doi.org/10.31518/2618-9100-2023-5-18.
- Шиловский М.В. Почему Россия продала Русскую Америку? (К 150-летию подписания Конвенции от 18(30) марта 1867 г. об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний) // Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 50. С. 24-30. https://doi.org/10.17223/19988613/50/3.