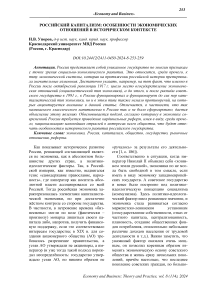Российский капитализм: особенности экономических отношений в историческом контексте
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 8 (114), 2024 года.
Бесплатный доступ
Россия представляет собой уникальное государство по многим признакам с точки зрения социально-экономического развития. Это относится, среди прочего, к типу экономической системы, которая на протяжении российской истории претерпевала значительные изменения. Достаточно указать, например, на тот факт, что именно в России после октябрьской революции 1917 г. имело место огосударствление экономических отношений (социалистический тип экономики), а до этого, и после распада советского государства в 1991 г., в России функционировал и функционирует до сих пор капиталистический тип экономики, но и в этом типе также немало противоречий, на которых акцентируется внимание в данной статье. Отмечается, в частности, что так называемого классического капитализма в России так и не было сформировано, дается объяснение этому явлению. Обосновывается подход, согласно которому в экономике современной России требуется проведение кардинальных реформ, имея в виду, среди прочего, национализацию важнейших отраслей в интересах всего общества, что будет отвечать особенностям исторического развития российского государства.
Экономика, Россия, капитализм, общество, государство, рыночные отношения, реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/170206344
IDR: 170206344 | DOI: 10.24412/2411-0450-2024-8-253-259
Текст научной статьи Российский капитализм: особенности экономических отношений в историческом контексте
Как показывает историческое развитие России, решающей составляющей является не экономика, как в абсолютном большинстве других стран, а политикоидеологические факторы. Так, в Российской империи, как известно, выдвигался тезис «самодержавие православие, народность», где император как носитель абсолютной власти ассоциировался со всей Россией. Тогда российская экономика характеризовалась элементами капиталистической экономики, но при достаточно жёстком контроле со стороны государства. В частности, в петровские времена «бизнесмены» могли по воле (фактически -произволу) монарха лишиться своего капитала либо, напротив, получить финансовую поддержку, если это соответствовало интересам государства; в XIX в. для создания акционерного общества (АО) требовалось разрешение правительства, а устав АО утверждали не акционеры, а император (и уже тогда такой подход порождал неопределённость: государство утверждало устав АО, но никоим образом не
«ручалось» за результаты его деятельности [1, с. 186]).
Соответственно в ситуации, когда император Николай II объявлял себя «хозяином земли русской», экономика по не могла быть свободной в том смысле, если иметь в виду экономику западноевропейских государств. А советское государство и вовсе было построено под политикоидеологическую концепцию социализма (коммунизма). Здесь политико-идеологический фактор имел решающее значение, и экономика стала развиваться согласно марксистско-ленинским установкам (огосударствление собственности, отказ от частного капитала, централизованность, плановость, создание общественных фондов потребления, относительно небольшое различие доходов населения от трудовой деятельности и т.д.). Важно заметить, что указанный фактор оказался очень мощным, он позволил коренным образом изменить экономическую основу советского общества и жизнь сразу нескольких поколений, причём настолько, что последнее поколение советских граждан, по большо- му счету, уже утратило какие бы то ни было навыки предпринимательства.
Однако в 1970-х гг. коммунистическая идея стала угасать ввиду её нереализуемо-сти (так, к 1980 г. правящая КПСС обещала построить материально-техническую базу коммунизма, но этого не произошло даже в «нулевом» приближении). К тому времени экономический спад советской экономики привёл к существенному снижению уровня жизни населения, которое, подчеркнем, вслед за советской пропагандой и многими советскими экономистами-теоретиками, не воспринимало даже возможности экономического кризиса при социализме, и вдруг он реальностью - тут и внешний долг государства, и пустые полки в магазинах, и талоны на потребительские товары и пр.
При такой ситуации советское общество требовало перемен. Горбачевская «перестройка» (1985-1991 гг.) в аварийном порядке пыталась реанимировать советскую экономику, вводя меры по ее либерализации на общесоюзном уровне (законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР», «О собственности в СССР» и др.) и доведя свою стратегию до признания необходимости постепенного перехода к рыночным отношениям (Закон СССР «О концепции перехода к рыночной экономике»). Но, во-первых, союзная власть так и не решилась объявить о частной (личной) собственности на средства производства и на землю (высший предел либерализации, который был допущен - коллективная собственность на средства производства), и, во-вторых, при этом идеология и руководящая роль компартии не подвергались сомнению («больше демократии, больше социализма»). Однако совместить эти два направления было невозможно. Горбачев и его соратники не пожелали поступиться идейными принципами, и участь СССР была решена.
Горбачевская «перестройка» наглядно показала, что плановая, или «идейная», экономика себя изжила, и умозрительное принудительное формирование экономических отношений не может иметь успеш- ной перспективы в сравнении с экономикой свободной, естественной для человеческого сообщества. А вот в союзных республиках, в отличие от союзной власти (Горбачева и его соратников), перешагнули через политико-идеологические барьеры, и во всех без исключения был провозглашен переход на капиталистическую (буржуазную) экономику. Особенно быстрыми темпами это было сделано новой российской правящей элитой во главе с Б.Н. Ельциным в РСФСР, где события по слому прежней экономической системы и созданию новой, по образу и подобию Запада, происходили с ошеломляющей быстротой (законы РСФСР «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и др.), причем параллельно менялась политическая система и вообще все основные общественные и государственные институты, невзирая на то, что формально РСФСР до конца 1991 г. входила в состав СССР. Можно только догадываться, что двигало Ельциным и другими политиками при принятии и реализации такого подхода в РСФСР.
Такой вопрос возникает потому, что тот же Ельцин был крупным партийным чиновником, можно сказать, коммунистом «до мозга костей», и вдруг (именно -вдруг), уже в достаточно зрелом возрасте, такая крутая метаморфоза в мировоззрении. Вместе с тем его однозначно поддержали россияне, отдав почти 92% голосов (при явке почти 90%) сначала на выборах депутатов в Верховный Совет СССР по соответствующему избирательному округу в 1989 г., а затем 57% (при явке почти 75%) - на первых всенародных выборах Президента РСФСР в 1991 г. И тогда этот же вопрос можно, очевидно, адресовать миллионам советских коммунистов и не-коммунистов. Вероятно, этот феномен еще предстоит исследовать российским историкам и политологам.
Можно лишь предположить, что в условиях безальтернативности советского образа жизни, включая экономику с ограничениями в реализации хозяйственной активности, советские граждане на фоне экономического кризиса экономики и со- циализма в целом готовы были поддержать любую решительную позицию, которая помогла бы улучшить положение в стране. Такую позицию предложил Ельцин. Не менее важно здесь отметить и то обстоятельство, что Ельцин, реализуя меры по продвижению в России экономики на западный манер, имел для этого весомые аргументы: вот она Западная Европа, вот США, вот Канада, Япония и другие капстраны - и вот уровень жизни в этих странах. Они ведь смогли с их капитализмом достичь этого, почему Россия не сможет? И в этом контексте, как нам представляется, что влияние «зарубежных консультантов» на тот период времени (когда принимались решения принципиального характера, то есть по отказ от социалистической экономики и переход на капиталистическую экономику), о чем высказывается мнение в ряде публикаций, представляются преувеличенными.
Об этом свидетельствует и всенародное принятие Конституции России 1993 г., которая провозглашает капиталистическую систему экономики. Другое дело, каким образом стала реализовываться новая экономическая политика, когда после спада политической эйфории нужно было заниматься текущими сложными проблемами российской экономики. И вот здесь, действительно, можно констатировать весьма противоречивый процесс, включая привлечение и тех же зарубежных консультантов, и своих «младореформаторов» (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Б.Е. Немцов и др.), не обладавших опытом такого рода деятельности, и т.д. Этот процесс довольно подробно описан и описывается в политологической и экономической литературе, причем явно преобладают критические нотки. Указывается, в частности, что «политические лидеры России в 1991 году искусственно оторвали политику от экономики, отдав приоритет в социальном развитии политике. Результаты сказались незамедлительно» [2, с. 34]. Однако с этим вряд ли можно согласиться по указанным выше причинам. Особенно много критических стрел касаются приватизации государственного и муниципального имущества. Несмотря на то, что прошло уже бо- лее тридцати лет, эта тема остается актуальной и неоднозначно толкуемой.
Так, по мнению В.И. Зоркальцева, отказавшись от безвозмездной передачи трудовым коллективам контрольных пакетов предприятий, власть предопределила развал экономики, а «программа приватизации привела к тому, что акционированные предприятия продавались за ваучеры частным лицам, а на втором этапе уже за деньги [3, с. 746]. Мы полагаем, что в такого рода решениях не могло быть однозначных решений. Ведь если передавать предприятия трудовым коллективам, то справедливо это было бы по отношению к тем, кто вообще не работал на предприятиях? С другой стороны, в еще вчерашнем социалистическом обществе по определению не могло быть состоятельных частных лиц, обладавших необходимыми и законными средствами для выкупа предприятий. Этот тупиковый узел и решено было разрубить институтом приватизационных чеков (ваучеров). Но оптимальным, конечно, этот способ назвать было нельзя, поскольку не было создано необходимых механизмов контроля и защиты от злоупотреблений тех, кто был близок к кабинетам, где принимались решения. В результате, например, «российские предприятия скупались иностранными компаниями, с помощью подставных лиц и лазеек в законодательстве. Обычно такие предприятия подвергались сверхэксплуатации для получения максимальной прибыли, или разрушались как конкуренты на мировом рынке … в цветной металлургии, в добывающей и перерабатывающей промышленности» [4, с. 5]. Было много и других спорных позиций. Что же в результате имеем сейчас в России. Да, в России формально экономика западного типа, Россия является членом ВТО, состоит в других международных экономических организациях, имеется довольно либеральное законодательство. Однако общий итог сводится к тому, что в России де-факто так и не удалось сформировать экономическую систему по типу западной, как это планировалось на рубеже 1991 г.
Как показывает практика последующего времени, и особенно последних лет, эко- номика России не просто неэффективна, а крайне неэффективна. Следует согласиться с В.М. Кульковым в том, что имеет место «кризис сложившейся в России за четверть века национальной экономической модели … данная модель ущербная и неперспективная, неадекватная как национально-специфическим факторам, присущим России, так и стратегическим целям национального развития» [5, с. 48]. Это подтверждается, в частности, большой зависимостью России от импорта технологий – так, по данным Минпромторга Росси (сведения за 2014 г.), «доля импорта в ряде стратегических отраслей России превышает 80%, при этом в станкостроении – более 90%, в тяжелом машиностроении – до 80%, в легкой промышленности – до 90%, в радиоэлектронике – до 90%, в фармацевтической и медицинской промышленности – до 80%» [6]. А ведь технологии, по нынешним меркам, это едва ли не первое условие успешной экономики. К этому можно добавить пресловутую газонефтяную «иглу», от которой российская экономика не может отказаться, несмотря на все декларации и усилия правительственных структур (что показывает его неэффективность), огромное имущественное и социальное расслоение российского общества. Во многом это результат противоречивого начала переходного периода, когда, на наш взгляд, тогдашние российские власти слишком торопливо и даже, можно сказать, суетливо, вталкивали российскую экономику в рыночные отношения, начисто игнорируя другие программы реформирования экономики, не учитывая в должной мере специфику России, чистая ее типичным европейским государством.
А между тем, как мы отмечали, граждане России, вдруг оказавшиеся в капиталистическом мире, в большинстве своем, взросшие на социалистическо-патерналистской модели общества, не смогли найти свое место в новой жизни, где жесткая конкуренция, а нищета считается личной проблемой человека, у них бело необходимых знаний и навыков противостоять ухудшению своего положения. Были бездумно отброшены многие советские институты (сельхозкооперация, профсоюзное движение и др.). На этом фоне чиновники и другие дельцы, приближенные к властным кабинетам, не обремененные моральными принципами, сумели праведными и неправедными (очевидно, в большинстве случаев) обогатиться и стать олигархами, подмять под себя государство, пролоббировать нужные законы, гарантирующие законность их миллиардных накоплений, создать частные монополии, которые не решают социальные задач, а работают исключительно на свой карман. Можно добавить конституционный отказ от какой-либо государственной идеологии, что породило определенный духовный кризис. В управлении экономикой становится все более и более неформальных институтов [7], и эта тенденция лишь укрепляется. О перекосе российской экономики говорит и искаженное понимание частной собственности, которая, имея в развитых странах социально-полезную направленность (и соответствующий правовой статус), в России воспринимается как обычная личная собственность отдельных физических лиц, которую можно положить в чемодан и увезти куда хочешь, что, собственно, и имело место в последние годы до известных событий военнополитического характера.
Вместе с тем в литературе справедливо отмечается, что «в западноевропейских странах 10-15% средств производства находятся в частной собственности, 6070% – в коллективно-корпоративной и акционерной, а 15-25% – в государственной. При этом государственный сектор обеспечивает от 1/3 до 1/2 валовых капитальных вложений, потребляет около 1/4 конечного общественного продукта, финансирует более 1/2 общенациональных расходов. Сегодня многие государства превратились в непосредственных организаторов производства в ведущих отраслях экономики. Они уже не доверяют частному капиталу освоение приоритетных сфер деятельности, которые могут стать стратегическими. Вообще, «чистого» рынка как такового давно уже нет. Об этом свидетельствуют современные модели экономики в наиболее развитых странах. Их хозяйственный механизм, как правило, представляет со- бой сочетание государственного планирования и рыночных отношений, тесно взаимодействующих через многочисленные регулирующие институты, идеологию и правосознание» [8, с. 27]. Не удивительно, что практически все (за малым исключением) социальные проблемы в России решаются из бюджета, который, как известно, не безразмерный.
Соответственно при такой экономической системе в России, самой большой по территории стране мира, например, строятся не комфортные 4-6 этажные жилые дома, а застройщики поднимают в городах 20-25-этажные человейники едва ли не в 15-20 метрах друг от друга, создавая бетонно-стеклянные гетто, где уже идут и развиваются социально-негативные процессы (наркомания, преступность, ухудшение экологии и др.), и чаще всего такое строительство имеет криминальнокоррупционный характер. Этот перекос абсолютно очевиден всем, но действующая модель экономики не позволяет его устранить.
Подобного рода примеры, может быть, менее наглядные, можно насчитать еще немало. Такое состояние российской экономики, как представляется, отнюдь не отвечает интересам и потребностям российского общества. И в этом смысле мы не можем согласиться с С.Н. Ревиной в том, что «в каждой стране существует либо рыночная, либо командная экономика, термин «смешанная экономика» носит двусмысленный характер, ибо в одной стране невозможно одновременное применение различных принципов и методов управления» [9, с. 18]. Пример Китая, где по-прежнему руководящей является коммунистическая партия, показывает, что необязательно отказываться от своих традиций, чтобы осуществить переход на систему экономики со значительной рыночной составляющей. А в России тем более это актуально, учитывая факторы, которых нет ни в одной стране мира, а именно огромные пространства и многоукладность образа жизни более чем ста этносов в субъектах Федерации, уже и так различающихся по уровню благосостояния как разные государства при формальном единстве как государственности, так и гражданства.
Как представляется, есть основания полагать, что современная экономика России на основе имеющегося качества государственного управления в этой сфере, осложненного известными военно-политическими событиями последних лет, долго может не выдержать: либо созреет такое недовольство огромного числа россиян, что заставит вспомнить 1917 г., либо страна просто развалится на части, как это произошло с СССР. Поэтому реформа управления экономикой назрела со всей очевидностью. И начать ее нужно, на наш взгляд, с целеполагания деятельности органов государственной власти и в целом общественных институтов. Того, что зафиксировано в Конституции России, явно недостаточно (например, защита прав человека - да, но где, например, необходимая защита прав работника: профсоюзов практически нет, а суды неэффективны, затратны по финансам и времени, да и управляемы во многих случаях). Это целеполагание должно определяется в общественной дискуссии и формулироваться представителями народа в российском парламенте. В этом контексте представляется целесообразной модель «современной смешанной экономики» (в т.ч. более весомая роль государства по сравнению со «стандартными» рыночными экономиками; многообразие форм собственности, включая важную роль государственной собственности в стратегически важных сферах» [5, с. 49], что можно расценивать как специфичность «российского капитализма».
Однако такой подход не должен означать, безусловно, самоуход России из международной экономики, ссылаясь на опасность превращения российской экономики в «периферийный капитализм» [10]. Дело в том, что процесс глобализации, и прежде всего экономической, является объективным явлением. В этой связи заслуживает внимания точка зрения А.В. Марзоевой о том, что глобализация по своей сути представляет собой «конструкт стратегического планирования в рамках единой системы управления миро- вым развитием», направленный на трансформацию мироустройства, включая вытеснение «государство-центричной» парадигмы на задний план, и здесь «Россия, как и другие страны, не имеет выбора, «входить» или «не входить» в глобализа- цию; важно понимать, что это может происходить или сознательно, с учётом собственных интересов или под воздействием внешних сил и обстоятельств» [11, с. 14] (на это счет есть и другие как схожие, так и несколько иные подходы [12-17]).
Здесь, при формировании направлений развития российского капитализма, на наш взгляд, главное внимание должно быть уделено максимально возможной защите интересов российского общества, российских граждан, российского государства, а как отмечалось выше, необходима свободная общественная дискуссия. Разного рода мнения на этот счет высказываются [18; 19; 20 и др.]. Но речь идет пока идет об отдельных составляющих российской экономики, в то время как актуальны страте- гические предложения, и прежде всего, по нашему убеждению, должны преобладать позиции о доминировании в российской экономике, с учетом исторических традиций, большего участия государства, чем это имеет место сейчас. Такого рода предложения не новы, но они не реализуются. А между тем без изменений, которые следует начать именно в таком направлении (вплоть до национализации важнейших отраслей в интересах всего общества), будущее России вряд ли может быть благо- для выделения этих интересов, опять же, получным.
Список литературы Российский капитализм: особенности экономических отношений в историческом контексте
- Петражицкий Л.И. Акционерная компания. - СПб., 1898.
- Панфёров К.Н. Экономика и политика переходного периода // Научный вестник МГТУ гражданской авиации. Серия «История, философия, социология». - 2009. - № 142. С. 30-36.
- Зоркальцев В.И. Лица России. Справочно-энциклопедическое издание. 1998, Т. 2.
- Дзуцева Г. Н., Халява А. И. Приватизация в России как важнейший этап перехода к рыночной экономике // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Межд. науч. конф. - СПб.: Свое издательство, 2017. - С. 3-5.
- Кульков В.М. Завершился ли переходный период в экономике России? // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз - 2015. - № 4. - С. 45-53.
- Доля импорта в стратегических отраслях превысила 80 процентов // Лента.ру. 2014. 10 июля. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lenta.ru/news/2014/07/10/import (дата обращения: 19.04.2024 г.).
- Капелюшников, Р. «Где начало того конца?..» (к вопросу об окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики. - 2001. - № 1. - С. 138-156.
- Винокуров В.С. Проблемы перехода к рыночным отношениям // Достижения науки и техники АПК. - 2006. - № 6. - С. 24-29.
- Ревина С.Н. Теоретические проблемы правового регулирования рыночных отношений в современной России: дисс. д-ра юрид. наук (12.00.01). - Н. Новгород,2008.
- Батчиков С.А. Родина или смерть. Может ли одержать Победу страна периферийного капитализма? // Свободная мысль. - 2023. - № 4. - С. 17-25.
- Марзоева А.В. Совершенствование культурной политики России в условиях глобализации. Часть 1 // Культурологический журнал. - 2024. - № 2. - С. 10-16.
- Минаков А.В., Ковбаса Н.А. Тенденции и перспективы развития цифровых технологий в россии в условиях глобализации // Индустриальная экономика. - 2022. - № 2. -С. 161-164.
- Алешина И.В. Глобализация как фактор эволюции концепций маркетинга // Управление. - 2022. - Т. 10. № 1. - С. 85-100.
- Варнавский В.Г. Глобализация и структурные сдвиги в мировом производстве // Мировая экономика и международные отношения. - 2029. - Т. 63. № 1. - С. 25-33.
- Заславская, О.И. Глобализация: социально-философский анализ // Обзор философских аспектов глобализации и ее влияния на социальные процессы, 2006. - С. 20-45.
- Петрова, Т.А. Глобализация и социальное неравенство // Исследование социального неравенства в контексте глобализации, 2016. - С. 411-432.
- Гурьянов Н.Ю., Гурьянова А.В. Глобализация в формате многополярности: философско-мировоззренческое обоснование глобополицентризма // Философская мысль. -2024. - № 4. - С. 20-34.
- Голубев В.С. От глобализации к гармонизации - мировая повестка на XXI век // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. - 2023. - №1. - С. 84-86.
- Котолупов О.А., Хриенко П.А. Основные принципы антикризисного управления экономикой современной России // Свободная мысль. - 2023. - № 2. - С. 171-179.
- Ларионов И.К., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. Концепция организации и управления экономикой России на основе формирования новой модели денежно-ценовой системы // Экономические системы. - 2023. - № 4 (63). - С. 87-96.