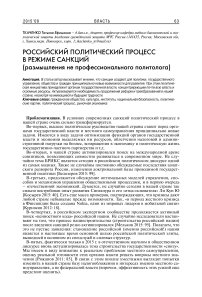Российский политический процесс в режиме санкций (размышления не профессионального политолога)
Автор: Ткаченко Татьяна Ефимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье автор высказывает мнение, что санкции создают для политики, государственного управления, общества и граждан принципиально новые возможности для развития. При этом политическая инициатива принадлежит органам государственной власти, концентрирующим почти всю власть и огромные ресурсы. Актуализируется необходимость продолжения реформ и преобразований в нашей стране, несмотря на имеющиеся и будущие трудности.
Гражданское общество, культура, институты, национальная безопасность, политические партии, политический процесс, рыночная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/170168075
IDR: 170168075
Текст научной статьи Российский политический процесс в режиме санкций (размышления не профессионального политолога)
Проблематизация. В условиях современных санкций политический процесс в нашей стране очень сильно трансформируется.
Во-первых, высшее политическое руководство нашей страны ставит перед органами государственной власти и местного самоуправления принципиально новые задачи. Имеются в виду задачи оптимизации функций органов государственной власти и экономии выделяемых им ресурсов, облегчения налоговой и административной нагрузки на бизнес, возвращения в экономику и политическую жизнь государственно-частного партнерства и т.д.
Во-вторых, в нашей стране активизировался поиск на международной арене союзников, позволяющих совместно развиваться в современном мире. Не случайно тема БРИКС является сегодня в российском политическом дискурсе одной из самых модных. Также не случайны постоянно обсуждаемые последствия азиатского разворота России, изменения доктринальной базы проводимой государственной политики [Белозеров 2015: 99].
В-третьих, продолжается обсуждение оптимальных моделей управления, способов и механизмов управления общественными процессами, и в первую очередь – отечественной экономикой. Думается, не случайно сегодня в нашей стране так сильно востребован опыт развития Сингапура и его «отца-основателя» Ли Кун Ю [Косырев 2015: 40]. Есть еще масса примеров, подтверждающих, что кризисы дают любой стране небывалые прежде возможности. Так, «в период жесткого кризиса в Финляндии была создана Nokia, один из мировых лидеров в мобильной связи» [Курносов 2012: 18].
В-четвертых, в российском экспертном сообществе продолжается активный поиск «ценностного кода» российской нации. Не случайно исследователи настаивают на том, что процесс нациестроительства (строительства российской нации) после введения санкций резко активизировался [Мельков 2015: 95]. Полагаем, что это не пустые заявления: становление российской (именно российской!) нации является в настоящее время основной целью российской политической элиты, вышедшей в основном из спецслужб и силовых структур.
В-пятых, фактически только в 2015 г. в отечественном научном и общественном дискурсе вновь актуализировалась тема строительства государственности «снизу». Мы имеем в виду внимание к реальным проблемам местного самоуправления, оценку реальной готовности этих органов власти решать вопросы местного значения [Ряжапов 2011: 85]. В связи с этим вполне уместными выглядят попытки изменить в нашей стране базу налогообложения в интересах именно местного самоуправления, а не федеральной власти (впрочем, эффективность этих усилий еще предстоит оценить).
В-шестых, санкции вновь актуализировали дихотомию безопасности и развития. Если часть силовых структур на первое место в российской политике ставят укрепление безопасности, то научное сообщество скорее склоняется к приоритету национального развития. Понятно, что обеспечить развитие без устойчивой системы безопасности нельзя. Однако в условиях ограниченных ресурсов и кризисной экономики безопасность может «стягивать на себя» значительное количество национальных ресурсов и ограничивать социальное развитие.
Фактически сегодня речь идет о наступающих, а может быть только грядущих изменениях политической культуры современного российского общества, которые «запущены» санкциями 2014 г. И не случайно сегодня в современном обществе политическая культура принадлежит, наряду с психологией и этикой, к самым важным сторонам гуманитарного измерения политики. Ее обычно определяют как внеинституциональную систему, охватывающую политические традиции, политические ценности и установки практического политического поведения [Галкин 2004: 29].
О реальности политического процесса вне институтов. Вопрос о социокультурном контексте политического процесса, как считают многие современные ученые, в первую очередь связан с выяснением его значимости вне институциональных аспектов политики. Так, за деятельностью тех или иных политических субъектов, за историческим фасадом институтов просматривается присутствие традиционных «канонов», зачастую не всегда осознаваемых, но неизменно действующих. Даже новые технологии невозможно произвольно пересаживать на любую социокультурную почву (импортированный парламентаризм, импортированная демократия). Не случайно сегодня все чаще ученые пишут о вариативности общественного развития [Якунин и др. 2009].
Исторически в политическом процессе всегда существуют и сталкиваются политические идеи двух основных типов: представительские, выражающие интересы и позиции различных групп общества, например, социопрофессиональных, региональных, этических, и глобальные, конкурирующие на рынке политических проектов «лучшего будущего». Эти идеи и варианты развития, полагаем, не являются взаимозаменяемыми, потому что их связывают отношения дополнительности. Как показала история, если политика превращается в конкурс глобальных мироустроительных идей, а представительские функции оказываются подавленными, это грозит идеократическим (по сути, теократическим) вырождением политической культуры с последующей потерей способности соизмерять «высшие смыслы» с запросами человеческой повседневности [Елисеев 2000: 121].
Политический процесс в России сегодня представляет собой комплекс политических взаимодействий субъектов, носителей и институтов власти. Они действуют на основе тех ролей и функций, которые задаются системой культуры, традициями, конфессиональной средой, ментальностью общества, особенностями исторического развития, чертами психологического склада этносов и т.д. [Белозеров 2015]. В то же время заметим, что поведение субъектов власти и властных институтов в России имеет специфическую логику и специфическое происхождение с рядом сформировавшихся особенностей [Галкин 2004].
Постараемся далее кратко охарактеризовать некоторые особенности современного отечественного политического процесса.
Первая особенность политического процесса в России заключается в фактическом единении политики и экономики, социальных и личных отношений. В данном случае политика не имеет четких границ отделения от других сфер жизни в силу незрелости институтов гражданского общества, которые должны ограничивать всевластие органов государственной власти и контролировать их действия. В результате политика занимается даже частными отношениями граждан, и это политическое вмешательство в частную жизнь в нашей стране продолжает усиливаться. Несформированность гражданского общества является одной из особенностей цивилизационного развития России. Ни один вопрос экономического, социального, духовного развития не решается без вмешательства властных структур.
Наверно, эту мысль можно было бы поставить под сомнение, если бы не многочисленные подтверждения верности данного утверждения. Так, директор Московского центра Карнеги Д. Тренин в своих трудах пишет о том, что имперские амбиции Руси/России никуда не исчезли, а продолжают жить и оказывать постоянное влияние на российскую политику [Тренин 2012: 39]. Практически все действующие современные российские политики считают себя патриотами и даже консерваторами, и все как один отрицают либеральные ценности. По сути, все они считают государство и государственные интересы основными российскими национальными ценностями.
Вторая особенность политического процесса в России заключается в фактическом отсутствии консенсуса между его участниками относительно узаконенных целей и средств политического действия. Применять силу в отношении своих граждан и не граждан России или не применять? На всех распространяется российское законодательство или есть сферы и области, где не только возможны, но и приветствуются исключения? И т.д. Таким образом, причина имманентной конфликтности российского политического процесса кроется в различном понимании ценностей свободы и демократии у современных политических сил, в их неодинаковых возможностях как участия в реформаторском процессе, так и удовлетворения собственных интересов (особенности российской политической системы).
Достаточно известный российский институционалист Р.М. Нуреев четко фиксирует зависимость типа общественных и политических отношений от господствующего типа социального контракта (неформальных отношений между властью и гражданами). Он также излагает важнейшую мысль: «Люди как производители и потребители частных благ имеют отношение в первую очередь к институтам рынка; а как производители и потребители общественных благ – к институтам государства» [Нуреев 2005: 87]. Понятно, что в первом случае доминируют свободные отношения, а во втором – принудительные. Полагаем, не случайно действия (применение силы) в процессе частных американских военных кампаний в Афганистане оцениваются большинством россиян негативно, а аналогичные действия российских граждан в Восточной Украине – как высшая степень патриотизма.
К третьей особенности политического процесса в России отнесем высокую степень концентрации политических ролей в России. Имеется в виду достаточно высокая степень аполитичности российских граждан, слабая способность российских политических партий выражать интересы гражданского общества. В этих условиях получается достаточно странная для демократического общества ситуация: политических партий много, а интересы избирателей эти партии не реализуют. Институты гражданского общества в нашей стране вроде бы многочисленны, но граждане предпочитают реализовывать свои интересы вне институтов гражданского общества.
Наверно, политики в нашей стране должны быть профессионалами, но все же политиками, полагаем, должны становиться не столько чиновники, сколько общественные деятели. Не должны чиновники действовать на политическом рынке (как на внутреннем, так и на внешнем). А фактически в нашей стране именно чиновники (бюрократия как класс) являются центром, основой политического процесса [Нуреев 2005: 91]. Об этом, кстати, в свое время подробно написал М. Восленский в своей книге «Номенклатура» [Восленский 2005]. Кроме того, часто складывается ощущение, что политиками в нашей стране являются исключительно медийные фигуры, выступающие по телевидению. А все остальные управленцы, государственные и общественные деятели находятся вне политического процесса.
Четвертая особенность современного политического процесса в России связана с фактическим приоритетом международной и внешней политики. Любые новостные передачи сегодня дают зрителям информацию о ситуации в Украине и о происках западного мира, при этом фактически отсутствует информация о внутренней политике. Мы не считаем нормальным этот явный перекос, поскольку считаем, что режим санкций как раз и должен привести к резкой активизации внутренних российских субъектов развития. Именно об этом говорит наш президент: наступило время самых смелых инициатив, наступило время малого и среднего бизнеса.
Поэтому мы считаем необходимым вовлечь в информационный процесс многочисленные мнения и идеи граждан, институтов гражданского общества, экспертов и общественных деятелей. В противном случае, полагаем, очередная попытка модернизации (а сейчас в нашей стране модернизация явно идет полным ходом) может провалиться.
Пятая особенность современного российского политического процесса заключается в его случайности, непредсказуемости и интуитивности (так бывает чаще, чем осуществление политики в плановом режиме). Как пишет достаточно известный аналитик из Федеральной службы безопасности России профессор Ю.В. Курносов, «у нас по-прежнему интеллект не в почете, и, как следствие, нет аналитических центров». Он же пишет о том, что в США «за последнее десятилетие отмобилизована огромная инновационная армия из 5 млн интеллектуалов со всего мира» [Курносов 2013: 24].
Скорее всего, мы не можем подобное заметить в отношении отечественной государственной политики, хотя при всех органах государственной власти и местного самоуправления созданы общественные советы, а при многих из них сформированы еще и экспертные советы. Во всех регионах РФ действуют общественные и торгово-промышленные палаты. Однако пока непонятно, могут ли каким-то образом эти институты влиять на готовящиеся социально значимые решения.
Выводы. Очевидно, что санкции 2014 г. создают для России определенные проблемы, но одновременно и новые возможности. Воспользоваться новыми возможностями в национальных интересах, на наш взгляд, смогут только те субъекты политики, которые будут опираться на волю и интересы граждан, будут строить российскую политику «снизу».
Очевидно также, что в отечественной политической системе должны произойти серьезные изменения, позволяющие интегрировать в политический процесс многочисленные социальные и экономические инициативы граждан и общества. Иного пути просто нет.
Список литературы Российский политический процесс в режиме санкций (размышления не профессионального политолога)
- Белозеров В.К. 2015. Военная доктрина России: в начале большого пути. -Власть. № 2. С. 98-103
- Восленский М. 2005. Номенклатура. М.: Захаров
- Галкин А.А. 2004. Размышления о политике и политической науке. М.: Оверлей
- Елисеев С.М. 2000. Политические отношения и современный политический процесс в России. СПб
- Косырев Д. 2015. Творец нации. -Огонек. № 12
- Курносов Ю.В. 2012. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: РУСАКИ
- Мельков С.А. 2015. Какие ценности предстоит защищать России. -Власть. № 2. C. 94-97
- Нуреев Р.М. 2005. Теория общественного выбора. М.: ИД ГУ ВШЭ
- Ряжапов Н.Х. 2011. Особенности местного самоуправления в Москве и некоторые вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны. -Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. № 1
- Тренин Д. 2012. Post-imperium: евразийская история. М.: РОССПЭН. 236 с
- Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Куликов В.И., Сулакшин С.С. 2009. Вариативность и цикличность глобального социального развития человечества. М.: Научный эксперт