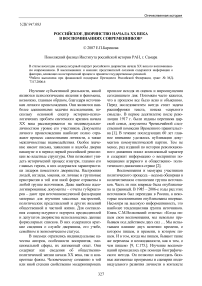Российское дворянство начала ХХ века в воспоминаниях современников
Автор: Баринова Е.П.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.9, 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье воссоздан социокультурный портрет российского дворянства начала ХХ века по воспоминани- ям современников. В высказываниях и мнениях представителей сословия содержится информация о факторах, влияющих на исторический процесс и принятие государственных решений.
Короткий адрес: https://sciup.org/148197941
IDR: 148197941 | УДК: 947.083
Текст научной статьи Российское дворянство начала ХХ века в воспоминаниях современников
Поволжский филиал Института российской истории РАН, г. Самара
В статье воссоздан социокультурный портрет российского дворянства начала ХХ века по воспоминаниям современников. В высказываниях и мнениях представителей сословия содержится информация о факторах, влияющих на исторический процесс и принятие государственных решений.
*Работа выполнена при финансовой поддержке Президента Российской Федерации, грант № МД-7317.2006.6
Изучение субъективной реальности, какой являются психологические явления и феномены, возможно, главным образом, благодаря источникам личного происхождения. Они являются наиболее адекватными задачам исследования, поскольку основной спектр историко-психологических проблем системного кризиса начала ХХ века рассматривается на индивидуальноличностном уровне его участников. Документы личного происхождения наиболее полно отражают процесс самосознания личности, а также межличностные взаимодействия. Особое значение имеют письма, заявления и жалобы дворян накануне и в период первой российской революции во властные структуры. Они позволяют увидеть исторический процесс изнутри, глазами его главных героев, в них содержатся характеристики лидеров поместного дворянства. Настроения людей, взгляды, мнения, их личные и групповые пристрастия в той или иной форме отражены в любой группе источников. Даже наиболее идеологизированные документы – отчеты губернаторов – дают при источниковедческой фильтрации материал для изучения массовых настроений, политических представлений и других явлений общественной и частной жизни. Для составления социокультурного портрета предводителей и депутатов дворянства использовались данные формулярных списков. В них содержатся краткие сведения о службе дворянина, его учебе, семейном и экономическом статусе.
В письмах отразились индивидуальные качества авторов, особенности восприятия, эмоциональной сферы, их жизненный опыт. Они содержат как сведения об общественнополитической жизни начала ХХ века, так и конкретные факты. Человеческому сознанию в той или иной степени свойственно модернизировать прошлое исходя из оценок и мироощущения сегодняшнего дня. Потомкам часто кажется, что в прошлом все было ясно и объяснимо. Перед исследователем всегда стоит задача расшифровки текста, поиска «скрытого смысла». В первое десятилетие после революции 1917 г. были изданы переписка царской семьи, документы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства [1]. В течение последующих 60 лет главное внимание уделялось публикации документов коммунистической партии. Тем не менее, ряд изданий по истории революционного движения носил комплексный характер и содержит информацию о восприятии помещиками аграрного и общественно- политического движения в стране [2].
Воспоминания и мемуары участников политического процесса – весьма обширная в количественном отношении группа источников. Часть из них впервые была опубликована за границей. В 1985 – 2006-е годы ряд этих источников был переиздан в России, а некоторые воспоминания опубликованы впервые. Несмотря на высокую информативность, это наиболее тенденциозная группа источников. Князь С.М.Волконский отмечал: «Когда пишем свои воспоминания, мы невольно пребываем под действием двух сил … Мы испытываем влияние двух величин: времени, о котором пишем, и времени, в котором пишем. И в том, когда мы пишем, бывают такие же перемены и неожиданности, как в том, о чем пишем» [9, С.175.]. Изучение воспоминаний проводилось при помощи биографического метода. Он позволил воссоздать базовые жизненные программы и сценарии индивидуального развития личности в контексте истории, пространственно-временную организацию ее деловой и духовной жизни.
Использованные в работе воспоминания и мемуары можно условно поделить на несколько видов по характеру представленного в них материала и авторству работ. Также были подвергнуты анализу воспоминания чиновного дворянства [3], членов царской семьи [4], губернских и уездных предводителей дворянства [5], губернаторов [6], политических лидеров[7] и рядового дворянства [8].
Человек всегда соотносит представления о собственной личности с представлениями о группе или системе общностей, доступных его восприятию. Наряду с характеристикой лично -сти автора мемуарные источники содержат богатейший материал о современниках мемуаристов. Эти сведения теснейшим образом переплетены с представлениями автора с собственной личности, но они, как правило, богаче и разнообразнее. Воспоминания членов царской семьи носят тематический характер, они посвящены описанию действий членов императорской фамилии и, прежде всего, личности Николая II.
Круг действующих лиц в воспоминаниях С.Д.Урусова, В.И.Гурко, А.Н.Наумова чрезвычайно широк: император, высшие сановники (Витте, Дурново, Плеве, Трепов, Святополк-Мирский и др .), известные общественные деяте -ли, писатели, ученые, публицисты, чиновники и общественные деятели местного уровня, столичные и провинциальные жители разных сословий, церковные деятели. По существу, перед нами предстает летопись российских общественных событий на переломе эпох. Авторами даны выразительные зарисовки быта и нравов россиян, сведения о хозяйственной жизни, системе образования, в сравнении показана жизнь провинции и столичных городов.
Воспоминания А.В.Оболенского, кн. Б.В.Васильчикова, кн. В.А.Друцкого-Соколин-ского по другому принципу построены, в них описываются жизнь и карьера автора, личностные характеристики даются только друзьям, родственникам и знакомым. Количество лиц, упомянутых в мемуарах, зависело от положения мемуариста в социальной среде, степени осведомленности, его общительности и социальной активности. Так, в первой части воспоминаний кн. В.А.Друцкого-Соколинского дается краткая характеристика основных этапов его жизни, а большая часть мемуаров посвящена описанию имения [10]. В воспоминаниях кн. Б.А.Ва-сильчикова третья глава, объемом более 30 страниц, посвящена описанию псовой охоты [11, С.52 – 84].
Количество лиц, упомянутых в мемуарах, зависело от положения мемуариста в формальной и неформальной структуре современного ему общества, уровня его эрудиции, широты кругозора, степени осведомленности, соотносилось с его общительностью и социальной активностью. Выбор определенного способа изображения того или иного упомянутого автором лица также зависел от индивидуально-личностных особенностей мемуариста.
Отметим, что представители титулованного дворянства часто отмечали «недоброжелательное отношение к себе как к представителям знатных фамилий со стороны служилого дворянства и интеллигенции. С.Е.Трубецкой писал: «Мое «княжество» естественно вызывало холодное и недоброжелательное отношение среди «левых» и даже вообще интеллигентов. Но я немало смутил их тем, что я не подходил к тому типу аристократа, который они себе почему-то рисовали. Я не был «пшютом» и «белоподкладочником», и, «кроме того», лидеры наших «левых» не без удивления заметили, что «князь» во всяком случае не менее образован, чем они сами, а, может быть, даже и бо-лее…[12, С.53 – 54]. С.М.Волконский отмечал, настороженность в личных взаимоотношениях уездного поместного дворянства, внутреннюю отчужденность. «Титул «клал какую-то непроходимую пропасть недоверия и предвзятого мнения . Я не преувеличу, сказав, что понадобилось двадцать лет, чтобы в глазах того, что именуется «интеллигенция» «князь Волконский» превратился в «Сергея Михайловича»…. Что они себе рисовали, не знаю, но знаю только, что я совсем не соответствовал установившемуся представле-нию»[9, С.194]. «И всю мою жизнь — в школе, в провинции, впоследствии в критике моих писаний, в оценке моей воспитательной деятельности, — с горечью писал он, – мне «сбавляли единицу за титул». Всю жизнь я чувствовал, что тяготеет на мне обвинение в том, что я «князь», а теперь, во время большевизма, мне тычут в глаза, что я «бывший князь». Несмываемый грех в глазах тех, кто проповедует равенство»[9, С.50].
Воспоминания Александра Николаевича Наумова – земского начальника, уездного, а затем Самарского губернского предводителя дворянства, почетного мирового судьи, члена Государственного совета (1909 – 1916гг.), министра земледелия – высоко информативный документ. Хотя воспоминания написаны А.Н.Наумовым в эмиграции, они насыщены многочисленными подробностями, которые помогают воссоздать реалии российской жизни конца XIX – начала ХХ в. Вся жизнь А.Н.Наумова прошла в служении родине; понятия патриотизма, долга и дворянской чести были для него неразрывно связаны. С ранней юности до последних лет своей жизни А.Н.Наумов вел дневниковые записи – кратко заносил события прошедшего дня в свою тетрадку. Часть этих дневников была утеряна в годы революции и Гражданской войны . В годы эмиграции А.Н.Наумов попытался возродить эти дневники. В 1937 году во Франции работа над воспоминаниями была завершена и рукопись, по совету генерала Н.Н.Головина, сдана на хранение в библиотеку Хувера Стэнфордского университета в Калифорнии. Воспоминания были изданы в 1954 – 1955 гг. в Нью-Йорке благодаря стараниям его вдовы А.Н.Наумовой и дочери О.А.Кусевицкой очень небольшим тиражом. Воспоминания А.Н.Наумова охватывают период с 1868 г., времени его рождения, до конца 1920 гг. В напечатанном варианте «Из уцелевших воспоминаний» они доходят до 1 июля 1916 г., когда А.Н.Наумов был освобожден от должности министра земледелия. Дневник А.Н.На-умова, который посвящен характеристике революционных потрясений 1917 г. и первым годам жизни семьи Наумовых во Франции в эмиграции, опубликован не был. Воспоминания состоят из двух томов. Первый том охватывает период с 1868 по 1905 год.
Свое детство А.Н.Наумов описывает со слов матери. А.Н.Наумов показал повседневную жизнь провинциальной дворянской семьи в го-ловкинской усадьбе и в Симбирске, обучение и воспитание дворянских детей, детские увлечения и игры. На страницах воспоминаний он проводит сравнение между военной гимназией, где учился его старший брат Дмитрий, и классической, в которой обучался сам. Около тридцати страниц посвящено учебе А.Н.Наумова на юридическом факультете в Московском государственном уни- верситете и быту студента в г. Москва. Он дает подробные характеристики профессорам университета и своим сокурсникам, описывает быт студенчества, влияние общественного движения на студенческую жизнь.
А.Н.Наумов прошел всю иерархическую лестницу ответственных земских и дворянских должностей, начиная с секретаря уездного и губернского собрания и члена специальных комиссий, исполнял обязанности члена и председателя губернской земской управы, был уездным и губернским предводителем дворянства. Полторы сотни страниц воспоминаний А.Н.Наумова посвящены его земской деятельности. В 1893 году А.Н.Наумов был назначен исполняющим обязанности земского начальника 2 участка Ставропольского уезда. Должности земских начальников в Ставропольском уезде были замещены бывшими мировыми судьями, предводителями дворянства, землевладельцами с высшим образовательным цензом. С точки зрения А.Н.Наумова, неопределенность обязанностей земского начальника открывала простор для инициативы, «живого творчества по оказанию действительной и непосредственной помощи сельскому населению – темному, малограмотному, запутавшемуся в сложных земельных неурядицах, далекому от правовой правды и должной за-щиты»[13, Т.1. С.187.]. Сфера деятельности земского начальника была достаточно обширной. Он имел широкие полномочия в отношении лиц крестьянского самоуправления, рассматривал жалобы крестьян, наблюдал за деятельностью волостных судов. «Церковь, школа, семья, сиротство, суд, защита личная и общественная – все это требовало со стороны земского начальника ежечасной заботы, быстрого решения, разумного совета или ру-ководственного подсказа», – вспоминал А.Н.Наумов[13, Т.1. С.188.]. Освоившись в течение первого года своей службы в должности земского начальника, А.Н.Наумов стал претворять в жизнь планомерную программу упорядочения наиболее важных сторон правовой и бытовой сельской жизни.
Благополучие каждого помещика, всей его семьи зависело, прежде всего, от уровня организации хозяйственной деятельности, умения управлять родовой собственностью. Обладание поместьем и проживание в своем поместье олицетворяли традиционный и нравственно превосходный образ жизни, которому противопоставлялись презираемые и вызывающие страх нравы рыночного общества. Хозяйственной деятельности помещика по переустройству имения посвящено немало теплых страниц в воспоминаниях А.Н.Наумова. «Судьбой было мне предопределено ознакомиться с совершенно новой для меня обширнейшей деловой областью по заведыванию крупными частными хозяйствами, с разнообразнейшими разветвлениями торгово-промышленных предприятий и с деятельностью банковских учреждений, – вспоминал он впоследствии. – Предстояло руководство большой конторской и бухгалтерской работой, составление сметных исчислений и отчетных данных». А.Н.Наумов в своих действиях руководствовался системой Мороховца: «время – деньги, нет счета, который бы получал, без счета, который бы отдавал» [13, Т.1. С.296.]. Он владел крупными имениями в Форосе и Гурзуфе, которые были ориентированы на винодельческое производство, имением «Софьевка» и родовым имением. Им был разработан план преобразования родового головкинского имения, на коммерческую основу поставлено мельничномукомольное дело и сыроварение. В результате имение, начиная с 1912 г., приносило 80000 руб. прибыли ежегодно. А.Н.Наумов рассказывает о жизни своей семьи в поместье, о добрых взаимоотношениях и взаимном доверии с крестьянами, соседях-помещиках, охоте.
Говоря о своих общественных взглядах, А.Н.Наумов отмечал, что был безразличен «к условностям общественного мнения» и стоял на определенной позиции – за «твердую власть». «Вспоминая прошлое и разбираясь в ходе исторических событий, – писал он, – невольно ловишь себя на мысли, что в верхах центрального управления такой огромной страны, которой являлась Российская империя, не усматривалось определенной, заранее обдуманной преемственной политики ни по внутренним, ни тем более по внешним ее делам» [13, Т.1. С.348.]. Первый том воспоминаний заканчивается описанием избрания А.Н.Наумова на должность Самарского губернского предводителя дворянства.
Если в первом томе перед нами встает картина повседневной жизни русского провинциального дворянства на рубеже XIX – ХХ вв., даны яркие характеристики представителей поместного дворянства, то во втором томе перед нами представлена своеобразная галерея государственных и общественных деятелей начала ХХ века. А.Н.Наумов стремился показать взгляд современников на ту или иную историческую личность. Губернаторы, министры, члены Государственной думы и Государственного совета, император Николай II оцениваются им через призму окружающей его действительности, усвоенной системы ценностей, личных и общественных интересов. Конечно, А.Н.Наумов, как любой мемуарист, не был беспристрастен, однако стремился дать максимально объективную характеристику тому или иному историческому деятелю. Например, характеризуя Самарского вице-губернатора Владимира Григорьевича Кондоиди, А.Н.Наумов отмечал не только его положительные, но и отрицательные качества: «Это был благороднейший человек, добрейшей души, глубоко религиозный и стойкий в своих консервативных убеждениях. Он получил прекрасное образование, много читал, хорошо владел пером и мог быть прекрасным собеседником. Будучи человеком долга, он весь отдавался своей службе…, проявил себя серьезным и полезным работником… убежденный монархист, человек нервный и впечатлительный» [13, Т.2. С.14 – 16].
Ярко и эмоционально описывал А.Н.Наумов тревожные дни революционных потрясений 1905 г. в Самаре и губернии: «Жизнь в городе теряла свой нормальный уклад… На меня объявление манифеста произвело сильнейшее, далеко не утешительное впечатление. Прежде всего, несомненно, выявилось поражение правительства, его бессилие и торжество улицы… Я получал ежедневно подметные письма с предупреждением о готовящемся на меня покушении… Город раскололся на 2 враждебных лагеря – сторонники одного продолжали неистовствовать в духе ложно понятых свобод, сея вокруг себя хулиганщину и анархию, другие в противовес первым, ходили с царским портретом и пели «Боже царя храни», беспощадно избивая своих противников и выкрикивая: «Да здравствует самодержавие»… Полицейская власть бездействовала и куда-то бесследно исчезла» [13, Т.2. С.16 – 29].
А.Н.Наумов повествует о создании партии порядка, о выборах Думы, первых съездах объединенного дворянства, в работе которых он принимал активное участие, о проведении в Самарской губернии аграрной столыпинской реформы. Второй том воспоминаний в основном посвящен жизни А.Н.Наумова в Петербурге, его деятельности в качестве члена Государственного совета и затем министра земледелия . Он подробнейшим образом рассказывает о заседаниях Государственного совета, характеризует его ярчайших представителей [13, Т.2. С.146 – 155, 162 – 176, 204 – 219]. Деятельности на посту министра земледелия посвящено в воспоминаниях около ста страниц. Свою деятельность, как губернского предводителя дворянства, он характеризует с точки зрения выполнения решений губернских дворянских собраний. Более подробно он рассказывает о той стороне своей деятельности, в которой ему удалось добиться принятия конкретных решений, например создание Аксаковского музея, детской больницы в Самаре, участие Самарского дворянства в юбилейных торжествах 300-летия дома Романовых.
Наряду с повествованием о своей служебной и хозяйственной деятельности много страниц в воспоминаниях посвящено семейной жизни, проблемам воспитания и образования детей, повседневной жизни, взаимоотношениям с женой, братьями, родителями и соседями. Использование воспоминаний А.Н.Наумова способствует воссозданию атмосферы событий, выявлению базовых психологических характеристик дворянского сословия, объективных и субъективных факторов, влияющих на принятие государственных решений.
Изучение воспоминаний позволило выявить отношение сословия к злободневным про -блемам общественной жизни, черты психологии мемуаристов. Авторы воспоминаний рассматривали в комплексе обстановку дома, родственные связи, взаимоотношения членов семьи. Значительное внимание при этом уделялось вопросам генеалогии, родственных и матримональных связей внутри своего круга общения. Современники отмечали, что при строительстве усадебного дома выделялись два его основных типа: «богатый и бедный, вельможа и дворянин». Однако к началу ХХ века это деление фактически утратило свое значение.
Пристальное внимание уделялось воспитанию и образованию дворянских детей, достаточно подробно описывался как городской, так и деревенский образ жизни. В воспоминаниях содержатся сведения о повседневном быте дворян- ских семей, занятиях детей и родителей, о взаимоотношениях с крестьянами и соседями-помещиками. Быт дворянства был традиционным. В.А.Соллогуб отмечал, что «постоянная оседлость была потребностью. У каждого семейства был свой приход, свой неизменный круг родных, друзей и знакомых, свои предания… свои нажитые привычки» [14]. «Но что меня удручало в этой мелкопоместной обстановке, это не довольство ею, а удовлетворяемость, отсутствие потребности, полное отсутствие творчества, – писал С.М.Волконский. – Из года в год на том же месте, на том же стуле… Не только нет стремления к улучшению, но есть сокрушение о прошлом: в прошлом видите ли, лучше было. Разве так жили!»[9, С.193.].
Очень часто описания дворянских имений свидетельствуют о хозяйственном процветании и налаженности быта их владельцев. «Мы особенно ценили дом... у нас он настолько лучше для жизни, настолько семейный, просторный и веселый»[15].
Воспоминания дворянства об имениях проникнуты любовью («Милая наша Павловка», – писал кн. С.М.Волконский). «Нас окружала таинственная красота, – вспоминала О.Воронова, – старинные портреты смотрели на нас из потускневших золоченых рам, загадочно и приветливо улыбаясь…» [16]. Дочь белгородского уездного предводителя дворянства Н.Е.Муханова Надежда в своих воспоминаниях пишет: «Наш дом стоял на возвышенности. От него вела тропа вниз к пруду через газон с клумбами… экипажи и автомобили подъезжали к дому, сначала проезжая под кирпичной аркой. Каждый экипаж должен был сделать круг вокруг газона, прежде чем остановиться перед крыльцом. Часть парка была окружена забором…» [17].
Имение было малой родиной, там проходило детство, там были родные могилы . Каждую весну родители старались вывезти детей на летний отдых в имение, туда приезжали летом погостить к родственникам. Кн. Б.А.Васильчиков отмечал, что родное имение было для дворян «единственным местом, где они чувствовали себя дома». «Владельцы поместья созидали, – писал он, – улучшали и любовно украшали, при этом сознавали, что владение является не только правом, но и создает целый ряд обязанностей, вытекающих из этого…» [11, С.23.].
С.Е.Трубецкой в своих воспоминаниях подробно описал быт и внешний распорядок жизни своей семьи, обеды, развлечения, дружеские связи, светскую жизнь . Описывая «широту» русского гостеприимства, он отмечал, что традиционное хлебосольство было пережитком «натурального» крепостного хозяйства. Эта привычка укоренилась в сознании дворянства, стала общественной нормой. С.Е.Трубецкой писал: «У нас «широкими» должны были быть даже далеко не богатые помещичьи семьи, и общественное мнение принуждало к «широте» даже скупых людей… Много дворянских семей разорилось от ставшего им непосильного хлебосольства, от которого они не могли отказаться» [12, С.22].
Вдали от официального общества, поместный дворянин получал возможность проявить свое личностное начало во всех сферах: от рационального ведения хозяйства на основе современной ему науки, воспитания детей, выбора форм культурного досуга и занятий любимым делом. «Как часто меня спрашивали, – вспоминал кн. С.М.Волконский, – «Вы любите сельское хозяйство?» – «Нет». – «Вы любите охоту?» – «Нет». – «Что же вы в деревне делаете?» – «Уверяю вас, что мой день очень наполнен». И далее он продолжал: «Я никогда не любил хозяйства: меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару на дрогах и мы ехали, и, все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и так было далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и любуюсь васильками и даже хлебным врагом – красным куколем… Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку…. Для меня это непрерывное творчество, задумывать, осуществлять, видеть в каждый свой приезд упрочение и рост того, что сделал в прежние годы» [9. С. 28 – 34].
В усадьбе, как в зеркале, отражались и социальное состояние общества, и личные качества каждого конкретного владельца. В ней преломлялись все стороны бытия России, все особенности ментальности отечественной культуры. Помещичий быт отражал не только имущественное положение дворянина, но и направлял его жизнь. «Уездная жизнь сближает, – писал С.М.Волконский, – хотя это есть странного рода сближение: сближение житейское. Редко душевное, почти никогда духовное … Сами знаете, что такое в деревне гости, «их неожиданный приезд… И продолжительный присест». Дни проводишь вместе и обсуждаешь заботы, и радости, и надежды, все разных миров люди… Деревенские разговоры можно разделить на три категории: хозяйство, политика, дела семейные. Хозяйство есть то общее, одинаковое, что больше всего сближает, сглаживает разницы» [9, С. 177].
Нередкой была ситуация, когда дворянин был уже не хозяином усадьбы, «а наследственным и потомственным рабом своей усадьбы» [18]. Иногда хозяин усадьбы тяготился своим положением помещика – собственника, так как он не был хорошим хозяином или у него не складывались отношения с крестьянами. В таком случае он предпочитал не вмешиваться в управление имением. И хозяйство отдавалось либо на откуп управляющему, либо более успешному родственнику.
Далеко не все дворяне смогли приспособиться к новым условиям хозяйствования. Психологический тип таких помещиков хорошо описан как в мемуарной, так и в художественной литературе. В.Б.Лопухин отмечал: «… средние, ничем не примечательные постепенно разоряющиеся помещики эпохи дворянского оскудения. Имя им – легион. Сыновья их, те, что поудачнее, уходят в столицу, похуже – оседают на земле, попадают в дворянские и земские учреждения, потом комплектуют Государственную думу или выборную половину Государственного совета. Много было и помещиков – абсентеистов. Жили в свое удовольствие за счет доходов или закладов своих имений, преимущественно в столичных городах. В губернию наезжали редко. Временно оседали, если, глядишь, кого-нибудь выберут на заманчивую должность губернского предводителя дворянства (ею был обеспечен генеральский чин и другие отличия)». Описывая экономическую некомпетентность помещиков он вспоминал: «Князь Дмитрий Сергеевич Урусов проводил в своем хозяйстве крайне своеобразно им усвоенные принципы рационализации и режи- ма экономии. Срубил фруктовый сад как роскошь и превратил в огород и пашню, срубил березовую аллею и разрушил нерациональные службы и постройки»[23]. В.А.Оболенский отмечал, что обедневшие «помещики жили, постепенно отказываясь от материальных удобств и комфорта, но, стараясь до последней возможности сохранить внешний дворянский престиж…» [19, С.200.].
При оценке службы дворянина и его деятельности, акцентировалось внимание на ее соответствии базовым ценностям сословия. «Одни служили правительству, – отмечал кн. Б.А.Ва-сильчиков, – другие противопоставляемому ему народу, но и те и другие находили полое удовлетворение в сознании, что они служат… служба почиталась долгом дворянина» [11, С.90].
В воспоминаниях указывается, что в конце XIX века дворянство было аполитичным. С.М.Волконский отмечал, что «…в провинции, долго думали чужой головой, примыкали к чужому имени. Настоящих революционных выступлений тогда не было в нашем околотке; дальше едких слов и колких заседаний дело не шло. Вопросы политические хотя и затрагивались, но волновали неглубоко; они не дозревали до горячих споров. Старики провозглашали то, что считали истиной. Молодые отмалчивались, пожимали плечами, переглядывались, но в спор не ввязывались. Так бывало при встречах на нейтральной почве; друг к другу же не ездили. Таким образом, в политических разговорах редко когда не царило единодушие». «О политике говорили, – продолжал он далее, – чтобы заявить себя, зарекомендовать перед начальством, пустить пыль в глаза товарищам-сослуживцам. Редки были люди, которые говорили из действительного убеждения» [9, С.180 – 184].
Часть дворянства полагала, что аполитичность дворянства связана с характером взаимоотношений сословия и власти. «Самодержавие и государственная служба атрофировали в нем (дворянстве – Е.Б.) политические инстинкты, правизна дворянства была чисто пассивной, отнюдь не боевой, – писал кн. Б.А.Васильчиков, – из поколения в поколение родители внушали детям быть верноподданными, исправно служить и политикой не заниматься, так как политика понималась только в смысле оппозиции» [11. С.90]. «Внутри самого сословия, – вспоминал Н.П.Ка-рабчевский, – вначале «политиканы» были наперечет, но…. начиная с русско-японской войны, их число все увеличивалось, а деятельность их приобретала характер настойчивой планомерности» [20].
Дворянство отмечало наличие в начале ХХ века двух политических направлений: правового консервативного и либерального. «Во всех губернских городах общество обыкновенно разделялось на партии», – писал кн. Д.А.Оболенский [21]. Правые лидировали на дворянских собраниях. Они полагали, что необходима поддержка сословия со стороны власти и «создание новых преимуществ». Либералы концентрировали свою деятельность в земских учреждениях, «в те времена (до революции 1905 года – Е.Б.) всякий земец, стоявший за просвещение народа, за развитие земской медицины, агрономии и т.д. почитался за либерала» [19, С.221]. Большинство же помещиков считало, что «быстрое исчезновение с мест дворянского элемента угрожает всему строю поместной жизни», поэтому необходимо поддержка со стороны власти сельского хозяйства, а также более активное участие сословия в общественной и государственной жизни» [19, С.101].
Менее индифферентно относилось поместное дворянство к участию в работе губернских дворянских собраний, хотя и здесь наглядно прослеживается абсентеизм дворянства. Бывали случаи, когда даже уездные предводители дворянства не являлись на них. С.Е.Трубецкой так вспоминал о своем участии в дворянском собрании на рубеже 1911 – 1912 гг.: «Калужское дворянское собрание во время выборов было сравнительно многолюдно; в иных губерниях почти никто не приезжал на выборы... Однако и тут я вынес очень грустное впечатление: было ясно, что учреждение это — отживающее. На выборы, по старой традиции, приезжали многие дворяне, которые иначе не принимали никакого участия в местной жизни. Дворянство с одной стороны — скудело, а с другой — уходило своими интересами от местной жизни, с которой оно было прежде тесно связано. Принимая участие в выборах, я все время чувствовал, что какая-то тень отживания и обреченности витает над собранием...» [12, С.81].
Предводители дворянства играли очень большую роль в местной жизни. Они, с од- ной стороны, являлись, по должности, председателями земских собраний: губернского и уездных, а также входили в состав разных административных и иных «Присутствий». А.Н.Наумов вспоминал, что «намеки о желательности в будущем завербовать меня в уездные предводители» льстили моему самолюбию» [13, Т.1. С.319]. Помимо чисто дворянских дел (родословных, опекунских и прочих) и периодических собраний уездных предводителей вместе с депутатами дворянства, губернский предводитель дворянства принимал по закону участие во всех губернских коллегиальных учреждениях. В.М.Анд-реевский в воспоминаниях применительно к 1907 году так оценивал свою деятельность: «…к тому же должен сказать, что мне порядочно наскучило мое предводительство, осложнившееся в последнее время еще партийной борьбой: наши скромные местные дела стали рассматриваться то с правой, то с левой стороны. Смешно вспомнить теперь, например, заседания какого-нибудь Общества трезвости. Кажется, уж скромное было учреждение и, казалось бы, трудно представить себе, при чем тут могла быть «политика»! А между тем, по вопросу о выборе чтений в чайных о-ва всякий раз подымались бурные прения: ветеринар Жмоховский и нотариус Федюшин непременно хотели читать приехавшим на базар мужикам, зашедшим в чайную попить чайку и погреться, «Буревестника» Максима Горького, а исправник настаивал на «Бежином Луге» Турге-нева…[22].
Использование воспоминаний способствовало воссозданию атмосферы событий, выявлению базовых психологических характеристик дворянского сословия, объективных и субъективных факторов, влияющих на принятие государственных решений. Характеризуя представителей дворянского сословия, авторы воспоминаний обращали внимание, прежде всего, на такие категории как семья (24,6%), государственная и сословная деятельность (32,3%), досуг (23,6%). Зачастую авторы воспоминаний стремились создать у читателя целостный портрет дворянского сословия, иногда этот портрет носил идеальный характер, действительность приукрашивалась.
Список литературы Российское дворянство начала ХХ века в воспоминаниях современников
- Семенников В.П. Монархия перед крушением. 1914 -1917. Бумаги Николая II и другие документы/В.П.Семенников. -М. -Л.: 1927
- Переписка Николая и Александры Романовых. Тт. 3-5. Пг. -М.: 1923-1927
- Падение царского режима. Стенограф. отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Ред. П.Е.Щеголева. В VII т. -Л. -М.: 1925 -1927.
- Революция 1905 -1907 гг. в России. Сборник документов и материалов. Начало первой русской революции. Январь-март 1905 года. -М.: 1955
- Революция 1905 -1907 гг. в России: Сборник документов и материалов. Второй период революции 1906 -1907 годы. Ч.2. Кн.2. -М.: 1962
- Крестьянское движение в России в 1914 -1917 гг.: Сб. документов. -М. -Л.: 1967
- Революционное движение в Орловской губернии в период первой русской революции 1905 -1907 годов: Сборник документов и материалов. -Орел: 1957.
- Витте С.Ю. Воспоминания/С.Ю.Витте
- Волконский С.М. кн. Воспоминания/С.М.Волконский. -М.: 2006. -Т.2
- Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современников/В.И.Гурко
- Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906 -1917: Дневник и воспоминания/Я.В.Глинка. -М.: 2001.
- Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903 -1919 гг./В.Н.Коковцов
- Мосолов А.А. При дворе последнего императора/А.А.Мосолов. -СПб.: 1992
- Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. -М.: 2006
- Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Мемуары. -М., 2001
- Палей О.В. Воспоминания/О.В.Палей. -М.: 2005
- Мария Павловна. Мемуары. -М.: 2004.
- Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний/А.Н.Наумов
- Андреевский В.М. -ГАТамО. -Ф. Р-5328. -Оп.1.-Д.7.
- Урусов С.Д. Записки губернатора/С.Д.Урусов
- ОР РГБ. -Ф.550.-Карт.2. -Д.11
- Муратов Н.П. Воспоминания//РГАЛИ.-Ф.1208. -Оп.1. -Д.26.
- Пуришкевич В.М. Дневник члена государственной думы Владимира Митрофановича Пуришкевича/В.М.Пуришкевич
- Милюков П.Н. Воспоминания/П.Н.Милюков
- Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом/Д.Н.Шипов. -М.: 1918
- Савелов, Л.М. Из воспоминаний. 1892-1903/Л.М.Савелов -Воронеж: 1996
- Друцкой-Соколинский В.А. Да благославенна память. Записки русского дворянина (1880-1914)/А.В.Друцкой-Соколинский. -Орел: 1996
- Волконский С.М. Воспоминания/С.М.Волконский. -Т.2.
- Друцкой-Соколинский В.А. Да благославенна память. Записки русского дворянина (1880-1914)/А.В.Друцкой-Соколинский -Орел: 1996. -С.53 -76.
- Васильчиков Б.А. Воспоминания/Б.А.Васильчиков/-Псков: 2003.
- Трубецкой С.Е. Минувшее/С.Е.Трубецкой.
- Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868 -1917/А.Н.Наумов. -Нью-Йорк: 1954.
- Соллогуб В.А. Воспоминания/В.А.Соллогуб. -М.: Л.: 1931. -С.154.
- ОР РГБ. -Ф.1000.-Оп.2.-Ч.1.-Д.767. -Л.12-53
- Иванова Л.В. Домашняя школа Самариных/Л.В.Иванова//Мир русской усадьбы. -М.: 1995. -С.24.
- Воронова О.К. Потрясение/О.К.Воронова. -Париж. 1988. -С.23.
- Русские провинциальные усадьбы XVIII -начала ХХ века. -Воронеж: 2003. -С.20.
- Цуриков Н. Воспоминания// Новый журнал, 2003. №231 // www. magazines.russ.ru
- Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники/В.А.Оболенский. -Париж: 1988.
- Карабчевский Н.П. Что глаза мои видели: Революция и Россия/Н.П.Карабчевский. -Берлин: 1921. -С.13.
- Записки кн. Дмитрия Александровича Оболенского. 1855-1879. -СПб., 2005. -С.56.
- ГАТамО. -Ф.Р-5328. -Оп.1. -Д.7. -Л.30.
- ОР РНБ.-Ф.1000.-Оп.2.-Ч.1. -Д.767.-Л.28 -29.