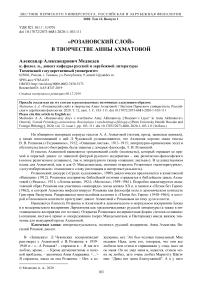"Розановский слой" в творчестве Анны Ахматовой
Автор: Медведев Александр Александрович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
На обширном материале корпуса текстов А. А. Ахматовой (поэзия, проза, записные книжки), а также воспоминаний о ней Л. Чуковской устанавливается, что Ахматова хорошо знала тексты В. В. Розанова («Уединенное», 1912; «Опавшие листья», 1913-1915; литературно-критические эссе) и обстоятельства его биографии, была знакома с дочерью философа, Т. В. Розановой. В текстах Ахматовой выявляется «розановский слой» (подтексты), который отражает ее прямой и скрытый диалог со знаковой фигурой русского модернизма - как религиозно-философского («новое религиозное сознание»), так и литературного (жанр «опавших листьев»). В художественном плане для Ахматовой, как и для О. Мандельштама, значимо открытое Розановым «нелитературное», «догутенберговское» отношение к слову (интонация и интертекстуальность). Розановский дискурс («Среди художников», 1909) диалогически преломляется в ахматовской «Венеции» (1912). Розановое восприятие библейской поэтики отражается в библейском цикле Ахматовой («Рахиль», 1921; «Лотова жена», 1924; «Мелхола», 1959-1961). Подробно анализируется ахматовский образ Розанова как участника «маскарада» эпохи начала ХХ в. в записи к «Поэме без Героя» (1962), в которой Ахматова мифологизирует Розанова как философа пола в демоническом контексте Григория Распутина. Раскрывается многослойная аллюзия в «Поэме без Героя» (1940-1965), в которой в блоковском контексте проступает диалог Ахматовой с Розановым на тему духа и плоти. Выявляется близость Розанова и Ахматовой в демоническом и мортальном восприятии Блока и в модернистском восприятии Лермонтова как «родоначальника» русской литературы (а также в интонационном восприятии его поэзии). Открытая Розановым модернистская форма «потока сознания» («опавшие листья») прямо и опосредованно (через Мандельштама и Пастернака) имела важное значение для мемуарной прозы Ахматовой.
Интертекстуальность, подтекст, русский модернизм, анна ахматова, василий розанов, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/147229671
IDR: 147229671 | УДК: 821.161.1: | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-1-103-111
Текст научной статьи "Розановский слой" в творчестве Анны Ахматовой
В «Записках» Л. Чуковская воспроизводит разговоры с Ахматовой о В. Розанове в 1939– 1940 гг.: «– А Розанов? – спросила я. – Я так его люблю, кроме… – Кроме антисемитизма и половой проблемы, – закончила Анна Андреевна. <…> Я спросила, знала ли она Розанова. – Нет, к со- жалению, нет. Это был человек гениальный. Мне недавно Надя, дочь его, говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня и, кажется, стихов моих не любил, зато очень любил Мариэтту Шаги-нян: “Девы нет меня благоуханней”. А я у него
все люблю, кроме антисемитизма и половой теории» (цит. по: [Чуковская 1997: 29, 69–70]). Вероятно, Ахматова имеет в виду здесь не Н. В. Розанову (Верещагину), а другую дочь Розанова – Т. В. Розанову (1895–1975)1. Розанов действительно не знал поэзии Ахматовой, поскольку русские поэты ХIХ в. были ему роднее современных поэтов-модернистов. С. Н. Дуры-лин вспоминал, как Розанов восхищался полиграфической роскошью модернистских изданий, но любил и жил русской классикой, глубоко проживая ее: «– Как это... хорошо издано! – и аккуратно ставил на полку. Не читал. Любил держать в руках, “потому что хорошо издано”. Пушкина же, Лермонтова, К. Леонтьева, Достоевского непрерывно читал , и волны от них передвигались сплошным непрекращающимся прибоем в его душу» [Дурылин 1991: 251].
Упоминание Ахматовой строки М. Шагинян («Девы нет меня благоуханней») свидетельствует о том, что Ахматова внимательно следила за розановскими рецензиями в «Новом Времени» (Розанов В. В. «Orientalia» М. Шагинян // Новое Время. 1913. 24 марта). Именно стихотворением «Полнолуние» (1911), финальную строку которого цитирует Ахматова, Розанов завершает свой отзыв на книгу Шагинян «Orientalia» (М.: Альциона, 1913)2. В этом стихотворении Розанова как философа пола не могли не привлечь ориен-талистски-эротические мотивы:
«Кто б ты ни был – будешь господином. Жарок рот мой, грудь белее пены, Пахнут руки чебрецом и тмином.
Днем чебрец на солнце я сушила, Тмин сбирала, в час поднявшись ранний... В эту ночь – от Каспия до Нила – Девы нет меня благоуханней!..
Что это за канальственный “чебрец” растет на Кавказе, от которого не только девы, но и стихи их становятся так душисты, что не в марте бы месяце их читать...» [Розанов 2007: 51]3.
Чуковская также вспоминает эпизод из «Опавших листьев» (Короб первый), который ее возмущал, – о том, что мать двух дочерей посоветовала кадету, влюбленному в старшую дочь («пышная, большерослая», «спокойного характера»), жениться на младшей дочери («худенькая и небольшая, так и пылала»), что кадет и сделал, а через два года у них уже было двое детей [Чуковская 1997: 70]. Таким образом Розанов в русле своей философии пола обосновывал необходимость раннего брака, когда у юноши и девушки еще «неиспорченное воображение» (XXX, 183). Ахматова, соглашаясь с возмущением Чуковской («Я опять подивилась совпадению наших нелюбвей»), отмечает мифологичность этой розановской истории: «Анна Андреевна махнула ру- кой. – Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал, от слова и до слова…» [там же].
История с сестрами иллюстрировала мысль Розанова о том, что половая энергия может развиваться в двух направлениях: «пыл пола или развертывается в рост и, потратя силы свои “на произведение своего же тела”, успокаивается; или же он в рост не развертывается, и тогда весь сосредоточивается в стрелу пола, – и эта стрела сильно заострена и рвется с тетивы» (XXX, 182). Этой розановской мыслью Ахматова подкрепляла свои жизненные наблюдения, но в не отношении женщин, а мужчин: «Бросить можно только жену, и “хи-мэны”4 именно на этом проявляли свою мужскую самостоятельность, пока не попадали под каблук к какой-нибудь энергичной дамочке, и это довершало превращение мужчины в “слабый пол”... “У них все ушло в рост”, – говорила о таких Ахматова, цитируя Розанова» [Мандельштам 2014: 905].
В этой же записи Чуковской Ахматова вспоминает последние годы жизни Розанова в Сергиевом Посаде: «Гениальный был человек и слабый. Мне жаль было его, когда он потом голодал в Сергиеве. Мне рассказывали: ходил по платформе и собирал окурки. Я ничем не могла ему помочь, потому что сама голодала клинически» (цит. по: [Чуковская 1997: 70]). Подробности тяжелого материального положения последнего года жизни Розанова, приведшего его к смерти, Ахматова могла знать от Т. В. Розановой, а также от ближайшего круга Розанова. В письме М. О. Гершензону в ноябре 1918 г. Розанов признавался: «Голодно. Холодно. Кто-то добрый человек, разговорясь со мною в бане, сказал: “В. В., по портрету Бакста5 – у Вас остались только глаза”. <…> Собираю перед трактирами окурки: ок. 100 – 1 папироса. Затянусь. И точно утешен» [Переписка 1991: 241]. З. Н. Гиппиус писала в воспоминаниях, опубликованных в парижском альманахе «Окно» за 1924 г. (в те годы альманах еще был доступен в советской России): «Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки. <…> Ничто, прежде ужасное, не удивляло: теперь казалось естественным. У всех, кажется, все умерли; все, кажется, подбирают окурки...» [Гиппиус 1995: 37–38]. Гиппиус писала и о христианском перевороте Розанова перед смертью (о чем Ахматова могла знать и от дочери Розанова (см. ее «Воспоминания»: [Розанова 1999: 91–102]), хотя эта тема в ахматовских текстах никак не отразилась.
Важнейшим контекстом для ахматовского восприятия Розанова-писателя является прочтение Розанова О. Мандельштамом, который очень ценил его прежде всего за «нелитературное», «домашнее» отношение к литературе, проявляющееся в ключевой роли для текста интонации6 и цитатности: «Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. <…> Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в строчке Некрасова. “Еду ли ночью по улице темной” – первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание – вряд ли сыщется другой такой русский стих во всей русской поэзии» [Мандельштам 1999: 223–224]. Мандельштам отсылает здесь к «опавшему листу» из «Уединенного» (1912), в котором Розанов как раз акцентировал значение интонации в некрасовских стихах: «Его “Власу” никакой безумец не откажет в поэзии. Его “Огородник”, “Ямщик”, “Забытая деревня” прелестны, удивительны, и были новы по тону в русской литературе. Вообще Некрасов создал новый тон стиха, новый тон чувства, новый тон и звук говора» (XXX, 14). В розановском духе Мандельштам дает определение цитатности в «Разговоре о Данте» (1933): «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна» [Мандельштам 1994: 220].
Отзвук розановской «нелитературности» звучит и в реплике Мандельштама 1930-х гг., обращенной к молодым поэтам, жаловавшимся ему, что их не печатают: «И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга?» [Липкин 2008: 16]. Немецкого изобретателя печатного станка Розанов назвал в «Уединенном» «Мефистофелем» за то, что своим изобретением он определил публичный, массовый, обезличенный характер литературы Нового Времени: «Как будто этот проклятый Гуттенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обез-душелись “в печати”, потеряли лицо, характер» (XXX, 9). В «Уединенном» (на титуле было указано, что оно издано « почти на праве рукописи ») Розанов возвращался к догутенберговской – интимной, «рукописной» интонации, преодолевающей «печатность»: «Новое – тон , опять – манускриптов, “до Гутенберга”, для себя» (XXX, 132).
Это идущее от Розанова (в том числе и через Мандельштама) интонационное и интертекстуальное понимание литературы было близко Ахматовой, в поэтике которой интонация и цитат-ность – ключевые принципы. Вспомним ее ставшие крылатыми строки 1956 г.:
Не повторяй – (душа твоя богата) – Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, поэзия сама – Одна великолепная цитата.
[Ахматова 1999: 182]7
А в записной книжке 1960 г. и в заметке «Все было подвластно ему» (1964) Ахматова отмечает ключевую роль интонации у Лермонтова: «…хочется ему подражать, но совершенно очевидно, что это невозможно, потому что он владеет тем, что актеры называют сотая интонация»; «Трудно писать о нем и не впасть в его тон, трудно думать о нем и не слышать его интонацию» (6, 280, 295). Эта лермонтовская «сотая интонация» становится кульминацией в стихотворении «Rosa moretur» (1963): «А ты поймал одну из сотых интонаций, / И все недолжное случилось в тот же миг» (2/2, 177).
В записи от 21 апреля 1963 г. под заглавием « М. б., примечанuе» Ахматова отмечает принципиальное значение голоса и интонации для понимания Пушкина: «Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах. <…> во всей многопланности пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации» (6, 173). Именно Розанов первым заговорил о первостепенном значении голоса и интонации в понимании Пушкина: «<…> не всякий “читающий Пушкина” имеет что-нибудь общее с Пушкиным, а лишь кто вслушивается в голос говорящего Пушкина, угадывая интонацию, какая была у живого» (XXX, 97).
«Рукописным» тоном Розанов снимал «публичный» характер литературы Нового Времени с ее культом славы («самодовольство», тщеславие) и возвращался к смиренной средневековой рукописности, сохранявшей индивидуальность и духовное целомудрие писателя: «Ведь в Средних веках не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневековая литература, во многих отношениях, была прекрасна, сильна, трогательна и глубоко плодоносна в своей невидности. Новая литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гутенберга» (XXX, 132). Эта розановская установка соотносится с наблюдением Н. Мандельштам (ссылающейся на мысль Розанова о «писательском целомудрии»8) о том, что Ахматова и Мандельштам не «смотрелись в зеркала»: «Она именно жила в зеркалах, а не смотрелась в них, поэтому это не имеет никакого отношения к замечанию Розанова о том, что писатели делятся на два типа – одни смотрятся в зеркало, а другие нет. Розанов здесь имеет в виду оглядку на читателя, заигрывание с ним, актерский элемент в писателях, которого в подлинных поэтах почти никогда не бывает. Предельно этот элемент отсутствовал у О. М.» [Мандельштам 2014: 630].
Аллюзии на розановские тексты присутствуют и в лирике Ахматовой, так, они проступают в стихотворении «Венеция» (август 1912 г.):
Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке, С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем, выцветшем холсте, Стынет небо тускло-голубое… Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное (1, 100).
В мотивах золота, птиц («золотая голубятня»), льва («с книгой лев»), в сочетании золотого и черного («черных лодок») отраженно преломляется «райское» описание Венеции в розановском очерке «Золотистая Венеция» (1902) из популярной у современников книги «Итальянские впечатления» (СПб., 1909)9: «Вся Венеция усеяна изображениями льва <…>. Лев венецианский, поставленный на мачтах, на столбах, колоннах, на каждой безделушке вплоть до спичечной коробки, имеет два полуприподнятые крыла и чуть-чуть опустился на передних лапах, как готовый сейчас прыгнуть. Это лев в оживлении, а не сидящий, не лежащий. <…> “Золотистая Венеция, золотистая Венеция”, – думал я, ожидая на крошечной пристаньке возле дворца дожей пароходик, чтобы ехать на вокзал. <…> “Прощайте, золотистые дворцы, прощайте, золотистые дворцы”. По сторонам смотрели они, эти дворцы, в самом деле в черных позолотах. До чего это красиво, – золото по мрамору, по металлу, по стеклу, в наружных украшениях дома. Вся Венеция точно осыпана золотистой пылью, как некоторые красивейшие южные птицы – колибри или африканская “райская птица”» (I, 118, 121–122).
Розанов был одним из первых, кто в начале ХХ в. открыл красоту библейской поэзии. В статье «О “Песне песней”» (1909), вошедшей в его книгу «Библейская поэзия» (СПб., 1912), он видел секрет поэтичности «Песни песней», в частности, в отсутствии в ней ярких цветовых эпитетов: «Узора нет, краски неразличимы... в каком-то сумраке мысль. Такие слова, как “красный”, “голубой”, “желтый”, даже сам “белый” или “черный”, – не только не встречаются в поэме, но вы сейчас же почувствуете, что они составили бы в ней какофонию. <…> В одном месте поэмы говорится: “Не будите любовь”, не мешайте ей, не спугивайте ее. Как только Суламифь сказала бы: “Я уже сняла свой красный хитон”, так сейчас она и рассеяла бы грезы Соломона и все про- будилось бы к действительности. Вся поэма движется так, что ни Соломон, ни Суламифь не помнят о цвете своих одежд... Замечательно, что чуть ли не единственный цветовой термин: “я смугла”, – в ней, во-первых, не тверд, не определен, и, во-вторых, что это сказано как признание в горячности: “Я смугла, обожжена солнцем”» (XIV, 451–452). Подмеченная Розановым особенность библейской поэтики проявляется в библейском цикле Ахматовой («Рахиль», 1921; «Лотова жена», 1924; «Мелхола», 1959–1961), где цветовые эпитеты встречаются лишь четырежды («черная голубка», «черная гора», «красные башни», «зеленые глаза»). О героях ахматовского цикла можно сказать словами Розанова – чтобы не вспугнуть любовь, они «не помнят о цвете своих одежд».
Эпическим 4-стопным амфибрахием библейских стихов Ахматова передает «таинственный тон Библии», о котором Розанов писал в статье «О поэзии в Библии» (1909–1911) из той же книги, определяя его как естественный, «“высокий и благородный”, но не придуманный, нежный без приторности, кроткий без унизительности, в высшей степени простой, в высшей степени ясный, в высшей степени наглядный» (XIV, 448– 449). В сравнении с другими книгами тон Библии – это «чистая вода горного ключа после спитого чая, водки и бутербродов; это – как поле и полевые цветы, хижина араба и его песня о звездах после душного ресторана с “малыми”; всегда это для души – освежение и воскресение» (XIV, 450). Подобный ряд простых, естественных и первозданных природных образов присутствует и в библейских стихах Ахматовой («долина», «стада», «горячая пыль», «камень», «чистый источник», «пустыня», «высокая ночь», «прохладные росы», «солнца лучи», «звезды в ночи»):
И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины, Веселые взоры Рахилиных глаз И голос ее голубиный (1, 376).
Прямое упоминание Розанова – среди участников «маскарада» эпохи начала ХХ в. в записи к «Поэме без Героя» (6–7 января 1962 г.): «…и я не поручусь, что там, в углу, не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина» (3, 267). Фигура Розанова возникает здесь в демоническом ореоле Врубеля («от него все демоны ХХ-го века, первый он сам»), Мейерхольда («демонический Доктор Дапертутто»), Вяч. Иванова («Фауст») и сближается по демонизму с Григорием Распутиным. С последним Розанов познакомился в 1904–1905 гг., неоднократно писал о нем. Розанов воспринимал Распутина в идеализированном народническом ключе («Илья
Муромец»): «Разгадка всего. Гриша – гениальный мужик» (II, 60). Как философа пола его особенно интересовала в Распутине его сексуальная сущность. В письме к Э. Голлербаху от 6 октября 1918 г. Розанов упоминает, что Распутин его боялся, так как он постиг его тайну через древнеегипетский культ «Священного Аписа» (XVII, 373–374). В своих мемуарах о Распутине10 Н. Тэффи вспоминала, как Розанов, находясь в одной компании с Распутиным11, просил ее разговорить его – непременно затронуть «эротические темы» и «хлыстовские радения» [Тэффи 1991: 426, 431]. Как и Ахматова («клубится борода Распутина»), Тэффи описывает Распутина через стихийные образы: «Самого его несла куда-то та самая сила, которою он хотел управлять. <…> он словно уже сорвался и несся в вихре, в смерче, сам себя потеряв. <…> путал, сам себя не понимал, мучился, корчился, бросался в пляс с отчаянием и с воплем, как в горящий дом за забытым сокровищем. Я потом видела этот пляс его сатанинский...» [Тэффи 1991: 426, 432].
Именно в этом распутинском контексте Ахматова мифологизирует Розанова как философа пола, закрепляя эту семантику за топосом угла (в 1903–1904 гг. Розанов вел в журнале «Новый путь» рубрику «В своем углу») и за ключевой деталью портрета философа – поблескивающими очками, отсылающими к уже упомянутому знаменитому портрету работы Бакста, о котором Перцов писал в книге 1933 г., что он верно передает внешность Розанова: «схвачен и тот зоркий, проницающий взгляд, которым Розанов выучился смотреть, как мне кажется, тоже лишь позднее – именно к эпохе написания этого портрета: к “египетской” своей эпохе» [Перцов 2002: 262]. Из литературных источников «поблескивающих очков» можно назвать мемуары Гиппиус, в которых она вспоминает забежавшего в их квартиру торопливого Розанова, критикующего христианство: «Так, в крылатке, и бегал нервно по комнате, блестя очками. Разговор был, конечно, о религии, и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д.» [Гиппиус 1995: 32]. Поблескивающие очки – ключевая деталь образа Розанова и в воспоминаниях А. Белого: «В. В. Розанов, нагло помалкивая и блистая очками, коленкой плясал» [Белый 1990: 494].
Диалог с Розановым проступает и в многослойной аллюзии из самой «Поэмы без Героя» (1940–1965) – «плоть, почти что ставшая духом» (3, 182). Как уже указывали исследовате-ли12, в ней свернута отсылка к ключевой проблеме «нового религиозного сознания», хотя, на наш взгляд, Ахматова здесь не спорит с Розановым и не выбирает сторону Бердяева, а оказывается ближе к Розанову и Мережковскому, считавших, что в аскетическом христианстве дух, монофи-зитски оторванный от плоти, становится демо-ничным: «Дух и Слово может быть Плотью и Кровью. <…> Господь претворил воду в вино и вино в кровь. Не обратно ли претворяется в последующие века аскетического христианства кровь в вино и вино в воду, святое Тело – в бестелесную святость, духовная Плоть – в бесплотную духовность, Воскресение Плоти – в умерщвление плоти? Не совершается ли здесь второе предательство, равное первому?» [Мережковский 2000: 140–141].
Мысль о плоти, ставшей духом, является частью ахматовского портрета А. Блока:
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом, <…>
С мертвым сердцем и мертвым взором (3, 182).
И в этом демоническом и мортальном восприятии Блока Ахматова также оказывается близка Розанову, который писал о поэте в своих статьях 1909 г.: «Боже мой, кого не презирает Блок? И почему он не играет Демона в опере Рубинштейна?.. Было бы так натурально, ибо это был бы Демон не подмалеванный, а настоящий. Но разберемся в мыслях печального Демона» (Розанов В. В. Попы, жандармы и Блок // Новое Время. 1909. 16 февр.) (4, 330); «С лицом мертвеца, – соглашаюсь, красивого мертвеца, – и загробным голосом поэт Блок читает о землетрясении в Мессине и связи этого землетрясения... с русскою интеллигенцией» (Розанов В. В. Литературные симулянты // Новое Время. 1909. 11 янв.) (4, 324).
Еще один план, сближающий Ахматову и Розанова, – литературно-критическая оценка Лермонтова. В статье «Вечно печальная дуэль» (Новое Время. 1898. 24 марта), написанной в период сближения с Мережковскими, Розанов предлагал отказаться от «версии происхождения нашей литературы “от Пушкина”», доказывая, что ее родоначальником был Лермонтов: «В Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее – духовной жизни, а не был сломлен, хотя бы и огромный, но только побочный сук. <…> в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь не разгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево пошло в суки» (VII, 289). Розанов отходит от национального литературного канона с почвенническим культом Пушкина (созданным Ап. Григорьевым, Ф. М. Достоевским, Н. Н. Страховым) и, по сути, создает модернистский канон во главе с мистическим Лермонтовым. «“Мистагогов” русской литературы» (в лице Гоголя, Достоевского, Толстого) Розанов возводит не к Пушкину, а к Лермонтову: «“Есть миры иные”, – тревожно сказал Достоевский устами старца Зосимы в “Братьях Карамазовых”; “есть мир иной” – разве не говорит это нам, не предостерегает нас об этом в “Смерти Ивана Ильича” Толстой?» (VII, 291). Кроме религиозности Достоевский и Толстой продолжают героев Лермонтова (а не «простых» героев Пушкина) и в их глубинном психологизме: «Раскольников и Свидригайлов в их двойственности и вместе странной “близости”, кн. Андрей Болконский, Анна Каренина – все эти люди богатой рефлексии и сильных страстей все-таки кое-что имеют себе родственного в Печорине ли, в Арбенине, но более всего – лично в самом Лермонтове» (VII, 294). Неизвестно, была ли Ахматова знакома со статьей Розанова, но концепция происхождения русской литературы «от Лермонтова» ей была явно близка, о чем свидетельствует ее фраза «Не от Пушкина или Гоголя, а именно от него Толстой и Достоевский…» [Найман 1999: 410].
В последнем эссе, посвященном Лермонтову (Розанов В. В. О Лермонтове // Новое Время. 1916. 18 июля), в котором «вещий томик» его лирики Розанов называет «золотым нашим Еванге-льицем», он соотносит поэта с Христом через его евангельский тон: «Ах, и “державный же это был поэт”! Какой тон ... Как у Лермонтова – такого тона еще не было ни у кого в русской литературе . / Вышел – и владеет. / Сказал – и повинуются. / Пушкин “навевал”... Но Лермонтов не “навевал”, а приказывал» (IV, 641–642). В этой характеристике – прямая отсылка к интонации Христа: «И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк. 1, 22; Мф. 7, 28–29). Этот «властный» тон Лермонтова уловила и Ахматова в заметке «Все было подвластно ему» (1964): «…он владеет тем, что актеры называют сотая интонация. Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы, а его строки не имеют себе равных ни в одной из поэзий мира» (6, 280).
И последний «розановский» аспект, который следует очертить, но который требует дальнейшего анализа, – открытая Розановым модернистская форма «потока сознания» («опавшие листья»), которая имела огромное значение для прозы поэтов-модернистов. Вяч. Вс. Иванов отмечал, что вдохновлявший Мандельштама Розанов был едва ли не значимее всех как для вне-сюжетной «неразрешенной» прозы самого поэта
(«Египетская марка», «Четвертая проза»), так и для будущего русской прозы (до Венечки Ерофеева и Синявского)» [Иванов 2000: 760–761]. Ориентируясь на эту восходящую к Розанову «четвертую прозу» с ее феноменологическим «потоком сознания» («Шум времени» Мандельштама и «Охранная грамота» Пастернака), Ахматова в последние годы своей жизни писала книгу «о времени и о себе» (ее название менялось – «Книга жизни», «Листки из Дневника», «Листки из Блокнота», «Мои полвека», «Труды и дни»…), которая не была закончена: «Успеть записать одну сотую того, что думается, было бы счастьем. Однако книжка – двоюродная сестра “Охранной грамоты” и “Шума времени” – должна возникнуть. Боюсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой и т. д. Оба они (и Борис, и Осип) писали свои книги, едва достигнув зрелости, когда все, о чем они вспоминают, было еще не так сказочно далеко. Но видеть без головокружения девяностые годы XIX века с высоты середины XX века почти невозможно» (5, 171).
Таким образом, Ахматова была хорошо знакома с произведениями Розанова и обстоятельствами его биографии. В текстах Ахматовой, подобно «симпатическим чернилам», проступает «розановский слой», отражающий ее прямой или скрытый диалог со знаковой фигурой русского модернизма – как религиозно-философского («новое религиозное сознание»), так и литературного («опавшие листья»). Розанов мифологизируется Ахматовой как философ пола в демоническо-стихийном контексте Григория Распутина. В художественном плане для Ахматовой, как и для Мандельштама, значимо розановское «нелитературное», «догутенберговское» отношение к слову (интонация и интертекстуальность). Розановский дискурс диалогически преломляется в ахматовской «Венеции», в библейском цикле, в «Поэме без Героя», в понимании Лермонтова, Пушкина и Блока, а также является важным для модернистской поэтики мемуарной прозы Ахматовой.
SPIN-code: 9765-6451
ResearcherID: AAF-8347-2019
Rozanov’s discourse ( Among Artists , 1909) is dialogically refracted in Akhmatova’s poem Venice (1912). Rozanov’s perception of biblical poetics is reflected in the biblical cycle of Akhmatova ( Rachel , 1921; Lot’s Wife , 1924; Michal , 1959–1961). The paper provides a detailed analysis of the image of Rozanov as a participant in the ‘masquerade’ of the early 20th century epoch as presented by Akhmatova in the diary entry concerning Poem without a Hero (1962), in which the poet mythologizes Rozanov as a gender philosopher (metaphysics of gender) in the demonic context of Grigori Rasputin. The paper analyzes the multilayer allusion in Poem without a Hero (1940–1965), where one can discern Akhmatova’s dialogue with Rozanov about ‘spirit’ and ‘flesh’ in the context of Blok.
Список литературы "Розановский слой" в творчестве Анны Ахматовой
- Ахматова А. А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Эллис Лак, 1999. Т. 2, кн. 1. 640 с.
- Белый А. Начало века. Воспоминания: в 3 кн. М.: Худож. лит., 1990. Кн. 2. 687 с.
- Гиппиус З. Н. Задумчивый странник. О Розанове (Из книги «Живые лица») // В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество В. Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: в 2 кн. СПб.: Изд-во РХГИ, 1995. Кн. 1. C. 1-43.
- Дурылин С. Н. В своем углу: Из старых тетрадей. М.: Моск. рабочий, 1991. 354 с.
- Иванов Вяч. Вс. Взгляд на русский роман в 1992 г. // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Статьи о русской литературе. М.: Языки рус. культуры, 2000. Т. 2. С.745-761.
- Коваленко С. Свершившееся и недовоплощен-ное. Поэмы и театр Анны Ахматовой // Ахматова А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Эллис Лак, 1998. Т. 3. С. 377-462.
- Липкин С. «Угль, пылающий огнем...»: Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. Материалы о С. Липкине. М.: РГГУ, 2008. 474 с.
- Мандельштам Н. Люсаныч // Мандельштам Н. Собр. соч.: в 2 т. Екатеринбург: ГОНЗО, 2014. Т. 2. С. 903-909.
- Мандельштам Н. Об Ахматовой // Мандельштам Н. Собр. соч.: в 2 т. Екатеринбург: ГОНЗО, 2014. Т. 1. С. 583-782.
- Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, 1999. Т. 1. 366 с.
- Мандельштам О. Э. Собр. соч.: в 4 т. М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, 1994. Т. 3. 527 с.
- Мартьянова С. А. «Поэма без героя» А. А. Ахматовой в контексте русской философской культуры XX в. // Постсимволизм как явление культуры: сборник. Вып. 3. М.: Б. и., 2001. URL: http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/martyanova -poema-bez-geroya-ahmatovoj.htm (дата обращения: 27.11.2019).
- Медведев А. А. Интонация // Розановская Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. С. 1368-1372.
- Медведев А. А. Эссеистичность // Роза-новская Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2008. С.1513-1516.
- Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000. 589 с.
- Найман А. Рассказы об А. Ахматовой. М.: Ва-гриус, 1999. 429 с.
- На последнем изломе: В. В. Розанов в записках дочери // Литературная газета. 1999. 10 февр. С. 12.
- Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909-1918 // Новый мир. 1991. № 3. С. 215-242.
- Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М.: Новое лит. обозрение, 2002. 496 с.
- Розанов В. В. Собр. соч.: [в 30 т.]. [Т. XXIII]: На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913-1915 гг.). М.: Республика; СПб.: Росток, 2007. 638 с.
- Розанова Т. В. «Будьте светлы духом»: Воспоминания о В. В. Розанове. М.: Blue Apple, 1999. 183 с.
- Тэффи Н. А. Колдун: Из воспоминаний о Распутине // Сегодня (Рига). 1924. 10 авг. № 179; 1314 авг. № 181-182.
- Тэффи Н. А. Распутин // Тэффи Н. А. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С.417-447.
- Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. 1938-1941. М.: Согласие, 1997. Т. 1. 587 с.
- Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. 1963-1966. М.: Согласие, 1997a. Т. 3. 563 с.