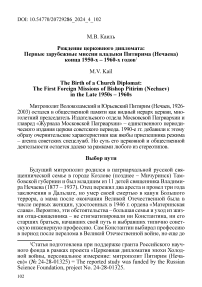Рождение церковного дипломата: первые зарубежные миссии владыки Питирима (Нечаева) конца 1950-х - 1960-х годов
Автор: Каиль М.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 4 (82), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе уникальных источников персонального архива митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева, 1926 -2003) рассматривается история формирования его в качестве церковного дипломата. Реконструируются обстоятельства и факты частной биографии, повлиявшие на формирование личности будущего иерарха Русской Православной Церкви, происходившее в одну из переломных эпох в новейшей истории православия. «Сталинский поворот» в вероисповедной политике 1943 г. напрямую отразился на жизни К.В. Нечаева, определив возможности получения конфессионального образования и прихода к священническому и иерархическому служению. Близость к патриарху Алексию (Симанскому), круг общения и профессионализация в Московской Духовной Академии предопределили призвание Константина к ключевому публичному служению церкви той поры - дипломатическому. При этом для владыки Питирима это служение было не прямой служебной миссией, а составляющей его основной деятельности в качестве многолетнего редактора ключевого церковного издания - «Журнала Московской Патриархии» и председателя Издательского отдела Московской Патриархии. Становление владыки и первые его зарубежные миссии, осуществленные в конце 1950-х - первой половине 1960-х гг. рассмотрены как логичное продолжение удачно сложившейся работы по приему иностранных делегаций в Советском Союзе. Воссоздание начального этапа церковно-дипломатического служения владыки Питирима (Нечаева) в контексте внутрицерковных процессов и событий «большой истории» позволяет расширить представления об эпохе, специфике иерархического служения.
Холодная война, международные отношения, русская православная церковь, московский патриархат, церковное служение, церковная дипломатия, межконфессиональные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149146723
IDR: 149146723 | DOI: 10.54770/20729286_2024_4_102
Текст научной статьи Рождение церковного дипломата: первые зарубежные миссии владыки Питирима (Нечаева) конца 1950-х - 1960-х годов
The Birth of a Church Diplomat:
The First Foreign Missions of Bishop Pitirim (Nechaev) in the Late 1950s – 1960s
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев, 19262003) остался в общественной памяти как видный иерарх церкви, многолетний председатель Издательского отдела Московской Патриархии и главред «Журнала Московской Патриархии» – единственного периодического издания церкви советского периода. 1990-е гг. добавили к этому образу очернительские характеристики как якобы приспешника режима – агента советских спецслужб. Но суть его церковной и общественной деятельности остается далеко за рамками любого из стереотипов.
Выбор пути
Будущий митрополит родился в патриархальной русской священнической семье в городе Козлове (позднее – Мичуринск) Тамбовской губернии и был младшим из 11 детей священника Владимира Нечаева (1877 – 1937). Отец пережил два ареста и провел три года заключения в Дальлаге, но умер своей смертью в канун Большого террора, а мама после окончания Великой Отечественной была в числе первых женщин, удостоенных в 1946 г. ордена «Материнская слава». Вероятно, эти обстоятельства – большая семья и уход из жизни отца-священника – не стигматизировали ни Константина, ни его старших братьев, начавших свой путь и выбравших типично советскую инженерную профессию. Сам Константин выбирал профессию в период после перелома в Великой Отечественной войне, но еще до
«сталинского поворота» в вероисповедной политике сентября 1943 г. Летом он поступил в Московский институт инженеров транспорта. К тому времени он, будучи духовным чадом известного московского священника – протоиерея Александра Воскресенского (1875 – 1950), служившего в храме Иоанна Воина на Якиманке, – жил церковной жизнью и нес алтарное послушание в своем приходском храме.
Личная религиозность и традиция семьи на фоне судьбоносных изменений в церковно-государственных отношениях отразились и на дальнейшем пути юного Константина Владимировича. В пору Поместного собора января 1945 г. он уже был иподиаконом (сохранилась карточка-пропуск) в «патриаршем» храме, ведь с осени 1944 г., не бросая светское образование, он был зачислен в число первых слушателей Богословско-пастырских курсов1, открывшихся в Новодевичьем монастыре. Курсы в 1946 г. были преобразованы в Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию (МДА), а Константин, оставив светский вуз после второго курса, стал одним из первых выпускников возрожденной семинарии. И в 1949 г. (по окончании курса выпускнику было доверено произнести Слово)2 поступил в МДА3.
Студенчество стало яркой порой в жизни будущего митрополита. Это было время становления и развития, обретения навыков коммуникации, во многом благодаря служению патриаршим иподиаконом. От этой поры в документальном наследии владыки сохранилось много источников, от дневников до студенческих альбомов, стихов и личных дневниковых записей о первых поездках молодого иподиакона Константина с патриархом Алексием и об отдыхе на патриаршей даче в Одессе, куда святейший отправлял в начале 1950-х гг. молодых студентов-однокурсников К. Нечаева и А. Остапова4.
Студенчество будущего митрополита оказалось двухчастным. И первое, светское, оставило не менее значимый след, чем судьбоносное – духовное. Связь с МИИТом осталась едва ли не более прочной, чем с академией: все последние годы жизни владыка окормлял вуз, открыл там домовый храм и возглавлял первую кафедру теологии в техническом вузе – этому сюжету посвящена значительная часть документов персонального архива иерарха5.
Преподавание – еще одна страница в биографии и становлении церковного иерарха и дипломата. По окончании Духовной академии он был оставлен одним из первых профессорских стипендиатов, что дало возможность не только подготовить научно-аттестационную работу, но и начать преподавать на кафедре «историю и разбор западных исповеданий». Став диаконом, священником (1956 г.) и приняв монашество (1959 г.), он понес служение инспектора (второго человека) в Академии.
Еще в конце 1940-х гг., а особенно став профессорским стипен- диатом в 1951 г. К.В. Нечаев ежегодно запрашивал в ректорате МДА отношения для работы в Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина: ведь необходимая ему богословская литература находилась в спецхране. На протяжении 1950-х гг. занятия в библиотеке были постоянными, в них формировался багаж знаний и нарабатывалась определенного рода экспертность, оказавшаяся востребованной незамедлительно, в пору его начального преподавательского опыта.
Так, в 1955 г. священник Константин Нечаев по запросу Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) выступил в качестве лектора для группы монахинь и послушниц, готовившихся к отправке в Иерусалим для оживления Русской Духовной миссии. Фактически тогда им был прочитан лекционный курс о религиозном многообразии Ближнего Востока:
«По поручению Отдела Внешних Церковных Сношений Московской Патриархии я провел с группой монахинь 3 занятия по два часа для ознакомления их с наиболее распространенными христианскими и нехристианскими вероисповеданиями. Занятия проводились на Троицком Подворье. Форма занятий – рассказ-беседа, во время которых проверялось также и усвоение материала слушательницами. Таким путем были даны основные сведения о существовании различных религий и их соотношений, общие понятия о церкви, краткое определение сущности Православия, внутреннее единство Поместных церквей при наличии некоторого внешнего различия. Общее понятие об инославии (4.VI); происхождение римского католицизма, особенности его вероучения, нравоучения и церковного строя (7.VI). Сущность протестантизма, краткие сведения о ста-рокатолицизме, Англиканской церкви, сектах баптистов, адвентистов и молокан. Из других религий были даны краткие характеристики Ислама и иудейского вероисповедания (8.VI). <…>
Исходя из неподготовленности слушательниц, обилия материала и крайней ограниченности времени я оставил своей задачей дать общее представление о религиозной обстановке, с которой могут встретиться монахини и внушить им сознание ответственности их положения, как представительниц Русской Православной Церкви и монашества»6.
Международная работа: начало
По воспоминаниям митрополита, первый его зарубежный выезд состоялся в 1956 г. А международная работа началась раньше: «Я вступил в международную работу, можно сказать, с самого начала, “в домашних условиях” – с 1945 года, поскольку был около
Патриарха. Став в 1952 году преподавателем, я одновременно сделался и членом международных комиссий»7. Очевидно, речь шла о деятельной помощи в международной работе. С 1942 г. церковную Москву начали посещать иностранные церковные делегации. После 1946 г. Лавра и Московская духовная академия стали центрами приема делегаций, значимых в повестке начавшейся Холодной войны миротворческих форумов, крупнейший из которых прошел в МДА в 1952 г. В этой практической работе по приему и размещению гостей, обеспечению культурной программы Константин Нечаев участвовал с начала 1950-х гг. Происходило это в общении с кураторами мероприятий от ОВЦС в пору руководства отделом митрополитом Николаем (Ярушевичем).
В архиве владыки сохранились свидетельства и о других поручениях дипломатического плана. В их числе – выписка из речи патриарха Александрийского Христофора II, сделанная отцом Константином Нечаевым в ноябре 1957 г., вероятно, в ходе подготовки второго визита иерарха в Советский Союз. Посетив Москву впервые, патриарх 18 июля 1955 г. принял участие в торжествах, посвященных преподобному Сергию Радонежскому. Сам визит стал дипломатическим успехом советской стороны: собравшиеся в Москве в июле на торжества делегации восьми Поместных Православных Церквей, приняли послание «К христианам всего мира» с призывом поддержать мирные чаяния человечества. В 1958 г. состоялся второй визит Александрийского предстоятеля, происходивший после драматичных событий интервенции в Египет: Московская Патриархия в согласии с правительством деятельно помогала братской церкви8, и молодой священник был задействован в силу своего служения в Лавре и в МДА – постоянном пункте посещения церковными делегациями. Подробности этой работы пока неизвестны и лишь обрывочный документ, сохранившийся в частном архиве владыки, – свидетель таких первых дипломатических его опытов9.
Совершенно новый импульс международная деятельность молодого иеромонаха, а затем архимандрита Питирима приняла после 1960 г., когда сменились руководство и курс церковно-дипломатической деятельности в РПЦ. С приходом в ОВЦС летом 1959 г. в качестве заместителя главы архимандрита Никодима (Ротова) начались первые изменения, а летом 1960 г., когда он, став епископом Подольским, возглавил отдел, в скором времени оформился и новый курс межцерковной коммуникации и внешней дипломатической деятельности. Возникла острая нужда в «новых кадрах», и в числе таковых к работе был привлечен архимандрит Питирим.
В ноябре–декабре 1961 г. архимандрит Питирим стал участником советской церковной делегации на Третьей Ассамблее Все- мирного Совета Церквей (ВСЦ). Для Русской Православной Церкви событие это стало знаковым: наряду с тремя другими поместными православными церквами из социалистических стран (Болгарской, Румынской, Польской) она была принята в состав ВСЦ. После принятия новых членов в числе прочих официальных слов было оглашено обращение к Генеральной Ассамблее патриарха Алексия, содержащее характерные определения: «Русская Православная Церковь не проявляла нетерпимости или равнодушия к инославным церквам и объединениям, к их исканиям кафоличности, но в духе братской любви и понимания неизменно старалась идти навстречу, будучи всегда готова содействовать успеху этих их стремлений… знает о трудностях, стоящих на пути к единению христиан в Церкви, но благодарит Господа за милость осознания разъединенным христианством греха этого разделения и долга своего единения…»10.
Делегация РПЦ в Нью-Дели была одной из самых представительных, состояла из 16 участников, среди которых шестеро были в епископском достоинстве, двое – архимандритов, среди них и Пити-рим (Нечаев)11.
События в Нью-Дели нашли широкое освещение в официальных церковных изданиях. Представлены они и в личных бумагах Питирима (Нечаева). Как и в любой иной поездке, архимандрит вел блокнот с заметками о происходящем: зарисовками участников и обстоятельств, в которых проходила сессия. Так, 25 ноября, после вечернего заседания представителей православных церквей, он оставил заметку: «бестолково… проговорили 2 часа»12. Подобные неподцензурные частные записи резко контрастировали с официозом сообщений, готовившихся самим архимандритом для официального церковного издания – «Журнала Московской Патриархии», главным редактором которого ему предстояло стать в будущем году. По итогам поездки он подготовил текст «Экуменическая ассамблея в стране чудес», состоящий из эпических сцен и лакированных описаний: « Первое вхождение в Индию было через двери фешенебельной гостиницы “Ашока”. Индия явилась в ярком неоновом свете холла в образе исполинского портье в золоченом мундире и чалме с султаном… Контрасты преследовали и одолевали, они возникали на каждом шагу, подавляя своим многообразием и неожиданностью… Вице-президент Раджакришна принимал членов Ассамблеи в парке на упругих зеленых газонах среди подстриженных английских аллей и журчащих каскадов фонтанов в свете вечернего солнца и мощных прожекторов »13.
И все же церковно-дипломатическая суть происходящей ассамблеи остается центром повествования: «Экуменическая Ассамблея это тоже совокупность контрастов. В центре экзотической страны в первоклассно оборудованном специальном зале заседаний Вигиан Бхаван собрались люди разных рас и национальностей с разными обычаями и языком, разных христианских исповеданий, но общей верой во Христа Спасителя Мира. В воскресенье 19 ноября в открытом павильоне Шамиана состоялось экуменическое богослужение под звуки индийских христианских гимнов»14.
Отдельным документом этого путешествию в Индию архимандрита Питирима был «Индийский дневник» – подробные записи его ощущений, впечатлений, отношения к происходящему. Ценны они и бытовыми зарисовками, в том числе пережитых препонов и жизненных обстоятельств, предшествующих выезду. Так, в начале дневника автор записал: « Для меня это путешествие в страну чудес началось рядом чрезвычайных происшествий: в дни подготовки – автомобильная авария и пребывание автомашины в канаве, окончившееся благополучно. В день отъезда – нападение в Троицком соборе психопатички на о.Тихона, которую я собственноручно вытолкал из собора в милицию »15. Советские церковные дипломаты вовсе не были избавлены от казусов повседневности и попадали на высокие форумы в «город контрастов» из бытовых реалий советской жизни эпохи «зрелого социализма».
В мире церковной дипломатии: служение
Начало церковно-дипломатической работы в формате помощи в организации мероприятий в Москве и подготовки рабочих материалов продолжилось для архимандрита (с 1963 г. – епископа) Пи-тирима, что вполне укладывалось в логику и практики советской действительности. Попасть в ряды членов официальных делегаций и «выездных» было непросто. Ограниченный круг таких избранных был замкнутым и немногочисленным. Но однажды входя в него, а затем избегая скандальных ситуаций, строго следуя предписаниям и маркируя свою «результативность» (а у владыки Питирима такая возможность была как у автора официального контента по итогам международных миссий) участие в миссиях становилось постоянным.
Принятое однажды решение о представительности советских (Русской Православной Церкви) делегаций на площадках Всемирного Совета Церквей повлекло расширение круга их участников. Если в составе делегации в Нью-Дели было 16 человек, то на Четвертой ассамблее в шведской Упсале в июле 1968 г. – уже 36. Делегация РПЦ была самой представительной, включала 17 епископов, в том числе трех митрополитов16. Источниками формирования делегаций были епархиальные архиереи, члены органов церковного управления, сотрудники Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела. В обеих структурах в 1960-е гг. шла подготовка материалов для международной работы, сотрудники, особенно руководящее звено, активно в нее вовлекались, а кроме того плотно курировались как со стороны Совета по делам религий, так и компетентных органов. Эти обстоятельства позволяли оперативно формировать и переформатировать надежные, сработавшиеся команды для выездов, состоящие из проверенных участников.
При этом чем выше было иерархическое положение члена делегации, тем большей была его встроенность в различные корпоративные структуры. Высокое епископское представительство формировало большие возможности для вхождения (по избранию) в рабочие органы Всемирного Совета Церквей: такая задача в равной мере отвечала государственным интересам и естественной корпоративной настройке органа церковной дипломатии.
Нужно отметить, что расширение российского присутствия на мировых площадках происходило в сложнейшем геополитическом контексте: на фоне кризисов межгосударственных отношений в ходе Холодной войны, а также активизации католичества в рамках Второго Ватиканского собора (1962 – 1965 гг.), заявившего претензию на объединение мира на основе католицизма. Политико-дипломатическим ответом советской стороны стало доступное расширение присутствия на мировой арене Русской Православной Церкви. Результатом был призыв в церковную дипломатию активных, образованных и сдержанных иерархов и сотрудников церковных структур.
1963 г. стал временем уверенного вхождения Питирима в церковно-дипломатическую работу. Пост главреда «Журнала Московской Патриархии» и намечавшаяся епископская хиротония способствовали как его усилиям в публичной деятельности, так и росту внимания к нему.
В феврале–марте 1963 г. он стал участником масштабного трехнедельного визита советской церковной делегации в США. В своем отчете архимандрит Питирим отмечал следующее: « Программа нашего пребывания состояла преимущественно из встреч с различными христианскими деятелями, посещений церквей и богослужений, собеседований и официальных приемов. Необходимо сказать, что наши хозяева, Национальный Совет Церквей Христа в США старались сделать наше пребывание взаимополезным и приятным, поскольку живой контакт углубляет не только христианское единство, но и общечеловеческое взаимопонимание »17.
Визит проходил в сложной обстановке: на официальных мероприятиях члены советской делегации сталкивались с пикетированием – их встречали активисты в одежде или с плакатами с лозун- гами “Reds go home”. Часть газет, например, техасская «The Austin Statesman» приводили фотографии таких пикетов. В газетных передовицах архимандрит Питирим представлен как инспектор Московской духовной академии и один из активных участников миссии, всегда в движении, в диалоге. Возглавлял советскую делегацию из 18 членов глава ОВЦС архиепископ Никодим (Ротов). В нее входил епископ Мукачевский и Ужгородский Николай (Кутепов), епископ Венский и Австрийский Филарет (Денисенко). Программа была насыщенной: визитеры посетили 15 американских штатов в разных частях страны, побывали в Бостоне, Атланте, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, Вашингтоне. Большая делегация разделялась на группы. И южные штаты, например, посещали епископ Николай и архимандрит Питирим в сопровождении аппаратных сотрудников ОВЦС. И если в аэропорту Техаса значительная группа студентов встречала делегатов с плакатами «Добро пожаловать», то в Джорджии на них писали: «Южное гостеприимство отвергает хрущевских агентов»18.
Примечательно, что отдельную группу в делегации составляли как раз новички церковной дипломатии: епископ Николай и архимандрит Питирим. Случайность ли это и прогнозируемо ли было пикетирование православных в южных штатах – не установлено. Однако даже в оценке критически настроенной американской прессы, визитеры демонстрировали дипломатический такт и сдержанность. На газетных фото запечатлен архимандрит Питирим, уверенно ведущий коммуникацию, доброжелательно улыбающийся и пожимающий руки встречающим.
Примечательны и его личные оценки результатов миссии: « Как показал опыт этих встреч, христианам обеих стран предстоит сделать еще очень много на пути к конечному единству христиан, что составляет главную цель нашей общей экуменической деятельности. Прежде всего христиане должны ближе узнать друг друга. Для достижения этой цели христианам в США, по моему мнению, предстоит преодолеть внутреннюю разделенность настроений и деятельности, которая выражается в том, что отдельные лица и группы вторгаются со своими страстями в сферу церковных отношений. В каком-то душевном ослеплении они считают возможным распространять ложь, инсинуации, пикетировать религиозных деятелей, оскорбляя прежде всего религиозное чувство, а вместе с тем и национальное гостеприимство своего народа, от имени которого они якобы выступают… Для меня наиболее приятными были встречи и беседы со студентами и профессорами богословских семинарий и университетов. Состоявшиеся богословские дискуссии были продолжением аналогичных собеседований в Москве »19.
Очевидно, что состоявшийся визит в США требовал взвешенных оценок: официальный отчет о нем в «Журнале Московской Патриархии» вышел с заметным опозданием и в необычном формате. Так, в мартовском выпуске была опубликована краткая заметка об отправлении делегации 25 февраля и ее составе20. И лишь в послепасхальном майском выпуске появилось «Совместное коммюнике о визите делегации представителей церквей из СССР по приглашению Национального совета церквей США»21. В сухом и выверенном дипломатическом заявлении, сопровождавшемся единственной фотографией, иллюстрирующей произнесение архиепископом Никодимом приветственной речи в Колорадо, не содержалось намеков на сложности миссии и констатировалось сближение позиций сторон. Однако на фоне завершившегося четыре месяца назад острейшего Карибского кризиса сам факт подобной коммуникации имел огромное политико-дипломатическое значение, а участники миссии становились в буквальном смысле первыми эмиссарами мягкой силы одной из сторон конфликта.
Второй важной личной миссией епископа Питирима начальной поры его служения стало участие в работе Всемирной конференции «Вера и церковное устройство» в Монреале в июне 1963 г., буквально через несколько дней после епископской хиротонии. Тогда же в мае 1963 г. широко отмечалось 50-летие епископского служения патриарха Алексия22, и «Журнал Московской Патриархии», подробно осветив юбилейный повод, также необычно обстоятельно охарактеризовал патриаршее служение на Вознесение, сопровождавшееся хиротонией молодого епископа Питирима. Там же в официальной биографической справке о епископе довольно символично отмечалось: «В качестве доцента академии он участвовал в различных богословских комиссиях, а также был членом делегации Русской Православной Церкви на Всемирном Христианском Конгрессе в защиту мира в Праге и на III Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели в 1961 году»23. Это упоминание было единственной характеристикой поставляемого, что отражает как оценку его текущей деятельности, так и определенные приоритеты служения.
Блокноты, фиксирующие работу молодого владыки на конференции в Монреале, характеризуют его как внимательного, дотошного и деятельного члена делегации. Так, он в деталях характеризовал особенности воздушного путешествия. А по прибытии на место четко обозначил в блокноте номера проживания как членов своей миссии (что было необходимо для поддержания необходимой коммуникации, а зачастую и перераспределения подарочного фонда, без которого не мыслился зарубежный выезд), но и членов других миссий (такие указания косвенно свидетельствуют о готовности к установлению коммуникации и вне официальных площадок).
Владыка описывает и рассадку представителей делегаций на официальных мероприятиях, считывая дипломатический язык и интерпретируя распределение «весов» делегаций. Так, в первом ряду места выделялись Константинопольскому патриархату, а во второй ряд определили глав делегаций Румынской, Болгарской церквей и архиепископа Никодима (Ротова) как главу делегации Русской Православной Церкви. Вероятно, удивляясь этому обстоятельству, Пи-тирим специально отметил, что генеральный секретарь ВСЦ Вис-серт Хоофт (1900 – 1985) находится на площадке форума с женой. Позитивные контакты с этим главой экуменической структуры много способствовали не только приему РПЦ в ВСЦ, но и внесли вклад в поддержание диалога между СССР и США в пору Карибского кризиса: именно Хоофт тогда выступил в качестве ответственного переговорщика между сторонами.
Разумеется, в сознании и памяти любого христианина особую ценность имеет возможность прикосновения к святыням Святой Земли. Такая служебная возможность представилась епископу Пи-тириму летом 1967 г. В рамках этой миссии Питирим уже произносил официальные приветствия от лица предстоятеля Русской Православной Церкви перед Иерусалимским патриархом Феофилом. В Бейруте Питирим взаимодействовал с антиохийским патриархом Феодосием VI, отметив его болезненность и недвижимую руку, а также оставив конкретные замечания о его физическом состоянии, как и характеристики окружающих патриарха, традиционно находящегося в сфере внимания и приоритетов коммуникации Русской Православной Церкви24.
* * *
Такая вдумчивость и обстоятельность, внимание к деталям и открытость к коммуникации формировали индивидуальный стиль епископа Питирима как участника церковных миссий, церковного дипломата и ответственного переговорщика, способного на своей позиции (лидера церковного книгоиздания, человека гуманитарной сферы и представителя профессорской корпорации русской высшей духовной школы) с успехом коммуницировать на международной арене.
Благодаря личному архиву владыки, ныне известны примеры его частных рапортов и доверительных записок, которые он отправлял руководителям церковной дипломатии – митрополита Никодиму (Ротову), а затем Ювеналию (Пояркову) в случаях получения им ценных сведений и продуктивных контактов, осуществленных на полях его миссий25. В таком качестве спутника и многолетнего помощника большой церковной дипломатии советской эпохи и следует рассматривать грань церковного служения митрополита Пити-рима (Нечаева).
Список литературы Рождение церковного дипломата: первые зарубежные миссии владыки Питирима (Нечаева) конца 1950-х - 1960-х годов
- Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима (Нечаева) о Церкви, о времени и о себе. Москва, 2023
- Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 938. Карт. 9. Ед. 3.
- Архив Московской Духовной академии. Архиепископа Питирим (Нечаев). Личное дело. Л. 11.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 12. Ед. 36.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 47. Ед. 1-12; Карт.48. Ед. 1-6.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 29. Ед.6
- Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима (Нечаева) о Церкви, о времени и о себе. Москва, 2023. С.286-287.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 32. Д. 704. Л. 153.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 12. Ед. 18.
- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 6991. Оп. 2. Д. 427. Л. 51–52.
- The New Delhi Report. The Third Assembly of the World Council of Churches 1961. London, 1961. P. 369–421.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 13. Ед. 19. Л. 3.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 13. Ед. 19. Л. 46.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 13. Ед. 19. Л. 45–47.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 13. Ед. 18. Л. 1.
- The Uppsala Report 1968. Offi cial Report of the Fourth Assembly of the WCC. Uppsala July 4-20, 1968. Geneva, 1968. P. 104–108.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 38. Ед. 18. Л. 1.
- Russian, Texan Clergy Meet As Council Gives 4 Citations // The Austin Statesman. 1963. March 4. P. 1–3.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 38. Ед. 18. Л. 2.
- Отъезд церковной делегации в США // Журнал Московской Патриархии. 1963. №3. С.10.
- Совместное коммюнике о визите делегации представителей церквей из СССР по приглашению Национального совета церквей США // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 6. С. 11–14.
- Празднование пятидесятилетия епископского служения Святейшего Алексия, патриарха Московского и всея Руси // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 6. С. 11–22.
- Епископ Питирим // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 6. С. 27.
- НИОР РГБ. Ф. 938. Карт. 14. Ед. 15. Л. 2–8.
- Каиль М.В. Церковная дипломатия в СССР 1960-х гг. в частном рапорте епископа Питирима (Нечаева) митрополиту Никодиму (Ротову) о паломничестве в Святую Землю // Вестник архивиста. 2023. № 2. С. 474–490.