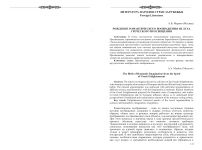Рождение романтического воображения из духа греческого просвещения
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литература народов стран зарубежья
Статья в выпуске: 2 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются дискурсивные парадоксы греческого Просвещения, стремившегося соединить достижения Европейского Просвещения с более консервативными установками греческого общества. Это привело к замене рациональной аргументации частными аргументациями различных наук, тогда как общим знаменателем этих частных аргументаций выступило воображение. Доказывается, что радикализм греческого Просвещения предвосхитил новый статус воображения в романтической литературе, и изучение наследия греческого Просвещения помогает понять сочетание радикальных и консервативных элементов в романном нарративе романтической эпохи.
Просвещение, историческая поэтика романа, воображение, научная аргументация, воображаемое
Короткий адрес: https://sciup.org/14914491
IDR: 14914491
Текст научной статьи Рождение романтического воображения из духа греческого просвещения
Романтическое воображение - одна из самых изученных страниц истории воображения: смещение и подрыв готовых статусов сюжетов, образов, общих мест и речевых жанров работало на новую культуру воображения, достраивающего свои объекты, а не интерпретирующего их. При этом менялось и значение науки в ходе кризиса просветительского проекта: обучение искусству «по книгам», которого требовала Энциклопедия и которое переросло в культуру инструкций и руководств, сменилось пониманием искусства как того воображаемого поля, той проекции на единый экран знакомых и незнакомых образов, которая только и может примирить различные особенности и моменты этих инструкций. В них неизбежно накапливаются сбои, обусловленные теми самыми особенностями выражения, которые романтизм и превознесет как «дух языка», и оказывается необходимым всякий раз обращаться к воображению как к общему и одновременно идеальному знаменателю уже нашедшего свое выражение опыта.
По нашей гипотезе, становление романтического воображаемого было ускорено процессами, происходившими на периферии Европы; они могли бы восприниматься как явления локального порядка, если бы не события времени наполеоновских войн, поставившие в центр внимания как раз периферийные процессы. Войны за контроль над греческими островами, как и многочисленные проекты освобождения Греции, стали важной частью коллективного романтического воображения. Возвращение к исконной Греции, к колыбели человечества, и превращение этой колыбели в самую вызывающую, в самую провоцирующую реальность современного политического порядка - это и была та самая общая рамка, в которой воспринимались греческие интеллектуальные достижения. То, что многие из этих достижений были известны из вторых, из третьих рук, из деятельности сочувствующих организаций (от редакций газет до масонских лож и художественных студий), только заставляло принимать эти достижения в концентрированной форме, как невероятно острую составляющую текущей общественной повестки, наиболее значимую для придания эстетическим переживаниям коллективного характера. Век романа наступал под грохот корабельных пушек и шум типографского станка.
Греческие просветители пытались копировать эффективно работающие европейские модели создания знания, но вместе с тем, именно они разрушили как в своих текстах, так и в своей реальной общественно-политической деятельности ряд конвенций, открыв дорогу фантастическому воображению. Прежде всего, они хотели быть не только почитателями Дидро и Руссо, но и продолжателями Платона и Иоанна Златоуста. Греческое Просвещение росло на совсем иной почве, чем западноевропейское, - не на почве экспертного знания и философских экспериментов, а на почве проповеди, которая и была первым носителем знания энциклопедического типа. Проповедовали в греческом мире того времени все священники, а не только епископы, проповедь стала доступна всем (пусть даже эти все - духовенство), и тем самым не было проблемы восстания Просвещения против наследия Контрреформации, с ее ограничениями на проповедь. Буйное воображение, которого требовала риторика Контрреформации, легко переходило в греческом мире в поощрение творческого воображения и бытового красноречия простых священников и простых мирян.
Чтобы обосновать свои притязания на античное наследие, при явном расхождении жанровых обычаев, как и порядков красноречия, греческие просветители вынуждены были произвести различие между формой и материей не как методическое, но как историческое1. Древние заботились о материи, как знатоки ее тайн, а современники могут придать всей блистательной премудрости древних надлежащую форму, которая оправдает эту премудрость и сделает ее несомненной для всех современных читателей. В результате и Платон, и Аристотель оказывались материалистами: настаивая на различии материи и формы, они тем самым оказывались ревнителями материи. Как пишет Афанасий Псалидас, они высказывают ничем не подкрепленные мнения, и потому поневоле всякий раз спотыкаются и повергаются в материальные поводы к своему философствованию2. Ведь если принцип различения материи и формы никак не локализован в истории, то он вечен; значит, вечно и названное различие, и сама двоица материи и формы. Но поскольку форма не была заботой живших до Христа мудрецов, не улучивших свет откровения, эту идеальную форму всякого бытия, то они и были материалистами, убеждавшими всех в вечности материи. Здесь мы видим, что материя начинает пониматься как область фатально сбывающихся понятий, как «фабула» романного типа, не связанная с реальностью или нереальностью таких «историй», тогда как форма получает психологическую трактовку, как область заботы, в свою очередь являющейся реакцией на отвлеченный идеал.
Помимо того, что такая греческая просветительская позиция может пониматься как тематизация анекдотов о недостаточно возвышенном характере античного философствования (вроде известного анекдота о Фалесе, который считал звезды и незаметно для себя рухнул в колодец на смех служанке), служивших для культуры классицизма способом перейти от «созерцания» судеб философов к басенному отношению к ним, способом освободить воображение от навязчивых философских понятий -здесь был еще один важный филологический казус. Учение античных философов о природе передавалось не словом «физика», которое было к тому времени закреплено в греческом мире за переводными с европейских языков книгами, но словом «физиология». Слово «физиология» означало определенный порядок рассуждений о физическом мире, причем у античных философов физиология сводилась к тому, что они свойства своего логоса, своего рассуждения переносили на явления природы. Отмечая в логосе, в рассуждении, непрерывность, нескончаемые возможности развертывания, повторяемость, материальную ощутимость, античные философы переносили эти же свойства на природу, в том числе и на природу самых возвышенных и небесных вещей. Афанасий Псалидас так и говорил, что античная философия основана на отождествлении гипотетического с реальным на том основании, что гипотетическое, оказавшееся в распоряжении античных философов, не могло достичь небес и осталось на земле - поэтому они и занимались только земным, поневоле приписав свойства своего ума материальным вещам. Греческий интеллектуал использует не самое честное доказательство, считая, что материализм античной философии был результатом недостаточного воображения античных философов: имея уже воображаемое в смысле гипотетического, они не обладали той силой воображения, которая позволила бы им это воображаемое обратить на познание небесных закономерностей и законов. Поэтому они обращаются к материи, в которой уже можно увидеть в развитии материальных вещей любые фантомы нашего воображения и мышления, в конечном счете, перейти от наблюдения отдельных вещей к экрану наших сбоев и галлюцинаций.
И именно такое представление о галлюцинирующей античной философии стало общим местом благочестивых греческих просветителей. Различные странные гипотезы античной философии, вроде всемирного вихря или потока атомов, они объясняли ментальными (мы бы сказали: психофизиологическими) причинами. От недостаточной воспитанности мысли, от склонности к пререканиям, от пьянства (не в смысле усталости и перегруженности впечатлениями, а в смысле злонравия - моральную чистоту греческие просветители блюли гораздо строже, чем гигиену мысли) древние начинали воображать некоторые ненаблюдаемые физические закономерности, которые при этом оставляли их вполне в поле материализма. Почти вольтеровская ирония соединяется у Афанасия Псалидаса и других авторов того же плана с натуралистическим, «сюжетным» пониманием «мысли как оживления материи»: философский метод сводится к ряду представляемых сюжетов3. Стоило бы только вывести все эти рассуждения об античных философах из басенного регистра в патетический - и мы бы имели уже не заметки о древних, а полноценный психологический роман, показывающий, как философское мышление находит для себя психологические границы.
Для греческих просветителей, в согласии с семантической эволюцией греческого слова «гнозис», не существует «знания», а только развертывающееся во времени «познание». Поэтому естественной границей нашего познания является не мир величин или мир качеств, но сама солнечная система. Мы знаем только то, что можем наблюдать под луной: чтобы что-то понимать, мы должны принять некоторое положение, оказаться в некотором положении. А принять какое-то положение мы можем только в отношении к солнцу, луне и звездам. Здесь очень интересно сочетаются представления о неподвижном субъекте наблюдения, о неподвижности как условии производимого наблюдения (что соответствует культуре ведения дневника, важной для становленияромана),стребованием психологической подвижности как единственной возможности вырваться из плена времени, которое обрекает на бесконечные поправки к существующей картине мира внутри его бесконечной протяженности. В этом нам помогает Ньютон, который для Псалидаса не столько великий физик, сколько великий филолог: благодаря своей языковой одаренности Ньютон смог связать два несовместимых понятия «круговое движение» и «необратимое движение». С точки зрения Псалидаса, бесконечное круговое движение не обязано быть необратимым: так как мы не можем наблюдать движение в течение бесконечного количества времени, то оно сжимается перед нами в некую ненаблюдаемую точку и, следовательно, может вполне обратиться и пойти в обратную сторону (это очень напоминает модель «мнимостей в геометрии», предложенную Павлом Флоренским). Тогда как Ньютон остановил это сжатие ненаблюдаемого, установив психологическое тождество двух понятий и доказав, что круг может быть не только умозрительной моделью, уходящей от нашего внимание именно из-за ее умозрительности, не только геометрической фигурой без физических свойств, но и вполне материальным переживанием нашего собственного свойства двигаться. Перед нами напрямую романная логика автора как объективного наблюдателя, который наблюдает за всем не в силу своего как бы божественного всеведения, как поспешно трактуют, но в силу осмысления собственного положения как материального ощущения полноты мира, которое уже не зависит от рутины времени и от воспроизводящихся во времени общих мест. При этом Декарт, в отличие от Ньютона, был плохим филологом: для своей теории вихрей он не изобрел убедительной синонимики, и поэтому его картина мира может считаться с равным правом и объяснением природы, и карикатурой природы, насмешкой над природой.
Филология была столь почетна, потому что она позволяла вывести физику из области однозначного почитания (или столь же однозначного отвержения) в область вероятных предположений. Сам язык, с его игрой значений, с его омонимиями и синонимиями, оказывался для греческих просветителей живой технологией вероятностей. Как говорит Афанасий Псалидас, Ньютон «толкует наиболее вероятное... двумя силами - центробежной и центростремительной4. Причем «вероятным» оказывается не предположение, а сама природа как то, что уловлено некоторым количеством слов: язык сам по себе ненадежен, но в своем умении строить гипотезы он опережает человеческий разум и потому оказывается надежнее, чем привычные нам общие места.
Поэтому Псалидас определяет физику не как науку о природе (последняя называлась «физиологией»), а как науку о целенаправленном действии. «Физика увеличивает возможности для человека определять свое действие». По мнению Псалидаса, каждая вещь в мире таит в себе наслаждение, и наше внимание поневоле уже соблазнено этими наслаждениями. Физика в таком случае есть, прежде всего, лучший способ для человека как-то отнестись к факту собственного наслаждения, рассчитав свои действия так, чтобы они уже не выглядели как соблазны. Здесь опять же сработало филологическое недоразумение: слово «феномен», которое относится к физическим явлениям, могло в бытовой речи пониматься как то, что задерживает на себе внимание: как это слово понимается часто в нашей бытовой речи («феноменальный ребенок»), но которое совершенно никак не соотносится с реальным узусом классической философии, где это был технический термин для астрономических или метеорологических наблюдений. Античная физика занималась астрологией и метеорологией, тогда как во времена Просвещения она уже занималась всеми вещами природы, и для Афанасия Псалидаса это доказывало лишь внутренний соблазн, присущий любым таким вещам.
Дистанция по отношению к былым соблазнам, которую человек занимает с помощью продуманного расчета, причем такого, который расширяет возможности человеческого познания - все это структурно значимо для любого психологического романа. При этом Псалидас исходит из того, что наслаждение каждой вещи не приписывается ей воображением, а неотъемлемо от нее, тогда как воображение начинает действовать, едва мы переходим от «физиологии» к «физике» и как-то беремся за систематизацию известных нам вещей, стараясь направлять нашу речь как можно ровнее и продуманнее. Здесь больше всего помогло традиционное на тот момент в Европе деление трактатов Аристотеля, когда трактат «О душе» относился к физике, а не к этике: из этого греческие просветители легко делали далеко идущие выводы о том, что душа - это, прежде всего, субъект физического знания. Она выравнивает наши сведения о мире и тем самым позволяет действовать в мире наиболее разумно. Нужно только очистить ее от аффектов, и это очищение Псалидас видел как придание познанию движения, постоянно расширяющего его горизонт, и таким расширением горизонта и будет захвачен читатель любой научной работы. Так знакомое нам воображаемое романного типа оказывалось залогом успешной научной работы.
С астрономией и метеорологией Псалидас справляется, просто выбирая возвышенный регистр речи, вроде «небесное державство необоримой осуществленное™ светил» (тоже филологический казус: слово «космология» Псалидас понял не как «наука о космосе», а как перебор, ревизию светил, в значении слова «логос» как счет, расчет, подсчет, - как науку о том, какие светила большие, а какие маленькие на этом воображаемом вселенском складе мириадов звезд), а с другими разделами современной ему физики приходится повозиться, исключительно воображая позиции движения и покоя, соблазнения и преодоления соблазна. Воображение здесь оказывается и географическим воображением: Псалидас требует признавать физикой только то, что признается в таком качестве «в Европе и в Америке». Теоретически он мог знать о трудах Франклина, но скорее всего, он просто указывает на то, что правильное знание может быть развернуто где угодно, лишь бы был его элементарный словарь, доступный на любых языках.
Викентий Дамодос был первым среди греков, кто усвоил картезианское учение о душе и теле. Его сочинение предоставляет в распоряжение читателя не только изложение учения Декарта, но и путь к этому учению. Трактат Дамодоса особым образом разыгрывает историю философии, историю развития мысли и историю поисков мысли, так чтобы мысль пришла к картезианству.
Для того чтобы такое построение было убедительным, Дамодос уже в самом начале своего труда говорит, что учение об одушевленном теле - это «самая ценная часть физической физиологии»5. При этом традиционное философское обсуждение сразу выносится за скобки: «мы имеем целью учить истине, а не тратить время на суесловие философов». Всякое обсуждение и спор, т.е. строго философский путь решения вопросов, оказывается отброшен. Но более того, оказывается отброшенным и всякое речевое, дискурсивное выражение философии. Соответственно, критерием истины остается «вероятность»: читатель сам должен понять, что предложенное автором решение «вероятное» и потому убедительнее решений прежних философов, или же предложить свое, еще более вероятное решение, которое будет продолжением истории философии.
Мнения философов Дамодос излагает в хронологическом порядке: «за этим следует это»6. Но при этом он говорит, что такое-то мнение, например, мнение эпикурейцев, ложное, а мы присоединяемся к этому. То есть некоторая самоочевидность представлений о душе и о материи определена еще до изложения мнений философов в их исторической последовательности. Она установлена жанром, в котором говорится о душе, и жанром, в котором говорится о материи.
Так, если можно ставить вопрос7, «что есть одушевленное тело», и рядом вопрос, «что есть душа у древних», то значит уже существует жанр рассуждений о душе, имеющий свою содержательную форму (решение вопроса об одушевленном теле) и свою литературную традицию, которая объясняется и оценивается, исходя из правил жанровой уместности (разные ответы древних на вопрос, что есть душа).
Не случайно Дамодос, исходя из картезианского представления о lumen naturale8, утверждает автономию любого философского рассуждения вообще! То есть то, что у Декарта было гносеологическим принципом, устанавливающим достаточные возможности суждения, здесь становится психологическим принципом: как человек ответит на вопрос о начале человеческого восприятия к миру, с чего с точки зрения любого философа начинается человеческое отношение к миру
Метод Дамодос определяет как «расположение вещей и мыслей, посредством чего вещи и мысли нужным образом располагаются, так что душа легче осмысляет вещи»9. Зеркальность в этой фразе логического протасиса и аподосиса, их семантическая тавтология вообще отличает эпизоды, в которых Дамодос рассуждает о методе. Например: «Риторическое какое угодно слово разлагается на части, из которых оно состоит»10. Такая тавтологичность отличает и стиль духовной литературы того времени, вот, например, фраза знаменитого афонца Кесария Дапонте: «свят Бог, от Которого всякое благо спасительное, да утвердится оно и увеличится как доброе, хвальное и любезное Богу»11. Дамодос пишет: «Методом называется всякий инструмент, посредством которого познается истина», а согласно «новейшим, метод - это суждение»12. Познание истины, суждение, выход на новую ступень знания возможен только благодаря тавтологии, в которой герменевтический круг сжат до словесной формулы! Ибо «нет различия вещей вне различия идей»13.
При этом служебные слова оказываются наиболее многозначными и значимыми для понимания дальнейшего развития мысли. Дамодос так определяет аналитический метод: «Этот метод отправляется от известного нам, то есть от частного и составного, к общему и простому»14. Чтобы понять суть метода, нужно понимать «и» не только в качестве связки однородных членов, которые выражают одно понятие, но и как описание силлогистической операции: частное есть имеющее части или являющееся частями и потому всегда связано с составным, а общее позволяет обозревать части, и потому само не составное, а простое. Так простая теория всегда созерцает многосложную практику. Тогда только понятен смысл метода, а не просто процесс оперирования им.
Итак, для греческих просветителей соединение античного философского наследия с современной им философией и наукой было точно такой же проблемой, как для романистов XIX в. соединение философских обобщений с психологическими наблюдениями. Только греческие просветители, в отличие от романистов, действовали в рамках не эстетического, а риторического эксперимента. Но именно взламывание риторических правил, необходимость быстро разделаться с риторикой (отвергнуть ее или инструментализовать) и позволила греческим авторам перейти к совершенно головокружительным экспериментам с собственным воображением, которые могут послужить ключом к изменению статуса воображаемого в ходе романтического эстетического переворота. Внимание европейского общества к греческой революции и другим процессам в этом регионе, во многом представлявшими собой практику местного Просвещения, не только на время захватывало полностью политическое воображение образованных европейцев, но и влияло на предпочтения читателей романов. Поэтому подробное изучение наследия греческих просветителей, с использованием современных методов интерпретации их часто «скучных» трактатов вполне оправдано в

контексте комплексных исследований романного воображаемого.
-
1 Kitromilidis P.M. losipos Moisiodax: oi syntetagmenes tis balkanikis skepseos ton 18o aiona. Athina, 1985; Kondylis P. О Neoellinikos Diafotismos: oi filosofikes skepseis. Athina, 1988.
-
2 Petsios K.F. I peri ton kosmou epistimi: kosmologikes anafores se ena kheirographo mathitario ton Athanasiou Psalida // Elliniki filosofiki epitheorisi. 1996. № 13. P. 133.
-
3 Petsios K.F. I eleutheria os yperbasi ton etherokathorismou sti filosofiki theorisi ton Athanasiou Psalida. loannina, 1994. P. 36.
-
4 Petsios K.F. I peri ton kosmou epistimi: kosmologikes anafores se ena kheirographo mathitario ton Athanasiou Psalida // Elliniki filosofiki epitheorisi. 1996. № 13. P. 134.
-
5 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 170.
-
6 Sathas K. Mesaioniki Vivliothiki. Vol. III. Venetia, 1878. P. 68.
-
7 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 174.
-
8 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 171.
-
9 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 172.
-
10 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 173.
-
11 Sathas K. Mesaioniki Vivliothiki. Vol. III. Venetia, 1878. P. 68.
-
12 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 173.
-
13 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 173.
-
14 Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi ton Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis // Dodoni. 1998. № 27. P. 176.
Список литературы Рождение романтического воображения из духа греческого просвещения
- Kitromilidis P.M. Iosipos Moisiodax: oi syntetagmenes tis balkanikis skepseos ton 18o aiona. Athina, 1985; Kondylis P. O Neoellinikos Diafotismos: oi filosofikes skepseis. Athina, 1988
- Petsios K.F. I peri tou kosmou epistimi: kosmologikes anafores se ena kheirographo mathitario tou Athanasiou Psalida//Elliniki filosofiki epitheorisi. 1996. № 13. P. 133
- Petsios K.F. I eleutheria os yperbasi tou etherokathorismou sti filosofiki theorisi tou Athanasiou Psalida. Ioannina, 1994. P. 36
- Petsios K.F. I peri tou kosmou epistimi: kosmologikes anafores se ena kheirographo mathitario tou Athanasiou Psalida//Elliniki filosofiki epitheorisi. 1996. № 13. P. 134
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 170
- Sathas K. Mesaioniki Vivliothiki. Vol. III. Venetia, 1878. P. 68
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 174
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 171
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 172
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 173
- Sathas K. Mesaioniki Vivliothiki. Vol. III. Venetia, 1878. P. 68
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 173
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 173
- Petsios K.F. Psikhi-Soma sti filosofiki theorisi tou Vikentiou Damodou: mia proimi axiopiisi tis kartesianis skepsis//Dodoni. 1998. № 27. P. 176