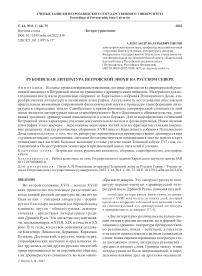Рукописная литература петровской эпохи на русском севере
Автор: Пигин Александр Валерьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы изменения, которые произошли в севернорусской рукописной книжности Петровской эпохи по сравнению с древнерусским периодом. Материалом для исследования послужили рукописные сборники из Карельского собрания Пушкинского Дома, старообрядческая литература и памятники агиографии. Актуальность исследования обусловлена пристальным вниманием современной филологической науки к процессам трансформации литературы в «переходные эпохи». Самобытным и ярким феноменом севернорусской словесности этой эпохи является литературная школа старообрядческого Выго-Лексинского общежительства, усвоившая традиции древнерусской письменности и стиля барокко. Для агиографических сочинений Петровской эпохи характерны усиление документального начала и фольклоризация. Новое явление агиографии этого времени - переложение некоторых житий или их фрагментов стихами (виршевые редакции). Анализ рукописных сборников XVIII века из Карельского собрания Пушкинского Дома свидетельствует о том, что их репертуар ограничивается преимущественно древнерусскими «душеполезными» сочинениями, светские беллетристические произведения еще не вошли в круг чтения местных жителей. Большое внимание в статье уделено также Толковой азбуке 1717 года, составленной в Палеостровском монастыре и призывающей юных читателей к учению.
Петровская эпоха, рукописная книжность, сборники, старообрядчество, агиография, азбуки
Короткий адрес: https://sciup.org/147238908
IDR: 147238908
Текст научной статьи Рукописная литература петровской эпохи на русском севере
Во второй половине XVII – начале XVIII века происходит постепенное разделение некогда единой русской литературы на две ветви. Одна из них – элитарная литература – формируется благодаря начавшемуся европейскому влиянию, другая – общедоступная, демократическая – продолжает литературные традиции Древней Руси. Эти две ветви сосуществовали, эволюционируя, в XVIII, XIX и отчасти в XX веке. В те годы, когда свои сочинения создавали Кантемир, Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин, Достоевский, в русских монастырях, старообрядческих пустынях и крестьянских избах трудились сотни других русских писателей, ориентировавшихся не на европейские образцы, а на древнерусскую словесность во всем много © Пигин А. В., 2022
образии ее жанров. Эту «вторую» русскую литературу нередко именуют «древнерусской литературой после Древней Руси», понимая под ней
«комплекс литературных памятников, создававшихся с XVIII века вплоть до наших дней, который продолжал сохранять в большей или меньшей степени господствующий дух древнерусской литературы и приверженность ее жанрам» [17: 6].
«Две литературы» различались не только своими литературными истоками, но и формой бытования («древняя» литература преимущественно рукописная, новая – печатная), а писатели и читатели принадлежали к разным социальным слоям: новая европеизированная литература стала достоянием элиты, литература рукописная – средних и низших слоев. Граница между этими литературами не была непроницаемой, и определенное влияние друг на друга они оказывали.
Рукописная литература Петровской эпохи – первый этап в истории «древнерусской литературы после Древней Руси». В трудах А. Н. Пыпина, В. В. Сиповского, В. Н. Перетца, В. П. Адриано-вой-Перетц, М. Н. Сперанского, Г. Н. Моисеевой, В. Д. Кузьминой, Ю. К. Бегунова, Н. Н. Розова, А. М. Панченко, Е. К. Ромодановской, Э. Малэк, Е. М. Юхименко и других исследователей показаны основные ее особенности, формирование которых начиналось в XVII веке: проникновение фольклора, развитие биографических элементов в агиографии, появление светских произведений в составе сборников, становление художественного вымысла, но при этом усиление до-кументализма, возрастание личностного начала и т. д. Эти процессы происходили как под влиянием новой европеизированной литературы, так и в результате естественной эволюции самой древнерусской книжности. Исследования рукописной литературы рубежа XVII–XVIII веков выполнялись преимущественно на общерусском материале, Е. К. Ромодановская активно привлекала сибирские тексты, изучала специфику местной литературы переходного периода в контексте проблемы областных литератур (например: [18], [19]). Существование разных региональных литературных центров на рубеже XVII–XVIII веков – важный фактор, который необходимо учитывать в изучении литературы этого времени.
***
Богатейший севернорусский рукописный материал конца XVII–XVIII века, собранный главным образом в ходе археографических экспедиций XX века, позволяет поставить вопрос о том, происходили ли подобные процессы в рукописной книжности Русского Севера. Какие новые черты появляются здесь по сравнению с древнерусским периодом?
Одно из наиболее значимых явлений севернорусской рукописной литературы Петровской эпохи – Выговская школа. В созданном в конце XVII века к востоку от Повенца Выго-Лексин-ском старообрядческом общежительстве сложились своя литературная традиция и особый тип орнаметированной книги – поморской. Расцвет Выговской школы приходится как раз на Петровскую эпоху благодаря первым настоятелям и плодовитым писателям братьям Денисовым. Литературная школа Выга была ориентирована на традиции элитарной литературы барокко и ученой риторики; в системе жанров на первое место вышли ораторские слова, написанные изысканным витийственным стилем. При этом в полной мере здесь сохранялась и древнерусская книжность во всем многообразии ее жанров. Феномен Выга – в уникальном и очень органичном сочетании литературных новаций и старины [29], [30].
В севернорусских монастырях на рубеже XVII–XVIII веков не было столь значимых для истории книжности и рукописной литературы центров, каким являлся старообрядческий Выг. Политика Петра I в отношении монастырей, а позднее монастырская реформа Екатерины II привели к утрате русскими обителями своего былого культурного значения. Тем не менее работа по собиранию библиотек, переписке рукописей, созданию новых литературных сочинений продолжалась и здесь (в Соловецком, Алексан-дро-Свирском, Антониево-Сийском, Верколь-ском и других монастырях).
На Архангельском севере развитию книжности способствовал первый архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий (Любимов) (1641–1702) – широко образованный человек, владевший греческим, латинским и немецким языками, сторонник петровских преобразований. Афанасий был основателем библиотеки при архиерейской доме в Холмогорах, автором ряда богословских, полемических и исторических сочинений. В архиерейском доме Афанасием была организована работа по переписке книг, часть из которых по его повелению присылалась с этой целью из северных монастырей. Переписка книг поручалась здесь, согласно выводам М. В. Кукушкиной,
«не профессионалам-писцам, а искусным и грамотным служителям, скорее всего дьякам-делопроизводителям, которые занимались книгописанием, имея и другие обязанности» [9: 196].
Исследование почерков, переплетов, оформления, бумаги и записей в рукописях, вышедших из-под пера этих писцов, позволяет говорить об особой книгописной школе Афанасия Холмогорского [9: 185–197]. Архиерей сам наблюдал за работой своих писцов, придавал большое значение качеству – древности и исправности – копируемых списков, а также четкости почерков и соблюдению правил орфографии. Новаторская – ученая – черта этой школы заключается в выборе списков литературного памятника для копирования в результате их тщательного текстологического анализа. В этом отношении школа Афанасия Холмогорского близка Выгов-ской старообрядческой школе. Книгописная школа Афанасия Холмогорского оказала «влияние на развитие севернорусской рукописной книжности в целом» [9: 197], а в частности – на скорописные почерки многих севернорусских руко- писей рубежа XVII–XVIII веков, отличающиеся каллиграфическим изяществом.
Ясное представление о круге чтения средних и низших слоев (горожан, крестьян, старообрядцев, низшего духовенства, военных низших чинов и т. д.) дают сами рукописи, прежде всего сборники. Классификация рукописных сборников XVIII века на основе более 500 рукописей из московских и петербургских хранилищ была осуществлена в 1920–1930-е годы М. Н. Сперанским [25: 28–47]. Исследователь разделил изученные им сборники на пять групп. К первой группе он отнес сборники, в которых представлен почти весь круг интересов читателей начала XVIII века: от жития до бытовой сатиры и сказки с былиной, «но отзвуков современных переживаний в виде литературных произведений петровского времени» здесь еще нет [25: 31]. Сборники второй группы обнаруживают тяготение к занимательной повести, как древнерусской, так и переводной. Сборники третьей группы включают беллетристический материал преимущественно XVIII века, четвертой группы – тексты делового, практического, учебного характера, записи о современных событиях, политический памфлет. Эти сборники особенно тесно «связаны с передовой литературой петровской поры и второй четверти XVIII в.» [25: 32]. Наконец, пятую группу составляют поэтические сборники, включающие канты, псальмы, духовные стихи и светские песни.
М. Н. Сперанский уделил большое внимание общественной среде, в которой создавался и читался сборник, но региональный аспект практически не учитывал. К тому же, в соответствии со своим пониманием истории русской литературы XVIII века, он не придавал большого значения сборникам религиозно-учительным, старообрядческим, монастырским и церковным, полагая, что они играли «незначительную роль в развитии литературы XVIII в.» [25: 27]1. Эти ограничения сужают возможности использования предложенной ученым классификации.
Рассмотрим состав рукописных сборников XVIII века на примере одного из самых крупных севернорусских собраний – Карельского собрания ИРЛИ, основу которого составляют рукописи Поморья. Из 600 единиц хранения в этом собрании более трети рукописей датируется XVIII веком (сузить хронологический диапазон достаточно сложно, поскольку большинство рукописей в имеющемся описании датированы в пределах века). Около 70 рукописей – это литературные сборники XVIII века, кроме того, отдельные рукописи XVIII века включают только одно произведение (например, житие или повесть).
Большинство сборников XVIII века из Карельского собрания было создано в старообрядческой среде (даже если они не включают собственно старообрядческие тексты), поэтому отмеченные М. Н. Сперанским характерные для той или иной группы признаки здесь выражены крайне слабо.
Светская беллетристика представлена в Карельском собрании переводной Повестью о Ка-леандре и Неонильде в списке первой половины XVIII века (Карел. 160). Это довольно объемный рыцарский роман [28]; тексты такого рода активно переводились на русский язык преимущественно с польского на рубеже XVII–XVIII веков и были популярны в эпоху Петра I. Интересно, что повесть не пришлась по вкусу читателю «карельского» списка, оставившему в рукописи такую запись: «Сия книга мною прочтена, а ничего блага не получено, едакая глупость была в древьние времена, а ноне все по-своему происходит» (л. 10–11, запись XVIII века). Читатель осмыслил этот беллетристический текст в древнерусском духе: вымышленный сюжет был понят им как подлинные события «древних времен» (пусть и «глупость»), а целью чтения являлось для него получение «блага», то есть пользы или знаний, а не развлечение и художественное наслаждение.
Условно к сборникам второй группы, по М. Н. Сперанскому, может быть отнесена рукопись № 217, состоящая из Повести о царице и львице и повестей из Звезды Пресветлой, включающей также некоторые русские богородичные легенды. Повесть о царице и львице [27], как и Повесть о Калеандре, восходит к западноевропейскому роману, хотя является не переводом его, а переделкой. Однако русского читателя она больше привлекала своими житийными «душеполезными» чертами, чем и объясняется большое число дошедших ее списков.
В сборнике Карельское собр., № 42 из печатных книг переписаны проповеди Феофана Прокоповича, Дмитрия (Сеченова), Платона (Левшина) и других проповедников XVIII века.
В целом же основу «карельских» сборников XVIII века составляет древнерусская словесность: жития святых, «душеполезные» повести, слова Отцов церкви, выписки из Пролога и т. д. – то есть тот материал, который перешел сюда из сборников XVII века и более раннего времени. В старообрядческих сборниках словесность петровского времени представлена только сочинениями выговских авторов (Андрея и Семена Денисовых и др.), а также компиляциями из древнерусских сочинений на тему самоубий- ства и других актуальных для старообрядцев вопросов (Карел. 14). Прямым откликом на новшества петровского времени являются статьи, осуждающие брадобритие, европейские одежды, употребление чая и кофе, трактующие самого Петра I как антихриста, но такие сочинения встречаются преимущественно в сборниках старообрядцев-странников конца XVIII–XIX века. Сборники пятой группы, по М. Н. Сперанскому, – поэтические – в Карельском собрании, как и в других северных собраниях, представлены преимущественно поздними стиховниками конца XVIII – начала XX века, содержащими произведения религиозной поэзии. Сочинения светской поэзии петровского времени в них, как правило, отсутствуют.
Похожий состав рукописей петровского времени характерен и для других северных регионов, например для Пинеги. Согласно выводам Н. В. Савельевой, «наивысшего расцвета» рукописная традиция Пинеги достигает как раз в первой четверти XVIII века, но, в отличие от Карелии (Поморья), она не связана «с движением старообрядцев, а продолжается в русле господствующей церкви» [16: 17]. Литературные сборники этого времени создаются «местными священниками, иноками Веркольского монастыря и крестьянами, близкими церковным кругам». Но и эти сборники ориентированы на старину: они «сосредоточили в себе все черты древнерусской книжной и литературной традиции предшествующего периода» [16: 18].
В Петровскую эпоху и в целом в XVIII веке продолжилось формирование местных литературных очагов – начало этого процесса приходится на период после Смутного времени. Во многих регионах, в том числе на Севере, в XVIII веке создаются жития местночтимых святых, повести о чудотворных иконах и монастырях, местные летописцы. Писатели-«краеведы» в новой реформирующейся России пытались запечатлеть в литературной форме сакральную историю своей земли, нередко обращаясь при этом к фольклорным преданиям.
К памятникам севернорусской агиографии конца XVII – первой четверти XVIII века относятся, например, жития тотемских святых Андрея, Вассиана (Тиксненского) и Максима (в последнем случае только чудеса); Сказание о Казанской иконе Божией Матери в Каргополе; литературный цикл, посвященный Заоникиев-ской пустыни близ Вологды; Сказание о иконе Варвары Великомученицы в Ярнеме; Сказание о иконе Троицы Соезерской пустыни (редакция с чудесами начала XVIII века); Повесть об ос- новании Голгофо-Распятского скита на Анзер-ском острове; Чудеса Параскевы Пиринемской на Пинеге, безымянного Сумского чудотворца и другие. Индивидуальные особенности каждого из этих сочинений не мешают выделить и некоторые их типовые черты.
Как правило, это небольшие по объему памятники, написанные простым, без риторических украшений языком. Древнерусский принцип абстрагирования уступает здесь место фактографической точности, ориентации на документ. Как и в древнерусский период, агиографы начала XVIII века пытаются порой объединить сочинения, посвященные одной святыне, в некие циклы. «Монографические» сборники2 Древней Руси включали обычно службу святому, житие с посмертными чудесами, похвальное слово и молитвы. В XVIII веке цикл получает расширение за счет разнообразных других текстов. Так, круг сочинений о Заоникиевской пустыни составляют не только Слово на память чудотворца Иосифа (основателя пустыни) и Сказание о местной иконе Богоматери, но и рассказ о посещении монастыря Вологодским епископом Павлом в 1717 году. Сказание о Казанской иконе Божией Матери в Каргополе дополнено в рукописях двумя посланиями об этой иконе Новгородского митрополита Иова – архимандриту Спасо-Преображенского каргопольского монастыря Иоакиму и «гражданам каргопольским» (1714 год)3.
На Соловках велась работа по объединению в сборники рукописных памятников, посвященных соловецким святым. В 1703 году ссыльный чудовский дьякон Иов составил сборник «Сад спасения», в который вошли Жития Зосимы и Савватия Соловецких, в том числе Вирше-вая редакция, Повесть о Германе Соловецком, изложение житий других соловецких святых в Предисловии, службы и похвальные слова. На протяжении XVIII века «Сад спасения» несколько раз редактировался, и некоторые из перечисленных текстов вошли в сборник в процессе его переработки. Особенностью этого сборника, отличающей его от «житийников» древнерусского периода, является отчетливая ориентация на барочную поэтику в построении текста. По мнению О. В. Панченко, «Сад спасения» – это агиографический вариант сборника «литературного сада», построенного по типу антологии. Предисловие к сборнику написано в традиционном для Петровской эпохи жанре панегирика. Использованные в нем поэтические символы («солнца», «небесных светил», «многомятежного моря») и усложненный синтаксис также свидетельствуют об ориентации автора на литературную традицию барокко. Один из списков сборника, 1711 года, украшен в барочном духе 275 миниатюрами [12].
Почитание некоторых святых и святынь, которым посвящены сказания, принадлежит области народного православия, тексты близки фольклорной культуре, чудесное совмещается с бытовым. По наблюдениям А. Н. Власова, в Сказании о иконе Троицы Соезерской пустыни Троица воспринимается как «антропоморфное женского рода существо» [4: 308]. В этом же произведении содержится чудо (1718 год) о наказании человека, положившего во уста перед посещением святыни «треклятую траву табаку» [4: 336]. Характерный мотив – запрет на матерную брань, с которым к персонажам произведений обращается Богородица. Так реализуется народное представление о матерной брани как об оскорблении трех матерей – родной матери, матери-земли и Пресвятой Богородицы (ср. в древнерусском «Слове о матерной брани») [1].
Приметы литературы Петровской эпохи иногда проявляются в использовании более редких мотивов, имеющих иное происхождение. Так, по мнению Д. М. Буланина, восхождение на гору Голгофу иеросхимонаха Иисуса в Повести об основании Голгофо-Распятского скита «весьма символично и заставляет вспомнить подвижников католического мира»; этот нюанс указывает на то, что повесть «была составлена в эпоху приобщения России к западноевропейской культуре» [3: 522].
В XVIII веке, в том числе в Петровскую эпоху, не прекращается редактирование древнерусских житий святых. В конце XVII – первые десятилетия XVIII века были созданы Историческая и Виршевая редакции Жития Антония Сийско-го [20: 173–195], Украшенная редакция Жития Александра Свирского [23], виршевые редакции житий Никодима Кожеозерского и Логгина Коряжемского, редакция с 85 чудесами Жития Артемия Веркольского [5: 253], новый вариант Основной редакции Жития Кирилла Новоезер-ского с сопровождающими его новыми текстами о святом (лицевой «Кирилловский сборник») [7: 103 и далее] и многие другие. Редактирование могло заключаться в добавлении новых чудес, но иногда приводило к существенной перестройке всего текста, причем как его сокращению, так и распространению за счет дополнительных эпизодов и «украшению». Сохраняется и традиция составления крупных календарных сводов житий: в начале XVIII века старообряд- ческими книжниками Выга были подготовлены Выговские четии минеи [32].
Примечательно появление на рубеже веков виршевых переложений житий, созданных под влиянием русской силлабической поэзии второй половины XVII века (Симеона Полоцкого и др.) [21]. В Украшенной редакции Жития Александра Свирского виршами переложена только одна глава – послесловие автора Жития игумена Иродиона и добавлены стихотворное предисловие («Краегранесие») и акростих – своеобразная стихотворная подпись к «Сказанию на преставление» Александра Свирского. Стилистической обработке – «украшению» – подвергся и язык этой редакции, что вместе с роскошными миниатюрами в некоторых списках позволяет говорить о традициях барочной культуры. По мнению А. Е. Соболевой, образцом для новой редакции Жития и стихотворных украшений послужило печатное издание «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (М., 1681) со стихотворными текстами Симеона Полоцкого. Автором Украшенной редакции Жития и стихотворных включений А. Е. Соболева считает архимандрита Александро-Свирского монастыря Исайю (1705– 1708 годы), но допускает, что «Краегранесие» было написано книжником того же монастыря иноком Иоасафом [23].
Реалии Петровской эпохи нашли прямое отражение в одной из редакций Сказания о явлении и о чудесах Вассиана и Ионы Пер-томинских – соловецких иноков, утонувших в Унской губе Белого моря в 1566 году и ставших объектом почитания [2]. В первой четверти XVIII века на основе первоначального текста Сказания была создана пространная редакция, в состав которой вошел рассказ о посещении Пертоминского монастыря Петром I во время его путешествия из Архангельска на Соловки в 1694 году. Событие было осмыслено как чудо, поскольку корабль царя нашел укрытие от шторма в Унской губе. В благодарность Вассиану и Ионе за спасение от потопления царь повелел освидетельствовать мощи святых и положить их в новый гроб. Пертоминскому монастырю были даны денежные средства на благоустройство, а на том месте, где корабль царя пристал к берегу, Петр I установил деревянный крест, изготовленный собственными руками. Выполняющий в Сказании функцию посмертного чуда святых, этот рассказ больше напоминает историческое сочинение.
Повествование о Петре I содержится не во всех списках пространной редакции – в списке из вы-говской рукописи (Поморского Торжественника)
ГИМ, Музейское собр., № 1510 оно было снято. По мнению Е. А. Рыжовой, посвятившей этому списку отдельную статью, сокращение «было сделано преднамеренно: как известно, старообрядцы весьма негативно относились к личности и деятельности Петра I» [22: 138]. Нет сомнений, что сокращение действительно «было сделано преднамеренно», но с предложенным Е. А. Рыжовой объяснением согласиться трудно: выгов-ские литературные сочинения свидетельствуют об исключительно позитивном восприятии вы-говцами Петра I как мудрого и милосердного правителя [6], [14], [31]. Причина, скорее, в другом: старообрядцы не могли принять факт прославления древнерусских святых после никоновских реформ и по инициативе российской власти.
Выше был упомянут инок Александро-Свир-ского монастыря Иоасаф – возможный автор «Краегранесия» в Украшенной редакции Жития Александра Свирского. Деятельность этого севернорусского книжника Петровской эпохи можно представить более подробно. Сегодня известны по крайней мере четыре составленные им рукописи: Страсти Христовы, 1713 год (БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, № 14); Житие Александра Свирского, 1715 год (Отдел древнерусского искусства ГРМ, др. гр. 26); Страсти Христовы, 1717 год (БАН, собр. Археологического института, № 24); Толковая азбука (Палеостровская азбука), 1717 год (НА КарНЦ РАН, р. 1, оп. 2, д. 92). Из записей, оставленных им в рукописях, удается получить некоторые биографические сведения о нем. Иоасаф был уроженцем Москвы, принял постриг в Александро-Свирском монастыре, исполнял здесь обязанности канонарха, в 1717 году находился в Палеостровском монастыре на Онежском озере4.
Рукопись с Житием Александра Свирского
«украшена заставкой с изображением основателя монастыря (л. 7), большими и пышными инициалами “поморского стиля”, двумя миниатюрами – “Явление Святой Троицы преподобному Александру Свирскомуˮ (л. 6 об.) и “Преставление преподобного Александра” (л. 245)» [24: 211].
Каллиграфические почерки – полуустав и скоропись, которыми владел Иоасаф, наводят на мысль, что художественное оформление этой рукописи тоже может принадлежать ему.
В 1717 году, когда Иоасаф находился уже в Па-леостровском монастыре, им была составлена азбука-свиток, о чем сообщает запись в самом конце этой рукописи: «Лета от Рожества Христова 1717. Написана бысть в Палеостровском монастыре рукою инока Иоасафа». Толковые азбуки
(или азбуки-акростихи, азбуки-границы) известны в русских рукописях начиная с XIV–XV веков. Их содержание составляют «душеполезные» тексты (молитвы, изложение библейских сюжетов, поучения и т. д.), в которых каждое новое предложение начинается с очередной буквы алфавита. Созданные первоначально как памятники вероучительного характера для христиан всех возрастов, толковые азбуки постепенно вошли в учебную практику, стали применяться для обучения детей грамоте. Они заучивались наизусть и служили одним из способов для запоминания алфавита или же для закрепления этих знаний [15]. Нередко азбуки записывались на свитках, склеенных из нескольких листов бумаги и достигающих в длину 9–10 метров. Как отмечает исследователь этих памятников Е. А. Мишина, самые ранние списки азбук-свитков датируются 20-ми годами XVII века, а в употреблении они сохранялись на протяжении всего XVIII века [11].
Палеостровская азбука представляет собой именно такой свиток, разворачивающийся почти на 6 метров. Азбука составлена в форме поучения опытного мудрого человека к «юноше», еще только вступающему в жизнь. Главная ее тема – необходимость учиться: «…ученых людей слушай наказания», «доброму всякому учению внимай», «емлися учению, чтению, пению» и т. д. Одновременно автор заповедует «юноше» избегать тех соблазнов, пороков (особенно пьянства) и «злых людей», которые отвращают от учения и ведут к погибели души: «…злаго обычая не держи-ся, со юношами, и с блудники, и с корчемники, и со младыми женами не водися», «не спи долго, не гуляй безгодно» и др. Важная мысль азбуки-поучения заключается также в том, что доброе учение возможно только при полном послушании родителям.
К сожалению, без тщательного источниковедческого и текстологического анализа русских толковых азбук невозможно судить о степени самостоятельности составителя Пале-островской азбуки: был ли Иоасаф автором азбуки или только переписал ее. Очевидно вместе с тем, что своим настойчивым призывом к учению азбука вполне соответствует духу Петровской эпохи – начала русского Просвещения. В том же 1717 году в Санкт-Петербурге была издана и знаменитая книга для дворянских детей «Юности честное зерцало», с которой Пале-островская азбука перекликается некоторыми своими идеями. По всей видимости, Иоасаф составил эту азбуку для кого-то из мирян, проживавших в расположенном неподалеку старинном селе Толвуя: в 1724 году она принадлежала, со- гласно владельческим записям, жителю Толвуй-ского погоста Семену Семенову Колмакову. Па-леостровская азбука интересна, таким образом, как ценное свидетельство культурного влияния заонежских монастырей на местное крестьянство (подробнее см.: [13], [26]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа рукописного репертуара севернорусских сборников Петровской эпохи и последующих десятилетий можно сделать вывод о том, что круг чтения жителей севернорусских земель мало изменился в это время по сравнению с древнерусским периодом. Светские сочинения еще не успели проникнуть в севернорусскую книжность или, точнее, являются здесь большой редкостью. Если в высокой элитарной литературе Петровской эпохи происходит приоста- новка в развитии («Это самая “нелитературная” эпоха за все время существования русской литературы» [10: 18]), то в рукописной литературе никакой паузы мы не наблюдаем. Традиция переписки рукописей, создания новых сочинений и редактирования древних сохраняется с разной степенью интенсивности и в монастырской, и в крестьянской, и в старообрядческой среде. Новые черты, особенно отчетливые в агиографии, заключаются прежде всего в усилении документального начала и фольклоризации. Влияние элитарной литературы проявляется в барочных элементах, создании виршевых и риторических текстов. Наиболее ярко и последовательно это влияние выразилось в литературе Выга, которая по праву может считаться художественной вершиной рукописной литературы Русского Севера Петровской эпохи.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БАН – Библиотека Российской академии наук (С.-Петербург)
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
ГРМ – Государственный Русский музей (С.-Петербург)
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург)
НА КарНЦ РАН – Научный архив Карельского научного центра Российской академии наук
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы
Список литературы Рукописная литература петровской эпохи на русском севере
- Бабалык М. Г. К изучению рукописной традиции «Слова о матерной брани» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014. № 7 (144). С. 66-69.
- Белоброва О. А., Симонов А. Н. Сказание о явлении и о чудесах Вассиана и Ионы Перто-минских // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып 3 (XVII в.). Ч. 3: П-С. С. 454-457.
- Буланин Д. М. Повесть о основании Голгофо-Распятского скита // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4: Т-Я. Дополнения. С. 521-523.
- Власов А. Н. Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах Вычегодско-Северодвинского края XVI-XVIII вв.: Тексты и исследования. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. 780 с.
- Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII-XVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1973. 303 с.
- Журавель О. Д. «Той, от него же вся Россия поколебася»: еще раз об отношении старообрядцев Выга к царской власти // Религиозные и политические идеи в произведениях деятелей русской культуры XVI-XXI вв. Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-ния РАН, 2015. С. 70-86.
- Карбасова Т. Б. Кирилл Новоезерский: история почитания. Исследование и тексты. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. 559 с.
- Карбасова Т. Б. Монографический агиосборник как тип (на примере сборника, посвященного Кириллу Новоезерскому) // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. Т. 2. С. 240-248.
- Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки по истории книжной культуры XVI-XVII веков. Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1977. 223 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. 359 с.
- Мишина Е. А. Азбуки-свитки XVII-XVIII веков // От Средневековья к Новому времени: Сборник статей в честь Ольги Андреевны Белобровой. М.: Индрик, 2006. С. 419-431.
- Панченко О. В. Книга «Сад спасения» - соловецкий агиографический свод переходной эпохи: история текста // ТОДРЛ. СПб. Т. 69 (в печати).
- Пигин А. В. Азбука-свиток из Палеостровского монастыря // Вестник Карельского краеведческого музея. Петрозаводск, 2011. Вып. 6. С. 63-71.
- Пигин А. В. Петр I и Петербург в сочинениях писателей-старообрядцев Выговской поморской пустыни // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 6 (183). С. 77-84. DOI: 10.15393/uchz. art.2019.375
- Пигин А. В., Бабалык М. Г. «Аз ти глаголю добрейшее, юноше...»: о некоторых учебных текстах в русских рукописях XVIII-XIX вв. // «Мудрости бо ти имя подадеся...»: Сборник статей к юбилею профессора Софьи Михайловны Лойтер. Петрозаводск: Изд-во Карельской гос. пед. академии, 2011. С. 10-21.
- Пинежская книжно-рукописная традиция XVI - начала XX вв. Опыт исследования. Источники. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1: Савельева Н. В. Очерк истории формирования пинежской книжно-рукописной традиции. Описание рукописных источников. 721 с.
- Понырко Н. В. Древнерусская литература после Древней Руси // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2020. Т. 20. С. 5-23.
- Ромодановская Е. К. К вопросу о региональном типе жанровой системы русской литературы XVII-XVIII вв. // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. М.: Индрик, 2015. Т. 1. С. 819-828.
- Ромодановская Е. К. О круге чтения сибиряков в XVII-XVIII вв. в связи с проблемой изучения областных литератур // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. М.: Индрик, 2015. Т. 1. С. 71-95.
- Рыжова Е. А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского. Книжные центры Русского Севера. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2000. 370 с.
- Рыжова Е. А. Виршевые редакции севернорусских житий // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 195-235.
- Рыжова Е. А. Поморский список Пространной редакции Сказания о Вассиане и Ионе Пертоминских // Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук. 2019. Вып. 3 (11). С. 126-149.
- Соболева А. Е. «Сия вирши изложенныя до читателя» в Житии прп. Александра Свирского XVIII века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 5. С. 97-104. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.792
- Соловьева И. Д. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Художественное наследие и историческая летопись. СПб., 2008. 511 с.
- Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. Материалы для истории русской литературы XVIII века. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 268 с.
- Старостина Т. В. Народные этические представления и палеостровская азбука 1717 г. // Научная конференция по итогам работ за 1965 год. Май 1966 года. Секция исторических наук: Тез. докл. Петрозаводск, 1966. С. 78-81.
- Чалкова (Ведерникова) Т. Ф. Повесть о царице и львице // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.), ч. 3: П-С. С. 231-233.
- Щеглова С. А. Драма и роман о Калеандре и Неонилде // ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. Т. 14. С. 500-503.
- Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 1. 544 с.; Т. 2. 480 с.
- Юхименко Е. М. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. М.: Языки славянских культур, 2008. Т. 1. 688 с.; Т. 2. 568 с.
- Юхименко Е. М. Самодержавие и правоверие в литературе выговского старообрядчества // Pisarz i wladza (od Awwakuma do Solzenicyna). Lodz, 1994. S. 34-41.
- Юхименко Е. М. Четии Минеи братьев Денисовых. Новые находки // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 302-308.