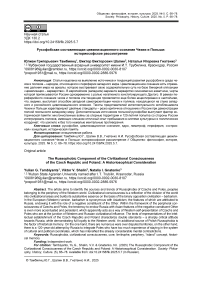Русофобская составляющая цивилизационного сознания Чехии и Польши: историософское рассмотрение
Автор: Тамбиянц Ю.Г., Шалин В.В., Гнатенко Н.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья нацелена на выявление источников и тенденций развития русофобии в среде чехов и поляков – народов, относящихся к периферии западного мира. Цивилизационное сознание есть отражение деления мира на ареалы, которое выстраивает свою содержательную суть на базе бинарной оппозиции «цивилизация – варварство». В европейском (западном) варианте варварство синонимично азиатчине, черты которой приписываются России одновременно с ролью негативного конституирующего Другого. В рамках периферийного сознания чехов и поляков эта тенденция проявляется еще более акцентировано и настойчиво, что, видимо, выступает способом западной самопрезентации чехов и поляков, находящихся на стыке западного и российского цивилизационного влияния. Тексты представителей интеллектуального истеблишмента Чехии и Польши характеризуют двойные стандарты – резко критичное отношение к России при демонстрации полной лояльности западному миру. Дополнительным источником польской русофобии выступает фактор исторической памяти: многочисленные войны за спорные территории и 120-летняя попытка со стороны России интегрировать поляков, имеющих слишком отличный опыт пребывания в системе культурных и политических координат, что усилило и без того немалые ментальные противоречия.
Русофобия, цивилизационное сознание, ядро, лимитроф, периферия, «островная» концепция, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/149147949
IDR: 149147949 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.7
Текст научной статьи Русофобская составляющая цивилизационного сознания Чехии и Польши: историософское рассмотрение
Не исключено, что современный мир приближается к своеобразной точке бифуркации. Метафора перепутья напрашивается в связи с наглядным тупиком цивилизационного развития, образцом которого без малого пару столетий служили страны западного мира. Если в сфере экономики, технологий Европа все еще остается признанным лидером, то в плане культуры ее позиции оспариваются не только извне, но и внутри западного дискурса (Больц, 2019; Gat, 2007). Россия при всех условностях все же может быть отнесена к числу обществ, стремящихся к сохранению традиционного культурного ядра, чем в некоторой степени обусловлен ее нарастающий конфликт с западным миром, наиболее острым проявлением которого на данный момент служит локальная война с Украиной. Между тем немаловажным аспектом противостояния выступает информационная составляющая, в связи с которой приходит на ум феномен русофобии, в нынешней ситуации получающий повод для очередной актуализации и использования как одного из средств мировой дискредитации России.
Стоит признать дискуссионность проблемы русофобии. Так, либерально ориентированный автор Д. Травин стремится опровергнуть ее внешнее бытие, полагая, что русофобия выдумана исключительно в самой России, к чему приложили руку консервативные мыслители вроде Ф. Тютчева, Ф. Достоевского (Травин, 2015: 13). Историк Н. Соколов не отрицает русофобию Запада, но считает ее производной реакцией на временами агрессивные политические шаги Рос-сии1. Нельзя не согласиться с тем, что факт русофобии может использоваться внутренней пропагандой, а определенные внешнеполитические действия России могут вызвать к ней отношения негатива. И все же ключевой источник русофобии заключается в другом, и рассмотрению этого посвящены основательные работы не только отечественных исследователей (Н. Таньшин (2023), О. Неменский (2013), А. Ильин (2020)), но и зарубежных (Г. Меттан2).
Закономерно, что русофобия в качестве теоретического явления заставила обратить на себя более пристальное внимание в постсоветские десятилетия – если в годы холодной войны неприятие русских в образе СССР было обусловлено глобальным противостоянием двух систем, то после рыночных реформ, капиталистического поворота, прозападного крена российского истеблишмента сохранение русофобии как явления уже заставляет судить о ней как о некоей константе западного коллективного сознания. В данной работе мы намерены обратить внимание на общественное сознание восточноевропейцев – поляков и чехов, которые, как и большинство русских, относятся к славянскому суперэтносу, а также не столь уж давно составляли вместе с СССР единый лагерь социалистических стран. При их явно ориентированной на Запад цивилизационной идентичности, эти народы вряд ли возможно назвать его полноправными субъектами, исходя из как территориальных, так и культурных факторов. Уточнение русофобской специфики этих народов поможет нам лучше понять источники и факторы влияния на духовный сегмент межцивилизационных территорий, чтобы по возможности адекватно реагировать на те или иные его проявления. Цель настоящей работы заключается в выявлении источников негативного отношения к России в среде чехов и поляков – народов, относимых к периферии западного мира, а также тенденций развития русофобских настроений. В качестве задач здесь мы предлагаем: во-первых, рассмотрение феномена цивилизационного сознания как отражения деления мира на соответствующие ареалы; во-вторых, содержательный анализ русофобских текстов чешских, польских исследователей, выявление их идеологического смысла с учетом исторического контекста отношений названных народов с Россией.
Категория цивилизационного сознания есть продукт осмысления цивилизационного феномена как такового. В данном случае нам представляется адекватным «островной» подход отечественных ученых В. Цымбурского (Цымбурский, 1997), С. Хатунцева (Хатунцев, 2015), в некотором роде развивающий традиции западных мыслителей – например, С. Хантингтона (2003), выгодно отличаясь от них повышенным вниманием именно к переходным межцивилизационным территориям. Авторы «островного» подхода полагают, что цивилизация образуется посредством утверждения определенным ядровым народом или группой народов собственной культурной и политической гегемонии «над другими областями и этносами, низводимыми до ранга зависимой периферии» (Цымбурский, 1997). Одновременно отмечается важность духовной составляющей – в процессе формирования цивилизации участвует определенная религия или идеология, соотносящая «культуру, геополитику и эволюционирующую социальную практику с трансцендентной высшей реальностью» (Цымбурский, 1997). Причем цивилизационному сознанию обычно присуща некая амбициозность, что проявляется наличием в ней мессианской составляющей, особенно характерной для западной цивилизации. Модель «острова» предполагает осмысление конкретного цивилизационного пространства в качестве устойчивого ядра (острова), обрамляемого периферийными территориями – проливами или, по-другому, лимитрофами. На промежуточных (лимитрофных) территориях цивилизационная неустойчивость может проявляться социокультурными, а порой и политическими противоречиями (например, западная и восточная часть Украины). Не в последнюю очередь подобная неустойчивость есть следствие борьбы цивилизаций за влияние на лимитрофы. В этой связи к месту предложенные С. Хантингтоном концепты «разорванная страна», «расколотая страна» (Хантингтон, 2003: 206–209).
Что касается цивилизационного сознания, то в нем целесообразно видеть один из вариантов социального сознания (наряду с этническим, национальным, классовым сознаниями), понимание которого требует комплексного подхода, сочетающего объективистский и субъективистский анализ. Цивилизационное, этническое, национальное и другие виды сознания предполагают определенное самоосознание или – идентичность.
-
А. Дугин полагает, что цивилизационное сознание есть перенос «обычного племенного этноцентризма на более высокий уровень обобщения» (Дугин, 2009: 178–179). При некоторой упрощенности подобной трактовки здесь, на наш взгляд, верно указывается некое родство цивилизационного и этнического сознания.
Близкий подход предлагают И. Ионов и В. Хачатурян, характеризуя цивилизационное сознание в качестве суперэтнического. Основа подобного сознания – «чувство общности исторических традиций, коллективной судьбы, настоящего и будущего группы народов, имеющих близкие культурные ценности и идеалы и выдвигающих общие проекты жизнеустройства глобального значения» (Ионов, Хачатурян, 2002: 5).
Цивилизационное сознание продуцируется во многом схожим образом с этническим и национальным, предполагая как источник «крови и почвы», так и целевое конструктивистское воздействие. Прежде всего сущностная составляющая цивилизационного сознания определяется почвенническим фундаментом, который составляют этнические архетипы, культурная традиция, историческая память и пр., образованные в результате совокупного воздействия природных, демографических, исторических факторов, притом что по ходу «почва» может подвергаться некоторым модификациям. В условиях современного глобального информационного общества возрастает значение фактора конструктивизма, возможности которого технологически разнообразятся и усиливаются. Таким образом, базируясь на определенного рода коллективной ментальности, цивилизационное сознание вместе с тем подвержено динамике, что связано, с одной стороны, с общим социальным развитием, а с другой – с деятельностью интеллектуального истеблишмента.
Здесь нет смысла подробно останавливаться на феноменах архетипов и мифов, безусловно значимых для духовных коллективных форм, но целесообразно обратить внимание на бинарные оппозиции типа «мы – они», играющие во многом фундаментальную роль в этническом, национальном, цивилизационном осознании. Искусственное разграничение «Я» и «Другого» выступает постоянным механизмом конструирования идентичности, на что делают упор культурные и политические антропологи (например, И. Нойман). Тем самым проводятся своего рода социальные границы, являющиеся одним из необходимых априорных составляющих коллективной интеграции (Нойман, 2004: 68). В то же время более мощный стимул для установления границ самовосприятия приходится от Другого-Врага, чем от положительно воспринимаемого Другого. «Это та реальность, – пишет психоаналитик и культуролог Ю. Кристева, – перед лицом которой человек не стремится к познанию, не овладевает смыслом, а вынужден лишь решительно отказываться, идентифицировать себя как “не-это”» (Кристева, 2003: 37–38). Со всей наглядностью отрицательный Другой работает для формирования цивилизационного сознания Запада. Отталкиваясь от отрицательных черт, воплощенных сначала в образе турка, а позже в образе русского, представители западного общества строили собственный позитивный «автообраз» (Большакова, 2015: 355).
По мысли И. Ионова, негатив выступает основной предпосылкой самоидентификации, локализуя наши ценности и вместе с тем заставляя формулировать их предельно четко – так, чтобы «отвратительное ни в каком случае не могло бы в них угнездиться» (Ионов, 2007: 84–85). В результате образуется не адекватный, а отлакированный утопический образ. Оборотной стороной проявления подобного идеала выступает формирование образов «дикаря» или «варвара» (Ионов, 2007: 86). Оппозиция «цивилизованный мир – варварство» играет ключевую роль в динамике цивилизационного сознания.
Историк В. Буданова рассматривает варварский феномен как архетип, вневременную форму, своеобразное «“зазеркалье”» цивилизации» (Буданова, 2012: 29). По ее мнению, негативное наполнение образа варвара происходит по ходу развития конкретного общества, которое, набирая все большую внешнеполитическую и культурную субъектность, резче позиционирует свои отличия от окружающих миров, зачастую вступая с ними в противоборство (Буданова, 2012: 18, 19).
Западное цивилизационное сознание формировалось с античных времен под жестким воздействием бинаризма, чему содействовали, с одной стороны, внешние обстоятельства (варварский мир), с другой – внутренняя склонность к экспансии. В Средние века цивилизационная оппозиция «Запад – Восток» уже прочно существовала на основе конфессиональных различий. Как считает И. Валлерстайн, решающей явилась эпоха Великих географических открытий, послужив базовой предпосылкой осознания Западом собственного превосходства в форме расизма, которое лишь усилилось эпохой колониализма и империализма (Валлерстайн, 2001).
Утверждение собственно западной цивилизации произошло примерно одновременно с российской – XVI в., при этом ключевыми событиями явилось утверждение Московского царства, объявившего себя «Третьим Римом», предоставив политическую базу православию. Как писал В. Цымбурский, «как бы далеко ни зашло культурно-стилевое сближение России с Евро-Атлантикой… Россия представляет собой скопление примет, противостоящих формальным показателям ядра Запада. Сосуществованием и контрастом этих комплексов обусловливается и особый характер признаковой дифференциации восточноевропейского интервала: любой признак, отдаляющий живущие здесь народы от России, можно политически использовать для сближения с Западом, и наоборот» (Цымбурский, 1997). В акцентированном виде сущность цивилизационного сознания углядывается в пространствах ядра. Применительно к Западу, это Франция, западногерманские земли, англосаксонские страны и, с некоторыми оговорками, южноевропейские страны (Испания, Италия). Устойчивость цивилизационных установок заключается в активном сопротивлении «любым попыткам грубого внешнего вмешательства. Сломать его “через колено” невозможно. Чем сильнее давление, тем мощнее отдача» (Галкин, 2012: 47).
Куда более неустойчиво, противоречиво и текуче цивилизационное сознание в странах-лимитрофах, где оно зачастую напоминает «лоскутное одеяло». Применительно к Восточной Европе здесь наблюдается активное стремление доказать собственную западную идентичность, несмотря на порой значительные расхождения с ней, что показала в своей монографии эксперт по Восточной Европе Н. Коровицына (Коровицына, 2003).
В 1990-е гг. после краха СССР и развала европейской социалистической системы В. Цым-бурский обратил внимание, что в межцивилизационных пространствах сплошь и рядом возникают «искусственные “подвижки к Европе” через подчеркивание неких квазиевропейских качеств… Практически все здешние народы, а особенно их элиты, склонны относить себя к “настоящей” Европе, своего же восточного соседа каждый держит за азиата» (Цымбурский, 1997). Таким образом, в рамках данного региона этнонациональные субъекты фактически конкурируют между собой за идентификацию с передовой западной цивилизацией, выискивая «варварские» азиатские черты у своих соседей. Но роль образцового носителя «азиатчины», причем потенциально угрожающего всем остальным, возлагается именно на Россию.
Закономерно, что текучее коллективное сознание переходных территорий (лимитрофов) является объектом более активного манипуляционного воздействия со стороны стран – лидеров западной цивилизации, чтобы создать пояс недружественных стран вокруг России, получив преимущество в цивилизационной конкуренции. В качестве ключевых задач, тесно связанных друг с другом, с одной стороны, выступает усиление лояльности западному миру, с другой – стимулирование русофобской составляющей. Производителями и трансляторами подобного рода установок являются представители интеллектуального истеблишмента.
На момент утверждения западной цивилизации (XVI в.) в ее контурах отчетливо наметилось ядро, где происходило бурное экономическое развитие, а также периферия, нацеленная прежде всего на аграрный сектор. Земли Речи Посполитой поначалу взяли на себя роль поставщика сельскохозяйственной продукции в растущие западноевропейские города (Нефедов, 2010). Позже эта функция перешла к Российской империи. Данная схема не потеряла своего значения и в последующие эпохи, если не считать второй половины XX столетия, когда Восточная и отчасти Центральная Европа плотно находилась в сфере влияния СССР. Советский период целесообразно рассматривать как наивысшую точку развития отечественной цивилизации, что имело неоднозначные результаты и последствия.
А. Ильин рассматривает русофобию в Чехии как результат зависимости восточноевропейских стран от США и глобализма в целом. В этой логике им трактуются ложные заявления чешских лидеров о том, что Россия представляет опасность, поскольку «распространяет дезинформацию и применяет различные гибридные угрозы» (Ильин, 2020: 131). Русофобская тема – неотъемлемая составляющая в чешской медиаполитике, имеющая комплексный характер. Речь идет о постоянной вербальной трансляции ценностных установок и активном использовании символики. Так, регулярно напоминается про ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г., который подается как захват территории. Причем в августе 2018 г. чешский парламент официально постановил считать это событие именно оккупацией.
С другой стороны, в рамках русофобской логики активно используется национальная символика России, соответствующим образом модифицированная. Это многочисленные плакаты с изображением, олимпийского мишки с автоматом Калашникова, матрешки с агрессивным оскалом или ушедшей в историю аббревиатурой «КГБ». В Праге имеются музеи коммунизма, где представлены «кошмары» социалистического прошлого, преподносимые как «пропитанное доносительством удушение любых свобод и отсутствие общечеловеческих ценностей». В 2002 г. в пражском парке возведен монумент памяти жертв коммунизма – скульптурная группа, которая по своей жуткости может посоревноваться с художествами из фильмов ужасов. Как отмечает А. Ильин, «плакатов и напоминаний о “Пражской весне” в Праге намного больше, чем напоминаний о Пражском восстании 1945 г. О жертвах немецкой оккупации скромно говорят редко встречающиеся мемориальные доски, а вот совето- и русофобские художества встречаются практически повсюду» (Ильин, 2020: 135).
Для анализа данной составляющей мы обратились к текстам известного чешского писателя и публициста М. Кундеры1. Такого рода ценностная установка четко просматривается как в его художественных произведениях, так и в политической публицистике. Ключевым фактором, определяющим мировоззрение М. Кундеры выступает его однозначно европейское самоопределение, которому он ощущает угрозу со стороны иной цивилизационной сущности. По мысли И. Бродского, прожив довольно долго в Восточной Европе (для некоторых – в Западной Азии), М. Кундера «стремится быть европейцем более, чем сами европейцы» (Бродский, 1986).
Чешский автор исходит не из географической, а из духовной сущности понятия «Европа» («Запад»), что придает его рассуждениям культурно-цивилизационный смысл. Он признает в качестве центрального события, разделившего Европу на две части, появление католицизма и православия с достаточно гибкими границами. В процессы смещения последних нередко вмешивался политический, а то и геополитический фактор, отражающиеся на судьбах малых центральноевропейских народов, стимулируя их на частые в XIX в. метания между усиливающейся Германией и Российской империей (Вульф, 1994: 8–9). Но после 1945 г. граница сдвинулась на Запад. Польша, Венгрия, Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР), близкие в культурном отношении к Западу, оказались притянуты политически к Востоку – «на восточной границе Запада, больше чем где бы то ни было на Земле, Россия воспринимается не как европейская держава, а как обособленная иная цивилизация»2.
М. Кундера настаивает на том, что России присуща недоцивилизованность. Хотя имелось взаимное тяготение между ней и Западом, особенно – в XIX в.: «Никто не избежал влияния великих русских романов, ставших неотъемлемой частью общего культурного наследия Европы, все же коммунизм пробудил в России старые антизападные настроения и обратил их против Ев-ропы» 3 . В итоге тоталитаристская русская цивилизация выступает полной противоположностью Западу. В то же время критику коммунизма М. Кундера распространяет на русских в целом, предпочитая использовать термин «русский», а не «советский». Хотя коммунизм стремится к унификации и централизации, отрицая русскую историю, но одновременно он «помогает реализовать стремление к централизации и империалистические мечтания», всегда России присущие. В XIX в. подобная функция возлагалась на «идеологию славянского мира» – панславянизм, которым русские пользовались для обоснования собственных империалистических амбиций. Русофильство называется писателем «неразумным, невежественным»4.
В текстах М. Кундеры часто встречаются упоминания о преступлениях Русской империи, совершающихся под прикрытием тени молчания. «Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар…»5. Поляки на протяжении 200 лет подвергаются русификации – «с невероятным упорством и такой же непреклонностью их вынуждают согласиться стать русскими»6. Русский язык душит языки и других народов Советской империи – происходит медленная гибель и стирание с лица Земли почти сорокамиллионного украинского народа. Причина этого видится М. Кундере в том, что «глубоко ненациональной, антинациональной и наднациональной» коммунистической бюрократии нужен единый язык в качестве средства государственного объединения7.
Но стремления России идут вразрез с идеей разнообразия, присущей Центральной Европе, живущей семьей малых народов, существование которых зачастую ставилось под угрозу. Именно подобные условия выработали в чехах, поляках, венграх свободный от иллюзий взгляд на историю, который является источником «их мудрости и “духа несерьезности”, насмехающегося над величием и славой»1. Смысл сопротивления Центральной Европы коммунистической экспансии как раз и заключается в стремлении сохранения собственной цивилизационной сущности. Именно она является мишенью для коммунистических атак. Когда русские оккупировали Чехословакию, они сделали все, чтобы уничтожить чешскую культуру, дабы облегчить ее поглощение русской цивилизацией. Собственно, насаждаемый русскими коммунистами порядок глубоко чужд населению стран Восточной и Центральной Европы, и без поддержки силой такой режим «не продержался бы и трех часов»2. Факт советской оккупации, подаваемой как форма политики русской экспансии, неоднократно упоминается на страницах романов, повестей М. Кундеры и фактически является центральной темой его политического эссе «Трагедия Центральной Европы».
Очевидно для М. Кундеры Россия выступает в роли конституирующего Другого, на основании которого он строит собственное представление и формирует убеждение в принадлежности к европейской идентичности. Российский образ предельно негативен, что помогает структурированию позитивного «автообраза» (Большакова, 2016: 355), естественно отвергающего все исходящее из России отрицательное. И подобное видение есть результат не только лимитрофной идентичности, но и личных обид – М. Кундера действительно пострадал от советизации Чехословакии, так как его лишали права преподавания, возможности публикации.
Между тем известный эмигрант поэт И. Бродский обоснованно упрекает М. Кундеру в двойных стандартах – «танки и войска прибывают в отечество Милана Кундеры с Востока с утомительной регулярностью». В то же время чехи, «надо полагать, к 1968 году еще не успели позабыть случившееся на 30 лет раньше, когда вторжение произошло с Запада» (Бродский, 1986).
Установленный вследствие Мюнхенского соглашения западных держав гитлеровский «Новый порядок» имеет смысл сравнить с так называемой советской оккупацией («Пражской весной») по объективным параметрам.
Так, «Пражская весна» в ЧССР продолжалась около трех недель – с 21 августа по 11 сентября 1968 г., тогда как гитлеровский режим – без малого шесть лет (с марта 1939 г. по май 1945 г.). В ходе операции «Дунай» (вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию) погибло 108 чехов, причем 5 совершили самоубийство, а среди сил вторжения потери оказались, по сути, такие же – 96 советских, 10 польских, 1 венгерский и 1 болгарский солдат (Кривошеев, 2001: 533) А вот в годы «нового порядка» только в отместку за убийство Гейдриха (июнь 1942 г.) было сразу казнено 1 988 человек, а затем показательно выбраны три населенных пункта – Лидице, Лежаки и Евичко, жителей которых частично расстреляли, а частично отправили в концлагеря (Шамбаров, 2014: 380). Кроме того, в отношении населения чешских земель проводились регулярные трудовые мобилизации – часть граждан (около 300 тыс.) отправлена в Германию, продолжительность трудового дня увеличена до 10–12 часов; на крестьян были возложены обязанности поставок в Германию сельхозпро-дукции3. Ничего подобного не имелось в эпоху социализма, навязанного СССР.
Однако в упомянутых текстах М. Кундеры почти не находится места критике гитлеровского «нового порядка». Это вполне вписывается в констатируемый историками факт достаточно слабого протестного движения чехов в годы нацизма. Так, после упомянутого убийства Гейдриха и ответных немецких расправ по стране прошла «манифестация верности». На траурном митинге в Праге собралось 65 тысяч человек, а 3 июля 1942 г. на Вацлавской площади в Праге 200 тысяч чехов принесли коллективную «присягу Германии» (Шамбаров, 2014: 380–381). Отсюда следует предположить, что для М. Кундеры (как и для большинства чехов) Германия и Чехия принадлежат к одному цивилизационному миру, тогда как Россия представляет иную парадигму. Видимо, здесь кроется объяснение очевидных «двойных стандартов» – М. Кундера демонизирует политику Советской России и почти не упоминает куда более длительную и значительную по последствиям немецкую оккупацию.
Теоретическим выкладкам М. Кундеры присуща тенденциозность и натяжка исторических фактов не только в отношении России, но и применительно к «находящимся под русской угрозой» странам Центральной Европы. Так, в тезисе об «умирающем 40-миллионном украинском народе» ощущается влияние диссидента-националиста В. Стуса, жестко критиковавшего растворение украинской идентичности в советской. Между тем как раз национальная политика СССР давала широкий простор для культурного самовыражения союзных республик, что стратегически сработало на подрыв советского порядка (Вдовин, 2019). Утверждение о 200-летней политике русификации поляков нуждается, как минимум, в коррекции. Комплексно она проявилась лишь после двух национальных восстаний (1831 и 1863 гг.). Между тем со стороны самих поляков в период их государственности принимались аналогичные и даже более жесткие меры в отношении православных белорусов и украинцев (Куняев, 2012: 49).
Не менее натянуто выглядит утверждение М. Кундеры о единстве «малых народов Центральной Европы», что подается чешским публицистом в качестве реакции на русское давление и экспансию, а также приписывание этим народам насмешки «над величием и славой». Во-первых, последнее не присуще полякам, имперские амбиции которых никогда полностью не сходили на нет. Как отмечал в начале XX в. комплиментарно настроенный к Польше Н. Бердяев, «именно у поляков идея национального мессионизма достигла высочайшего подъема и напряжения» (Бердяев, 2000: 410, 412). Во-вторых, «дружественность» малых народов Центральной Европы в отношении друг друга опровергается фактами. Поляки в ходе захвата нацистской Германией Чехословакии присоединились к ее разделу, аннексировав Тешинскую область. Румыния и Венгрия имели взаимные территориальные претензии, которые в ходе Второй мировой войны доходили до высокой степени эскалации (Крестовый поход на Россию …, 2005: 6–7). Наконец, среди национальностей, воевавших против СССР во Вторую мировую войну, поляков насчитывалось более 100 тысяч, это больше, чем представителей самого ближайшего гитлеровского союзника – Италии. Как пишет С. Куняев, это уже был как бы четвертый (после 1612, 1812 и 1920 гг.) поход поляков на наши земли (Куняев, 2012: 45).
Анализ текстов М. Кундеры дает нам основание считать, что русофобские аспекты восточноевропейского мировоззрения подпитываются не столько указаниями глобальных лидеров (к чему сводит А. Ильин), сколько стремлением этих народов всячески подчеркнуть собственную европейскую идентичность, определяя для России роль конституирующего Другого через формирование ее отрицательного образа. Потому чешское национальное сознание предпочитает искусственно раздувать русофобскую трактовку «Пражской весны», не обращая внимания на то, что последняя несопоставима по масштабам, длительности и результатам с гитлеровским «новым порядком».
Русофобия поляков имеет содержательные отличия, так как с ними русские имеют куда более тесную историю взаимоотношений, чем с чехами. Уже в первой половине XIX в. немец Г. Гейне назвал поляков «живой пропагандой ненависти к русским»1 (Душенко, 2022: 30). Лидер русской религиозной философии Н. Бердяев называет отношения русских и поляков «старой ссорой в славянской семье», видя здесь прежде всего конфликт «двух славянских душ, родственных по крови и языку, по общеславянским расовым свойствам и столь различных, почти противоположных (Бердяев, 2000: 409).
Принятие различных версий христианства определило совершенно различные уклады национального сознания. Если католическая польская душа вытягивается вверх, склоняясь к жертвенному мессианизму, то православная русская – наоборот, распластывается перед Богом и жаждет смирения (Бердяев, 2000: 412–413).
Исторические перипетии определили соперничество этих народов прежде всего на цивилизационной почве – каждый стремился навязать другому собственное отношение к миру, что обоюдно отторгалось. Польша стремилась в русские земли с уверенностью в собственном культурном превосходстве. Но полонизация и латинизация русского народа означала бы гибель его «духовной самобытности, его национального лика». Тем не менее политическое противостояние окончилось победой русских, упразднением польской государственности и разделом исконно польских земель, значительная часть которых вошла в состав Российской империи. По мысли Н. Бердяева, пришло время России «искупить свою историческую вину перед Польшей» (Бердяев, 2000: 410). Политическое освобождение поляков сделает возможным настоящее общение между этими народами, создаст почву для сближения и понимания, и шанс заключается в активации черт общеславянских, изобличающих принадлежность к единой расе (Бердяев, 2000: 413–414).
Нельзя не отметить, что оптимизм известного отечественного философа в отношении возможности примирения польского и русского народов историческая практика скорее отвергла, чем подтвердила. С. Куняев приводи слова современного достаточно беспристрастного польского публициста В. Завадского, который вынужден констатировать: «Не видно сил, которые искренне желали бы дружбы с восточными соседями» (Куняев, 2012: 13). С другой стороны, в рассуждениях Н. Бердяева ощущается некая историческая вина русского человека перед Польшей, что присуще многим представителям отечественной культурной элиты, в том числе советской (поэты Б. Слуцкий, Д. Самойлов, ранний С. Куняев и др.).
Польская версия русофобии, как следует предположить, основывается во многом на цивилизационных и культурных противоречиях, которые были обусловлены пребыванием в различной системе культурных и политических координат поляков и русских. Кроме того, неприязнь первых подпитывается фактором национальной исторической памяти, в которой важные позиции занимает коллективное чувство обиды на Россию. Краткий исторический экскурс позволяет вычленить дополнительные обстоятельства, способствующие его закреплению.
Уже с начала XI в. архиепископ Гнезно (первая польская столица) был уполномочен папским престолом служить распространителем католической веры на Восток. В Ливонскую войну Литва и Польша должны были служить чем-то вроде крепостного вала, который остановит проникновение в Центральную Европу татар и московитов (Нойман, 2004: 110). Период так называемого Золотого века Речи Посполитой (1569 – середина XVII вв.) характеризуется определенным политическим превосходством поляков – часть исконно русских земель (Смоленск и др.) долгое время находилась в составе Польши, которая чуть было не лишила политической независимости Московское царство (Смутное время). Кроме того, в московском политическом истеблишменте было заметно полоно-фильство, по сути, – вариант западничества применительно к XVII в. Выразителями пропольской ориентации были такие видные политические фигуры, как А. Ордин-Нащокин, князь В. Голицын и др. Наличие подобных фигур опосредованно убеждало поляков в их более прогрессивном развитии.
Потеря Польшей политической независимости приходится на период возрастающей популярности проекта Просвещения, который выступал идеологическим подкреплением и стимулом национально-освободительной борьбы поляков. В течение столетия с небольшим существования Польши и России в рамках единого политического пространства со всей наглядностью выступили противоречия этих двух народов, до того существовавших в различных политических и социокультурных координатах. Хотя, как подчеркивает русско-немецкий исследователь Л. Люкс, кажется почти парадоксом то, что из всех держав, принимавших участие в разделе Польши, именно в автократической царской империи усилия склонить к лояльности польскую элиту предпринимались особенно широко (Люкс, 1993). Но инициативы полонофила Александра I, стремящегося создать полякам наиболее приближенные к Западу условия, оказались, по сути, выхолощены российской практикой. Дарованная в 1815 г. Конституция Царства Польского была чуть ли не самой либеральной в Европе, но, как пишет историк М. Любавский, «ее существование было шатко и необеспеченно. Дело в том, что с этою конституцию пришлось иметь дело абсолютному монарху могущественной империи, с которой царство связано было постоянными узами» (Лю-бавский, 2018: 410–411). Польской элите, отнюдь не забывшей вольности аристократической (шляхетской) демократии, претил авторитаризм и командный стиль российских чиновников. Антагонизмы дали о себе знать практически сразу, притом что стороны придерживались различной логики. Польская сторона требовала гарантий исполнения Конституции, положения и права которой зачастую или нарушались, или оставались «на бумаге». Российская же сторона использовала аргумент – будьте благодарны и за то, что имеете. Александр I на сейме 1818 г. предложил доказать на деле «пользу законно-свободных постановлений» (Любавский, 2018: 412).
Политика умиротворения со стороны российских императоров в целом потерпела неудачу. «Русофобское общественное мнение в Польском королевстве парализующе влияло на любые попытки нормализовать отношения между Петербургом и Варшавой» (Русский вопрос и линия русофобии в истории политики и политической мысли Европы XIX века …, 2013: 39). Не принесла необходимых плодов и политика институционального сближения, присущая пророссийски настроенному маркизу А. Велёпольскому (Любавский, 2018: 443–445). Кроме того, безуспешной оказалась попытка теоретического обоснования возможности союза поляков и русских через концепцию панславянизма, которая, по сути, так и не превратилась в полновесную идеологию. Провал подобных начинаний четко иллюстрируют два польских национальных восстания 1830– 1831 гг. и 1863 г. Русское общественное мнение, и прежде всего его консервативный сегмент, видело основную причину русско-польских противоречий в разложившейся шляхте, деятельность которой и привела Речь Посполитую к разделу. По мысли М. Погодина, шляхта и народ в Польше составляют два различных общества (Погодин, 1876: 330).
После подавления восстания 1863 г. царское правительство фактически отказалось от «пряника» в польском вопросе: были свернуты все либеральные послабления – сначала Конституция, а затем сменившей ее Органический статут. Вышел из употребления политико-правовой термин «Царство Польское», который был заменен на более скромный «Привислянский край»; население польских земель теперь подвергалось русификации, а польский язык неуклонно вытеснялся в частную сферу; наконец, статус католичества и униатства стал понижаться, тогда как православие выдвигали на приоритетные позиции. Все это никак не могло работать на сближение поляков и русских и не только на уровне дворянства. Как отмечает М. Любавский, даже попытка российской администрации расколоть шляхту и польское крестьянство, освободив последнее от влияния первой, не удалась. На деле получилось обратное – «сближение поместного дворянства с крестьянством, воздействие шляхты на образование национального мировоззрения крестьянства. Этому содействовали много репрессивные меры против католического духовенства, болезненно задевавшее религиозное сознание польского населения» (Любавский, 2018: 454).
Крах попыток посеять устойчивое взаимопонимание русских с поляками следует рассматривать как результат обоюдных причин. Поляки со своей стороны (под влиянием радикальных элементов) отвергли те немалые преимущества, предоставленные им российской властью, которые, с одной стороны, не распространялись на другие российские регионы, а с другой – не характеризовали внутреннюю политику Австрии и Пруссии в отношении польского элемента. Российская же сторона, при всех своих политико-правовых уступках, никак не могла избежать навязывания норм социокультурных отношений, сложившихся в России, но в общем-то чуждых полякам. В итоге последние после двух разгромленных восстаний только ждали подходящего момента, который настал в ходе кризиса российской государственности и последовавшего после Февральской революции 1917 г. имперского распада.
Попытка большевистского руководства распространить свой проект на Польшу потерпела грандиозный провал («чудо на Висле»). Как отмечает видный польский интеллектуал Ч. Милош, война вновь воссозданной независимой Польши с Советской Россией в 1920 г. «стала народной, получив поддержку польских рабочих и крестьян» (Милош, 2001). Тем не менее после Второй мировой войны социалистическая Польша выступала в качестве сателлита СССР. Все же в ходе кризиса 1980–1981 гг. и усиления свободного профсоюза «Солидарность» советское руководство не решилось на чехословацкий сценарий 1968 г., учитывая старые польские традиции антирусского сопротивления (Кагарлицкий, 2009: 505).
Объективная реальность, постоянно актуализирующая противоречия поляков и русских, не могла не отражаться на теоретических построениях представителей польской элиты. О. Немен-ский подчеркивает почвеннический смысл польской русофобии, которая нередко выступает в качестве системообразующего элемента – как, например, в «Парижских лекциях» А. Мицкевича (Неменский, 2013). Стереотипизация образа России, её азиатский статус глубоко закрепились в польском сознании, проявляя устойчивость. Как признает Ю. Бахуж, образ человечного русского в реалистической польской литературе второй половины XIX в. – редкое явление (Бахуж, 2008: 23). Но положение мало поменялось и в следующем столетии. По словам политика и историка Я. Кухажевского, русские – есть «вымуштрованные татары.... Глядя на этих дрессированных медведей, начинаешь предпочитать натуральных диких» (Kucharzewski, 1990).
В текстах историка-любителя Ф. Духиньского к России, по выражению Н. Таньшиной, применялся «концепт варварства, окрашенный в тона расового превосходства» (Таньшина, 2023). Ф. Ду-хиньский убежден не только в цивилизационном, но и расовом различии поляков и русских. Он констатирует общность поляков с народами латинскими (романскими) (Духиньский, 2013: 487), тем самым сближая славянскую и германскую группы. К славянам относятся не только поляки, но и жители так называемой Руси (Малороссии), входившие в состав Речи Посполитой – украинцы, литвины, а также жители новгородских земель. Что касается великороссов, или москалей, то им данный автор решительно отказывает в славянстве, причисляя их к туранскому кочевому элементу. Москали лишь необоснованно присваивают себе имя русских, по сути, принадлежащих к близким к полякам по происхождению малорусам и белорусам. Как пишет Ф. Духиньский, «у славян господствует земледельческая стихия над всеми другими стихиями. У москалей же, наоборот, побеждает стихия купеческая, пастушеская» (Духиньский, 2013: 498). Последние не способны к «развитию индивидуальности ни в отдельном человеке, ни в провинциях», а потому подчинив своему влиянию поляков и малороссов, «вынуждено становятся для них тираном» (Духиньский, 2013: 503).
Расовые попытки Ф. Духиньского дистанцирования поляков и русских уместно сравнить с аналогичными попытками разведения германцев и славян, весьма заметных в романо-германской интеллектуальной традиции. Последняя естественно отстаивала тезис о расовой неполноценности славян в сопоставлении с германцами. Тем самым использовалась методологическая схема «свой – чужой», переходящая в модель более оценочного акцента «цивилизованный – варвар». На подобном подходе выстраивалась логика основанного на сербофобии хорватского национализма, где доказывалось германское (готское) происхождение хорватов, что возвышало их над славянами-сербами (Беляков, 2009: 145–148). Возможно, больший сдвиг на восток обусловил попытки польских идеологов сближать славян и германцев, одновременно относя русских к азиатам. Русские объявлялись «грязнокровками», то есть потомками от скрещивания финно-угров, монголов, тюркских народов и славян, а такой этногенетический синтез по расистским понятиям оценивался «как гораздо худшее состояние, чем принадлежность к самым низшим расам» (Неменский, 2013).
Несколько более рационализированными представляются теоретические построения Ю. Пилсудского, по сути, главной фигуры постреволюционной независимой Польши, в молодости – поклонника марксизма. Именно марксистская методология сочетается с идеей цивилизационного превосходства поляков перед русскими в статье «Россия», написанной Ю. Пилсудским в 1895 г. (Пилсудский, 2013). Тезисы данной работы можно свести к следующему.
Россия явно отсталая страна в цивилизационном развитии. Фактор монголо-татарского ига привил русскому коллективному сознанию «этот дух рабства, эту покорность власти, это безропотное принятие ударов судьбы, чем отличается русский народ от других» (Пилсудский, 2013: 518). Важным источником выступает идеализация фигуры царя (императора). Притом что народ живет в ужасающей нищете и рабстве, он предпочитает всей душой ненавидеть непосредственных своих угнетателей: чиновников, дворян, ростовщиков, а вот царь здесь выводится за скобки, хотя он узаконивает и освещает допускаемые многочисленные злоупотребления. Именно здесь кроются причины того, что количественно доминирующие крестьянские массы России фактически составляют основную социальную базу самодержавия, не только оберегая сложившийся внутренний порядок, но и помогая реализации имперских амбиций. «Это те самые крестьяне, которые будучи солдатами, идут завоевывать и заковывать в цепи другие народы. Они и сейчас не осознают собственных интересов и со штыком и ногайкой стоят на страже этого дома рабства и варварства, который называют русским государством» (Пилсудский, 2013: 519). Естественно, что польское национальное сознание закономерно будет отвергать сакрализацию фигуры царя, поскольку внутренний порядок аристократической (шляхетской) демократии предполагал весьма ограниченную власть первого лица, который неоднократно вынужден был отступать под давлением польских магнатов.
Пролетариат, который в логике марксизма берет на себя функции революционных преобразований, может реально вырасти как класс только в условиях города. Однако города в России, в отличие от европейских, никогда не играли значительной роли. Они существуют за счет деревни, ничего ей не давая взамен, кроме гор чиновничьих бумаг (Пилсудский, 2013: 522). Не особенно пока еще многочисленный русский пролетариат в основной своей массе разделяет крестьянское мировоззрение. Дело в том, что после отмены крепостного права, многие крестьяне подались в город на заработки, чтобы собрать необходимые суммы для платежей, возложенных на них государством. «Рабочий, имеющий в собственности землю, – скорее, крестьянин, временно выступающий в роли рабочего, он больше думает о своей земле… И даже живя в городе, он… не имеет ясной позиции, ему незнакомо чувство солидарности, и в конце концов он по-прежнему верит в царя» (Пилсудский, 2013: 522–523).
В то же время, как констатирует Ю. Пилсудский, большая часть рабочего класса Российской империи (около 6 млн) – это не русские национальности – поляки, литвины, русины, которые населяют западные области, где как раз и происходит развитие промышленного капитализма. Именно представители этих народов ведут более или менее успешную классовую борьбу, солидаризируясь на почве единства политического сознания. Но чем далее на Восток, тем тяжелее судьба рабочих, которые все меньше борются за свою лучшую долю. Если забастовки случаются, то это, скорее, проявление отчаяния и мести, чем сознательное движение (Пилсудский, 2013: 521).
Инструментом внутреннего угнетения в Российской империи выступает чиновничество, которое пополняется главным образом из дворянства. Русское дворянство в отличие от европейского – плоть от плоти самодержавия. «На нем оставили отпечаток приемная и канцелярия, и никогда он не стремился ограничить власть своего монарха – хлебодателя». По мнению Ю. Пилсудского, русское дворянство – лакейский класс, всячески поддерживающий самодержавие, но на момент конца XIX в. оно все же сходит с исторической сцены.
Резюме работы Ю. Пилсудского определяется следующим тезисом: ввиду традиций рабского сознания, пронизывающего все слои огромного российского общества, в них не формируется устойчивых классов, осознающих собственные интересы. Единственным исключением выступает собственно самодержавие, угнетающее огромное российское общество. Но, по мнению этого исследователя, есть народы, которые хоть и закованы царским самодержавием в кандалы рабства, все же имеют другое прошлое без влияния традиции монгольского ига. Это народы бывшей Речи Посполитой (поляки, русины, литвины), у которых сформировалось политическое сознание. Им и предстоит стать разрушителями самодержавия. Понимая угрозу, самодержавие и проводит русификацию с целью слить передовые народы с рабской массой русских. Тем не менее именно польский рабочий класс поведет за собой массы порабощенных народов и победит, дав свободу всем угнетенным группам (Пилсудский, 2013: 527–528).
В построениях Ю. Пилсудского мифологизация русских основывается на фактическом сочетании этнического и классового подходов, чего, кстати, стремились избегать классики марксизма (лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!»). Справедливо отмечая остроту социальных проблем Российской империи, Ю. Пилсудский придает им, по сути, субъективистское основание – долготерпение народа, его вера в царя. Но при этом из-под удара (приписывания рабской психологии) выводятся не только поляки, но и вообще подданные нерусской национальности (русины, литвины). Именно они обладают революционным потенциалом и ведут классовую борьбу, следовательно, выступают двигателем прогресса. Однако на практике этнический состав оппо- зиционных царскому самодержавию революционных групп вовсе не давал основания для поддержки тезиса Ю. Пилсудского. Можно лишь признать, что польские социал-демократы в своей борьбе могли преследовать двойную цель – социальная справедливость и национальная независимость, чем в общем-то пропитан рассмотренный текст.
В отношении русофобских тенденций сознания периферийных стран западной цивилизации, а именно рассмотренных Чехии и Польши, уместно предложить следующие заключения. Ключевым моментом здесь выступает фактор субъективной самопрезентации населения этих стран в качестве части западного мира, что обусловливает мотив стремления максимально дистанцироваться от России, и ее культуры, объявляя их азиатскими. Это находит отражение в двойных стандартах, демонстрируемых некоторыми представителями чешского и польского интеллектуального истеблишмента в отношении западных стран и России. Первые почти не подвергаются осуждению за конкретные исторические деяния (гитлеровский «новый порядок» 1939– 1945 гг., подавление «Пражской весны» 1968 г.). В рамках идеологизирования в текстах чешских и польских теоретиков используются те же схемы и категории опорочивания русских, что и в западном ядре: «цивилизация – варварство», «рабство», «азиатчина», «деспотизм».
Кроме того, на польскую русофобию, спецификой которой выступает ярко выраженный эмоциональный эпатаж, мощное дополнительное влияние оказывает историческая память, вобравшая все перипетии событий русско-польских отношений, насчитывающих тысячелетнюю историю. Многочисленные войны за спорные территории, а затем и лишение поляков политической независимости на 120 лет в сочетании с некоторыми особенностями польской ментальности (уверенность в аристократическом превосходстве) сформировали устойчивую неприязнь к России как коллективной общности. При этом подобные установки имеют разную степень выраженности применительно к индивидуальным отношениям.