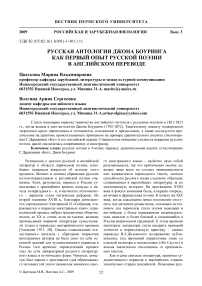Русская антология Джона Боуринга как первый опыт русской поэзии в английском переводе
Автор: Цветкова Марина Владимировна, Волгина Арина Сергеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (3), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена первому знакомству английского читателя с русскими поэтами в 1821-1823 гг., когда вышла в свет антология Джона Боуринга (1792-1872). Тщательному анализу подвергается творческое кредо переводчика и составителя, изложенное в предисловии, а также исследуется преломление на практике провозглашенных принципов на примере сравнительного анализа стихотворения Г.Державина «Бог» и его английской версии. Специальное внимание уделяется иерархии русских поэтов, какой она виделась современнику и иностранцу.
Русская поэзия в англии, перевод, сравнительный анализ, стихотворение г.державина "бог", джон боуринг
Короткий адрес: https://sciup.org/14728764
IDR: 14728764 | УДК: 82.035:82.161.1(091)-1+811.111
Текст научной статьи Русская антология Джона Боуринга как первый опыт русской поэзии в английском переводе
Г.Державина «Бог»; Джон Боуринг.
Размышляя о диалоге русской и английской литератур в области лирической поэзии, неизбежно задаешься вопросом об истоках этого процесса. Момент и мотивы обращения русских поэтов-переводчиков к английской поэзии очевидны. Хотя, разумеется, перевод в России существовал с древнейших времен, импульс к началу литературного – и, в частности, поэтического – перевода стали петровские реформы. Во второй половине XVIII в., благодаря деятельности учрежденного Екатериной II «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг», переводческий процесс набрал грандиозные обороты: вплоть до XX в. сотни, если не тысячи, великих произведений мировой литературы существовали только в переводах екатерининского времени [Алексеев 1931: 28]. Однако ознакомление отечественного читателя с образцами творчества иностранных авторов не было само по себе основной задачей для художественного перевода в России того времени: переводческий процесс стал по сути лабораторией русского литературного языка и поэтических форм. Читатель зачастую был знаком с оригиналом (для образованного человека той эпохи знание как минимум одно- го иностранного языка – свойство само собой разумеющееся), так что критическая оценка давалась чаще всего не столько эквивалентности или адекватности переводного текста, сколько способности русского языка следовать образцам, сложившимся в европейских литературах за их многовековую историю. На протяжении XVIII века в фокусе внимания была, в первую очередь, античная и французская поэзия. К началу же XIX века, когда классицизм начал постепенно отступать под натиском романтизма, основным источником для переводов стала поэзия немецкая и английская, с более выраженным индивидуальным началом и более близкой к сложившейся в России метрической традицией. К этому времени некоторые литераторы стали внедрять критерий точности в переводческую практику – однако переводы В.А.Жуковского по-прежнему публиковались под фамилией переводчика лишь со ссылкой на автора в подзаголовке («Из Саути») и весьма значительно отклонялись от оригинальных текстов.
Как и сама светская литература, практика художественного перевода в европейских странах значительно старше российской. Появление рус-
ской поэзии как таковой было замечено в Европе в середине XVIII в. По-видимому первым русским поэтом, ставшим известным зарубежному читателю, стал Антиох Кантемир. Его приверженность силлабике несомненно послужила тому, что переводы его стихов на французский язык, где эта система стихосложения до наших дней остается доминирующей, появились даже раньше, чем оригинальные собрания его стихов на родине (в 1747 г. в Лондоне выходит сборник Кантемира по-французски, и лишь в 1762 – первое русское издание сатир). Но в более полной мере интерес к молодой русской поэзии проявился в европейских литературных кругах в 20е гг. XIX века. Одним из первых пропагандистов русской литературы на Западе можно считать В.К.Кюхельбекера. В 1821 г. он прочел в Париже лекцию, в которой провозгласил наступление времени, «когда для всех народов существенно взаимное знакомство» [История всемирной литературы 1989: 291]. Вслед за этим почти одновременно появились собрания русской лирики в немецких переводах, составленные и переведенные Карлом Фридрихом фон дер Боргом и Петером Отто Гетце, а также «Русская антология» Дюпре де Сен-Мора во Франции. Первым опытом знакомства англоязычного читателя с русской поэзией стала, видимо, антология Джона Боуринга «Specimens of the Russian Poets» (1821-1823).
Джон Боуринг (John Bowring, 1792-1872) сам по себе был личностью весьма примечательной. Выходец из старинной пуританской семьи, на протяжении своей долгой жизни он был членом парламента, британским консулом в Китае и посланником в ряде европейских стран, губернатором Гонконга, теоретиком политэкономии, пропагандистом десятичной монетной системы, активным членом Королевского географического общества и издателем. За свою общественнополитическую деятельность Джон Боуринг был возведен в рыцарское достоинство в Великобритании и ряде других государств. Как самобытный литератор, он стал известен благодаря своим памфлетам и гимнам. Боуринг знаменит как один из немногих в истории гиперполиглотов: в течение жизни он изучил 200 языков, на 100 из которых говорил свободно. Свои лингвистические познания он широко применял в области художественного перевода: помимо прозаического перевода «Питера Шлемиля» Шамиссо, он создал целый ряд антологий из собственных переводов поэзии разных стран: батавской1 (1824), испанской (1824), польской (1827), сербской (1827), мадьярской (1830), чешской (1832), а также сборник чешской лирики «Рукописи двора королевы» («Manuscript of the Queen's Court», с чешского) (1843) и избранные стихотворения венгерского поэта Петёфи (1866). Антология «Specimens of the Russian Poets» 1823 г. стала первой в этом ряду.
Боуринговская антология поражает как широтой охвата русской поэзии XVIII – начала XIX вв. (в оглавлении 13 авторов: Державин, Батюшков, Ломоносов, Жуковский, Карамзин, Дмитриев, Крылов, Хемницер, Бобров, Богданович, Давыдов, Костров и Нелединский-Мелетский; и дополнительный раздел «народные песни»), так и обстоятельностью историко-литературного комментария. В духе времени книге предпосланы «предуведомление» и посвящение, в которых переводчик-составитель формулирует задачи своего издания: «Цель <антологии> – не вознести хвалу российским поэтам, но представить в ее своеобразии одну ветвь нарождающейся литературы необычайной и мощной нации; устранить до некоторой степени столь многим свойственное невежество в сфере развития словесности в северной Европе и выяснить, насколько подобные усилия по представлению английским читателям певцов иных стран будут приветствоваться» [Bowring 1822: iii] (перевод А.В.). Однако, сделав комплимент России, Боуринг в стихотворном посвящении не может скрыть несколько скептического отношения к потенциалу русской поэзии, бытующего в то время в Европе. «Цветы поэзии», расцветшие на севере, он призывает благоухать «под более благосклонными небесами нашего Альбиона» и, помещая их у алтаря английской поэзии, где висят гирлянды, свитые гениями прошлого, предупреждает:
I may not link your lowlier names with theirs – The giants of past ages: – but to bring
To our Parnassus one delightful thing,
Would gild my hopes and answer all my prayers.
(Я не смею соединить ваши более скромные имена с <именами> –
Гигантов прошлых веков: – но то, что я принесу
На наш Парнас <хотя бы> одну восхитительную вещицу,
Позолотит мои надежды и станет ответом на все мои молитвы)
[Bowring 1822: vii] (Перевод А.В.)
Во вступлении, занимающем 22 страницы, Боуринг создает широкий историко-культурный, лингвистический, фонетический и даже стиховедческий фон для восприятия русской поэзии английским читателем. (В стремлении охватить все аспекты он доходит иногда до курьеза: так, представляя Ломоносова, он не забывает сообщить, что фамилия поэта означает «сломанный нос» [Bowring 1822: xii].)
Он сразу признается, что изначальной задачей его было создание «общей истории русской литературы»: «Мне представилось весьма интересным предметом проследить развитие словесности в стране, которая, словно по мановению руки, восстала из мрака варварста и заняла положение в мире разума, отнюдь не пренебрежи-мое, даже по сравнению с таковым южных народов, но особенно поразительное в сопоставлении со всеобщим невежеством, распространенным в бескрайней империи Царей до того, как Петр Великий дал ей первый толчок к цивилизации» [Bowring 1822: xi] (Перевод А.В.). Однако затем он избрал более скромную цель: привлечь внимание английского читателя к небольшому собранию переводов, в случае успеха которого можно будет взяться и за всеобъемлющую работу.
Первый раздел предисловия – краткая итория русской поэзии от Ломоносова до Батюшкова с биографическими сведениями, ссылками на русские издания, справками о жанровых предпочтениях писателей и их оценке в отечественной критике. Этот раздел – уникальный документ эпохи, фиксирующий европейский взгляд на расстановку сил в русской литературе к 20-м гг. XIX века. «Отцом русской поэзии» назван Ломоносов: показательно, что Кантемир, не создавший метрической традиции, не упомянут вообще, несмотря на европейскую известность. Интересно свидетельство Боуринга о том, что имя Ломоносова в тот момент уже входит в европейские биографические словари. Сумароков – «соперник Ломоносова», – по мнению издателя антологии, в значительной степени отошел на второй план и был превзойден Фонвизиным. Херасков, напротив, представлен как лирический поэт первого ряда. Боуринг проявляет замечательный вкус, отдавая первое место среди всех русских поэтов своего времени Державину: «Его произведения дышат высоким и величественным духом; они полны вдохновения. Его стих звучный, оригинальный, своеобычный; предметы его обычно таковы, что дают полный простор его усердному воображению и возвышенным замыслам» [Bowring 1822: xv] (Перевод А.В.). Чтобы создать представление о державинском стиле, переводчик проводит параллель с Клопштоком, полагая, видимо, что творчество последнего хорошо известно английскому читателю. Богдановича, вероятно, с той же целью он рекомендует как «русского Анакреонта». Вместе с тем рядом с именами поэтов, хорошо известными по сей день, Боуринг упоминает и тех, что ныне известны преимущественно специалистам по литературе XVIII в., – это и понятно: сравнительная ценность литераторов современникам видится иначе, нежели потомкам. Так, в антологию попадают Семен Сергеевич Бобров и Ермил Иванович Костров, и оба они получают характеристики вполне в духе времени. Боброва переводчик хвалит за начитанность в европейской поэзии, отмечая, что «английские писатели внесли особенно значительный вклад в его честный плагиат» [Bowring 1822: xvi] (Перевод А.В.) – и здесь нет иронии, поскольку для той эпохи плагиат является не преступлением против авторского права, а своего рода творческим методом. Костров получает одобрение своим переводам: отметим, что в России на тот момент его переводы из Оссиана (сделанные с французского переложения и на современный взгляд через меру велеречивые) ценятся даже выше карамзинских. Вообще перевод как литературное занятие поэтов-современников всегда привлекает внимание Боуринга, а переведенность произведения на европейские языки служит для него своеобразным критерием качества оригинала.
Краткую историю письменности на Руси Боуринг заключает неординарным признанием: русский язык «в наше время – один из самых, если не самый богатый из всех европейских языков и содержит множество слов, которые могут быть выражены лишь сложными словами или многословными определениями на любой из северных языков» [Bowring 1822: xxiii]. (Впрочем, в примечании он не забывает упомянуть, что первая русская грамматика, тем не менее, была издана в Англии.)
Подробно откомментировав звуковые соответствия буквам кириллического алфавита, составитель русской антологии идет еще дальше: чтобы продемонстрировать английскому читателю оригинальное звучание стихотворений, он транслитерирует отдельные строфы из них латиницей, снабдив каждую пояснением о ее метрической структуре. Боуринг убежден: «Русский язык может быть применен практически к любому типу стиха. Он гибок, гармоничен, полон рифмам, богат сложными словами и обладает всеми составными частями поэзии» [Bowring 1822: xxiii] (Перевод А.В.). Подробно останавливается переводчик и на двух основных видах рифмы в русской поэзии: это необходимо, поскольку женская рифма не имеет широкого распространения в английском стихе.
Развернутый филологический инструментарий вступления дополняет раздел «Биографические и критические замечания», расположенный в конце книги. Хотя биографии удостаиваются далеко не все переведенные авторы (среди них Ломоносов, Державин, Богданович (статья о нем атрибутирована составителем как перевод из карамзинского журнала «Вестник» и на фоне остальных кажется необоснованно обстоятельной), Хемницер, Костров, Карамзин и Жуковский), биографические сведения снабжают читателя неким реально-историческим фоном для восприятия поэтических текстов.
Русская антология Джона Боуринга – интереснейшее свидетельство развития переводческой традиции в начале XIX века. Очевидно, что переводчик в творческом запале еще не может удержаться от соперничества – и даже философской полемики – с автором, однако он постепенно осознает свою ответственность как перед иноязычной поэтической традицией, требующей к себе уважения, так и перед отечественным читателем, ищущим не только приятного чтения, но и адекватного представления о чужой литературе. В заключение отметим, что сразу после выхода в свет эта антология была отрецензирована в России. В журнале «Сын Отечества» за 1823 г. А.Бестужев-Марлинский сначала упоминает Боуринга среди «образцовых переводчиков» русской поэзии, а затем выступает и с критическим разбором антологии. Таким образом, опыт Д.Боуринга стал не только источником знаний о русской поэзии для англичан (и, в частности, для лорда Байрона), но и школой поэтического перевода для его русских коллег. ————
1Батавия, с 1949 г. Джакарта, – столица Индоне-ции, во времена Боуринга голландская колония.
История всемирной литературы / под ред.
Senior Lecturer of English Department
Linguistic University of Nizhny Novgorod
The article is devoted to the first encounter of English readers with Russian poets that happened in 1821-1823 when John Bowring published his Anthology Specimens of the Russian Poets . John Bowring’s creative method and principles of translation declared in the Introduction to the Anthology are closely examined alongside with their practical application as seen in Bowring’s English version of Derzhavin’s ode God . Special consideration is given to the hierarchy of Russian poets as seen by a foreign contemporary.
Список литературы Русская антология Джона Боуринга как первый опыт русской поэзии в английском переводе
- Алексеев М.П. Проблема художественного перевода//Сб. трудов Иркутского гос. ун-та. Т.18. Иркутск, 1931.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: «Наука», 1984.
- Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.: «Наука», 1989.
- История всемирной литературы/под ред. И.А.Тертерьян. М.: «Наука», 1989. Т.6.
- Фет А.А. Два письма о значении древних языков в нашем воспитании/Литературная библиотека. 1867, Т. V.
- Bowring, John. Specimens of the Russian Poets. Boston: Hilliard and Metealf Printers, 1822.
- The Norton Anthology of English Literature. 6-th edition. V.1. N.Y., Lnd: W.W.Norton and Company, 1993.