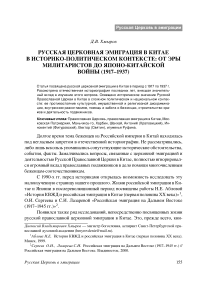Русская церковная эмиграция в Китае в историко-политическом контексте: от эры милитаристов до японо-китайской войны (1917–1937)
Автор: Хмыров Дионисий Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в эмиграции
Статья в выпуске: 1 (48), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена русской церковной эмиграции в Китае в период с 1917 по 1937 г. Рассмотрена отечественная историография последних лет, внесшая значительный вклад в изучение этого вопроса. Освещено историческое значение Русской Православной Церкви в Китае в сложном политическом и национальном контексте: ее противостояние культурной, имущественной и религиозной дискриминации, внутренним разногласиям, помощь и забота о беженцах, строительство храмов и деятельность подвижников.
Православная церковь, православная эмиграция в китае, московская патриархия, маньчжоу-го, харбин, шанхай, антоний (храповицкий), иннокентий (фигуровский), виктор (святин), игуменья руфина
Короткий адрес: https://sciup.org/140189981
IDR: 140189981
Текст научной статьи Русская церковная эмиграция в Китае в историко-политическом контексте: от эры милитаристов до японо-китайской войны (1917–1937)
Долгое время тема беженцев из Российской империи в Китай находилась под негласным запретом в отечественной историографии. Не рассматривались, либо лишь вскользь упоминались сопутствующие исторические обстоятельства, события, факты. Замалчивались вопросы, связанные с церковной эмиграцией и деятельностью Русской Православной Церкви в Китае, полностью игнорировался огромный вклад православных подвижников в дело помощи многочисленным беженцам-соотечественникам.
С 1990-х гг. перед историками открылась возможность исследовать эту малоизученную страницу нашего прошлого. Жизни российской эмиграции в Китае и Японии в послереволюционный период посвящены работы Н.Е. Абловой «История КВЖД и российская эмиграция в Китае (первая половина ХХ века)» 1 , О.И. Сергеева и С.И. Лазаревой «Российская эмиграция на Дальнем Востоке (1917–1945 гг.)» 2 .
Появился также ряд исследований, непосредственно посвященных жизни русской православной церковной эмиграции в Китае. Это, прежде всего, кни-
га священника Дионисия Поздняева «Православие в Китае (1900–1997 гг.)» 3 , а также работа В.Ф. Печерицы «Духовная культура русской эмиграции в Китае» 4 , некоторые статьи, например «Харбинская епархия в период распространения советского влияния в Китае (1923–1924 гг.)» С.Н. Бакониной 5 .
Интересный фактический материал можно почерпнуть из биографических книг и интернет-публикаций о деятелях Православной Церкви, волею судеб оказавшихся в Китае после трагических революционных событий. Назовем биографическое исследование Н.Г. Мизь «Эмигрантский путь игуменьи Руфи-ны» 6 , а также повествование о ней на сайте Екатеринбургской епархии, в разделе «Непрославленные подвижники» 7 . Важные исторические подробности приведены в статье Е.В. Ковалевой «Православная Церковь в Харбине: служение епископа Ювеналия (Килина)» 8 , где рассказывается о противостоянии епископа политике японских оккупационных властей, которые принуждали православных к поклонению японским божествам, в частности богине Аматэрасу Ооми-ками.
В статье сделана попытка на материале отечественных исследований последних 15 лет проследить судьбу русской православной эмиграции в Китае (главным образом, на примере крупнейших русских диаспор — в Пекине, Харбине и Шанхае), включить ставшие известными факты в общий исторический и политический контекст, с учетом взаимоотношений Китая с СССР и Японией в период между Первой и Второй мировыми войнами.
***
В Китае революционные события, радикально изменившие общественное устройство и жизнь людей, произошли примерно в то же время, что и в России. В 1911 г. поднялось Учанское восстание, которое стало началом Синьхай-ской революции 1911–1913 гг., в результате чего была свергнута маньчжурская династия. Империя Цин развалилась, в стране была провозглашена Китайская республика. 1916–1928 гг. известны в Китае как Эра милитаристов. Раздробленность страны и тяжелое экономическое положение, в котором находилось даже большинство местного населения, безусловно, создавали особые трудности для эмигрантов. Это сказывалось как в затрудненности связей между приходами Православной Церкви в различных районах страны, так и в недостатке ресурсов для нормальной деятельности общин.
Огромную роль для русской православной эмиграции сыграла Российская духовная миссия в Пекине. К 1917 г. она достигла наивысшего расцвета: ее капитал приближался к 1 млн рублей, она владела землями и строениями. В 20 школах миссии по всему Китаю обучалось до 3 тыс. человек. Многие изучали русский язык, потом принимали крещение. К 1916 г. численность православных китайцев достигла 5587 человек. Было учреждено 32 миссионерских стана, в которых строились храмы, назначались священники и учителя. Миссия имела под своим управлением 19 храмов, 5 подворий (Санкт-Петербург, Москва, Харбин, Маньчжурия, Далянь). Был полностью завершен труд по переводу на китайский язык богослужебных книг.
После разгрома белых армий А.В. Колчака на Дальнем Востоке и атамана А.И. Дутова в Туркестане в 1919–1920 гг. в Китай хлынул поток русских, бежавших через Дальний Восток и Среднюю Азию (некоторые источники называют цифру более 500 тыс. человек) 9 . В Китае были закрыты Посольство и Консульства Российской империи. Связь с церковным центром, Московской Патриархией, прервалась. Российская духовная миссия в Китае на основании постановления патриарха Тихона и Высшего Церковного Совета от 7 (20) ноября 1920 г. перешла во временное подчинение Зарубежному Архиерейскому Синоду. Определением Зарубежного Синода в 1922 г. была образована новая епархия — Пекинская и Китайская. Таким образом, сохранив старое название, Миссия стала первой православной епархией на территории Китая и ее административным центром. В пределах Пекинской епархии были образованы викариатства в Шанхае — во главе с епископом Симоном (Виноградовым) и в Тяньцзине (позднее в Ханькоу) — во главе с епископом Ионой (Покровским).
Главной задачей Российской духовной миссии в Китае стала забота о беженцах из России. Чтобы хоть как-то улучшить материальное положение русских беженцев, архиепископ Иннокентий (Фигуровский) отдал им в долгосрочное пользование большую часть имущества Миссии. Важную роль в деле помощи беженцам играли Русские православные братства, открытые в Шанхае и Тяньцзине. При них создавались больницы и библиотеки, гимназии и училища, убежища для женщин и детей-сирот, строились храмы. Вместе с русскими эмигрантами православие проникло в те районы Китая, где раньше было мало распространено или почти не известно. Так, например, в 1920 г. в Синьцзян вступили белогвардейские части атаманов Б.В. Анненкова и А.И. Дутова. В их составе были и священнослужители. После смерти атамана А.И. Дутова в феврале 1921 г. военная организация быстро распалась, а все церкви в Синьцзяне стали приходскими.
В 1922 г. Заграничное Высшее Церковное Управление выделило Харбинскую епархию из Владивостокской епархии, ее правящим архиереем был назначен архиепископ Мефодий (Герасимов). В ее пределах оказались бежавшие из России архиепископ Мелетий (Заборовский), архиепископ Нестор (Анисимов) и епископ Димитрий (Вознесенский). Открытие Харбинской епархии было фактически признано Всероссийской церковной властью: ее не приписывали к соседней Пекинской епархии и не назначали в Харбин нового архиерея. В силу своего особого канонического статуса Харбинская епархия претендовала на первенство на Дальнем Востоке.
«…Хотя он [Харбин] имел нерусское название, но это был типичный русский город как по своему внешнему виду, так и по своему быту, по своей культуре, — пишет в своих воспоминаниях С. Троицкая. — В каждом районе Харбина и его пригородах была церковь, причем если старое здание церкви требовало капитального ремонта или необходимо было увеличить его вместимость, то православные русские люди предпочитали построить рядом новый храм, и обычно не деревянный, а кирпичный. Так были построены новые церкви: Софийская, Благовещенская, Алексеевская (в Модягоу) и церковь во имя Святителя Николая в Затоне. ‹…› В каждой церкви был священник-настоятель, а епархией правил или епископ, или архиепископ, или митрополит. После большевистской революции в России, когда началось жестокое преследование православного духовенства, в Харбин прибыло немало представителей высшего и рядового духовенства» 10 .
Русская православная эмиграция, вынужденная покинуть Советскую Россию, и за ее пределами не могла чувствовать себя в безопасности. «С установлением советского режима на КВЖД на Православную Церковь оказывали давление не только советские органы, агенты ОГПУ, коммунистические и комсомольские организации, но и китайские красные партизаны, хунхузы, — пишет
В.Ф. Печерица. — Арестовывались и похищались священники, закрывались приходы, разграблялось имущество храмов. Одним словом, гонения, которым подвергалась церковь на Родине, продолжались и здесь, только в иных масштабах. ‹…› Были арестованы и высланы в СССР и осуждены сотни священников из Дайрена, Мукдена, Харбина и других мест Маньчжурии» 11 .
В 1929 г. советские войска на Дальнем Востоке вторглись в пределы Китая в Трехречье (на территорию автономной Внутренней Монголии в Маньчжурии), преследуя русских беженцев из Сибири и белогвардейцев. По поводу зверств большевиков в Трехречье митрополит Антоний (Храповицкий) отозвался обращением ко всем народам мира: «Душу раздирающие сведения идут с Дальнего Востока. Красные отряды вторглись в пределы Китая и со всей своей жестокостью обрушились на русских беженцев — выходцев из России, нашедших в гостеприимной китайской стране прибежище от красного зверя. Уничтожаются целые поселки русских, истребляется все мужское население, насилуются и убиваются дети, женщины. Нет пощады ни возрасту, ни полу, ни слабым, ни больным. Все русское население, безоружное, на китайской территории Трехречья умерщвляется, расстреливается с ужасающей жестокостью и с безумными пытками» 12 . Волна русских беженцев хлынула в Харбин, где все они получили кров и пищу, и лишь к 1930 г. стали возвращаться в Трехречье.
Деятельность иерархов, оказавшихся на территории Маньчжурии, в первую очередь была посвящена заботам о страждущих. Так, по инициативе епископа Димитрия (Вознесенского) были созданы «Серафимовский приют» для мальчиков-сирот и «Серафимовская столовая». На земельном участке СпасоПреображенской церкви Корпусного городка в Харбине протоиерей М. Филологов организовал «Дом-убежище митрополита Мефодия» для вдов, сирот и престарелых из духовного звания. Около 1925 г. в Модягоу был построен Скорбя-щенский храм Камчатского подворья, более известный как «Дом милосердия». Создателем храма был архиепископ Камчатский Нестор. При Доме милосердия имелись приют для девочек-сирот и престарелых женщин, иконописная мастерская. В 1930 г. в Харбине началось строительство величественного Софийского храма. С 1918-го по 1931 г. в городе было построено 12 храмов, строили церкви на железнодорожной линии 13 .
Обширной была и церковная издательская деятельность. Монастырской типографией Казанско-Богородицкой обители в Новом Модягоу издавался духовный журнал «Хлеб небесный», приложения к журналу «Детское чтение», сборники «Рождественский благовест» и «Надежда», а также «Жития святых», «Христианская жизнь по Добротолюбию», «Церковный энциклопедический словарь», «Путь православного христианина в Царство Небесное», «Краткий очерк возникновения, устроения и жизни Обители» 14 .
***
Во второй половине 1920-х гг. меняется политическая власть в Китае. Постоянные военные столкновения двух основных партий — коммунистов и сторонников Гоминьдана, их борьба за контроль над районами Китая негативно сказывались на жизни русских эмигрантов. «В феврале 1923 года Сунь Ятсен сформировал новое южное правительство, которое установило дружественные отношения с СССР. В 1924 году по инструкции из Москвы в Гоминьдан начали вступать китайские коммунисты» 15 . Эти события прямо или косвенно влияли на жизнь русской православной диаспоры. В целом в 1920–1930-х гг. священники Российской духовной миссии и Харбинской епархии столкнулись с рядом проблем.
Во-первых, русская эмиграция, раздираемая внутренними распрями, зачастую неадекватно относилась к помощи Миссии. Доходило даже до прямого расхищения монастырского имущества в Пекине. Самоотверженная помощь беженцам усугубила и без того тяжелое материальное положение Миссии. Лишенная денежных поступлений и помощи из России, доходов от своих подворий в Москве и Петрограде, обремененная долгами, она была почти полностью разорена. 31 мая 1924 г. был подписан советско-китайский договор, по которому над Миссией нависла угроза лишиться всего имущества как собственности советского государства. К счастью, этого не случилось.
Во-вторых, Миссии пришлось сменить свои приоритеты. В 1919 г. на территории Китая были закрыты все православные миссионерские станы. Собственно миссионерская деятельность, успешно развивавшаяся до 1918 г., стала почти невозможна. «Часто они и не помышляли о том, что их долг апостольского служения, если бы был исполнен, явился бы камнем, на котором утвердилось бы
Православие в Китае. ‹…› В этом плане русская эмиграция оказалась несостоятельной — полмиллиона человек, которых Господь на три десятилетия извел из России в Китай, не смогли широко познакомить Китай с Православием» 16 . В докладе Синоду в Москве 20 июля 1950 г. архиепископ Виктор (Святин) подвел такие неутешительные итоги: «Период с 1918 по 1945 год — это период упадка дела Миссии и время развития церковно-общественной чисто русской деятельности в Китае» 17 .
В-третьих, глав Духовной миссии глубоко тревожили взаимоотношения с Московской церковной властью. Так, в июне 1928 г. Харбинские архиереи получили Указ Временного Московского Священного Синода от 20 июня 1928 г., обращенный к Карловацкому Священному Синоду и митрополиту Евлогию (Георгиевскому). Речь шла о признании иерархами зарубежья власти митрополита Антония (Храповицкого) или митрополита Сергия (Страгородского). В Указе говорилось и о том, что всякий клирик, признающий Московский Синод, но не вступающий в советское гражданство, отстраняется от службы. Ни один из архиереев на территории Китая не посчитал возможным для себя принять этот Указ.
Деятельность Духовной миссии сильно осложнялась и внутренними разногласиями, которые зачастую были результатом целенаправленной разрушительной деятельности некоторых священников, так называемых обновленцев, стремившихся реформировать церковное устройство в согласии с политической волей Советского Союза. «С помощью представителей этого раскольнического движения, которое его главный инициатор Л.Д. Троцкий обозначил как “сменовеховское советское”, коммунистическая власть предполагала ликвидировать Русскую Православную Церковь как контрреволюционную силу», — пишет ис-следователь 18 .
Главам миссии приходилось противостоять и националистическим тенденциям внутри самой церкви. Краткое время правления 19-й миссией владыки Иннокентия (Фигуровского) было омрачено попыткой раскола со стороны китайского духовенства, возглавляемого старейшим священником-китайцем, сыном священномученика Митрофана Цзи (первого православного священника из китайцев), протоиереем Сергием Чан. Нанкинское правительство, рассмотрев просьбу протоиерея Сергия, утвердило его на посту начальника миссии — фор- мально он стал хозяином имущества миссии. Но фактически миссией управлял архиепископ Симон (Виноградов), который проявил большую твердость, отклонив церковные реформы.
Ввиду желания Высшего Церковного Управления осуществить в Китае демократические реформы в церкви владыка Симон поручил архимандриту Виктору (Святину) разработать Положение об управлении Российской духовной миссией в Китае как Китайской епархии Православной Церкви. Убедившись, что в Европе священноначалие не вполне ясно представляет себе особые условия существования Миссии в Китае, онв 1932 г. командировал архимандрита Виктора как своего представителя на Архиерейский Собор в Сремские Кар-ловцы (Югославия). В результате Российская Духовная Миссия в Китае была организована как епархия из пяти благочиннических округов.
24 февраля 1933 г. архиепископ Симон скончался. Начальником 20-й Миссии Зарубежный Архиерейский Синод назначил епископа Виктора (Святи-на). Он также столкнулся с неприятием со стороны китайского духовенства: протоиерей Сергий Чан обратился к митрополиту Сергию (Старгородскому) с просьбой принять его и верную ему паству под свой омофор и даже добился в этом временного успеха.
***
Большинство историков считает началом Японо-китайской войны инцидент на мосту Лугоуцяо (то есть на мосту Марко Поло) 7 июля 1937 г. Но еще задолго до этого стороны время от времени сталкивались в боях, так называемых «инцидентах». Среди них можно особо отметить Маньчжурский (Мукденский) инцидент 18 сентября 1931 г. В этот день Квантунская армия под предлогом защиты железной дороги захватила мукденский арсенал и близлежащие городки. Китайским войскам пришлось отступить, и к февралю 1932 г. вся Маньчжурия оказалась в руках японцев. 28 июля японские войска уже захватили Пекин, а 30-го — Тянцзинь.
В начале 1932 г. японские власти, установив контроль над всей территорией Маньчжурии, создали государство Маньчжоу-го. Фактически установился колониальный режим. Поначалу в осуществлении своей колониальной политики в Маньчжурии японские власти делали ставку на эмигрантское население страны. В эмигрантах оккупационные власти рассчитывали обрести своих союзников и использовать их для борьбы с СССР.
«К оккупации японцами Маньчжурии российские эмигранты отнеслись по-разному, — отмечают исследователи. — Часть из них увидела в происходя- щем начало больших событий, которые так долго ожидались там. ‹…› Большинство эмигрантской прессы реагировало на происшедшие события осторожно: не давая им политической оценки, ограничивалось лишь констатацией фактов, руководствуясь при этом принципом полного невмешательства в политическую жизнь чужой страны»19. Есть и другие свидетельства: «Вся белоэмигрантская печать Маньчжурии была полна верноподданнических статей и славословий в адрес правительств Ниппон и Маньчжоу-го»20, — пишет Н.Е. Аблова. Далее она отмечает, что Православная церковь Маньчжурии также приветствовала приход японской армии. Архиепископ Нестор в «Очерках Дальнего Востока» превозносил новое государство за заботливость по отношению к русским эмигрантам, приравненным в правах к маньчжурским подданным. Более того, служитель церкви «с упованием, с трепетом надежды» ждал начала войны Японии с СССР21 . Автор подчеркивает явное заблуждение иерарха по поводу истинных целей японцев и добавляет, что «большая часть белой эмиграции в Китае, столкнувшись с японским режимом на собственном опыте, не разделяла взглядов Семенова, архиепископа Нестора и Керенского, хотя и не занимала просоветских позиций»22.
После образования Маньчжоу-го Харбинская епархия оказалась за пределами Китайской Республики и с трудом могла совещаться по вопросам церковной жизни с начальником духовной миссии в Пекине. «Православные испытывали гонения — японская администрация требовала ото всех граждан символического поклонения богине Аматэрасу — родоначальнице императорского дома Японии, — пишет свящ. Дионисий Поздняев. — Были убиты священники Александр Жуч и Феодор Боголюбов, иеромонах Павел, некоторые священнослужители были в принудительном порядке переведены из Харбинской епархии в Пекин» 23 .
Японское командование решило сразу поставить под контроль все эмигрантские организации. 25 июля 1932 г. было создано общество Кио-Ва-Кай (Общество согласия), которое должно было ввести «систему последовательной японизации всех сторон жизни, быта, культуры и образования на оккупацион- ной территории»24. Японские власти вызвали в Харбин главу миссии владыку Виктора (Святина). Ему предложили передать священнослужителей церквей и подворий Российской духовной миссии на территории Маньчжурии в ведение Харбинской епархии, а в противном случае пригрозили объявить военным преступником. «Начальник миссии в Пекине не пользовался ни доверием, ни уважением оккупационных властей. Однако в силу того, что он имел большой авторитет среди российских эмигрантов в Пекинской епархии, оккупационные власти были вынуждены считаться с его влиянием. Вопреки его собственному желанию владыку Виктора даже назначили председателем Антикоминтерновского союза Северного Китая, что впоследствии использовалось гоминьдановскими властями как повод для ареста по обвинению в сотрудничестве с оккупантами»25.
В дальнейшем ситуация все более обострялась, и православным эмигрантам зачастую приходилось принимать нелегкое решение о прекращении своей деятельности в Харбине. Так, в 1936 г. игуменья Руфина стала думать о переводе Богородицко-Владимирской женской обители в Шанхай. «…Насто-ящее политическое положение Харбина, где находится наша обитель, — пишет она в прошении святителю Иоанну (Максимовичу), епископу Шанхайскому в 1935 г., — ставит нас в очень тяжелое в материальном отношении положение. С удалением из Харбина советских служащих КВЖД число прихожан, а следовательно, и сумма дохода монастыря резко упала. Кроме того ‹…› в силу стихийных бедствий в Японии, японцы массами выселяются на материк и волна переселенцев в Харбин становится все сильнее и гуще. Доброжелатели обители ‹…› из японцев тайно сообщали, что русское население Харбина через два года уменьшится до минимума» 26 .
Печальные события в Харбине, как это ни парадоксально, повлекли за собой подъем русской колонии в Шанхае, куда переселились многие эмигранты. В 1932 г., после Первого шанхайского сражения, вокруг города была создана демилитаризованная зона. Последствия этого для русских православных эмигрантов были значительны. По мнению ряда русских и китайских исследователей, к середине 1930-х гг. жизнь российской колонии в Шанхае начала налаживаться, многое изменилось к лучшему27. «Приток российских беженцев из Маньчжурии привел к значительной активизации экономической деятельности белоэмигрантов в Шанхае. ‹…› Тридцатые годы были периодом наибольшей стабильности и процветания в истории российской колонии в Шанхае. Процессу адаптации русских беженцев в новых условиях помогали многочисленные эмигрантские объединения и благотворительные общества, наиболее значительными из которых в это время были: Русский эмигрантский комитет, Русское общество “Помощь”, Русское православное братство…»28. Исследователь Ван Чжичэн называет 11 действовавших в указанные годы православных храмов, около 15 средних и 3 высших учебных заведения29. Однако относительная стабильность русской колонии в Шанхае продолжалась недолго. 8 ноября 1937 г. завершилось Второе Шанхайское сражение, в ходе которого японские войска сумели овладеть Шанхаем, несмотря на сильное сопротивление китайцев. Исследователи отмечают, что внутриполитические события 20–30-х гг. в Китае, военное противостояние Японии «не могли не сказаться и на деятельности Российской духовной миссии, затруднив или ослабив ее связи с особенно отдаленными районами…церковная жизнь, таким образом, шла самотеком»30.
В заключение можно отметить, что
-
— национально-политическая ситуация в Китае напрямую влияла на жизнь и деятельность Православной Церкви, причем «факторами риска» были, с одной стороны — борьба внутри страны за власть между милитаристами, националистами и коммунистами, с другой — угроза внешнего вторжения, прежде всего со стороны Японии;
-
— с образованием новых государств, их сфер влияния Православной Церкви в Китае приходилось менять образ действий, противостоять культурной, имущественной, религиозной дискриминации, что неизбежно приводило к смене приоритетов: материальные проблемы затрудняли достижение главной цели, в соответствии с которой и была названа Русская духовная миссия в Китае, — дела проповеди и распространения Православия;
-
— деятельность духовенства осложнялась внутренними расколами и разногласиями как внутри китайских епархий, так и по отношению к прежнему
духовному центру — Московской Патриархии, при том что Советский Союз в некоторые периоды не только поддерживал одну из сторон в военном политическом конфликте, но и прямо внедрял «своих людей» в церковные органы управления;
— историческое значение РПЦЗ в Китае выразилось в разнообразной помощи русским беженцам, сохранении культурных традиций, постройке многочисленных (в том числе монументальных) храмов — центров духовной жизни, издании религиозной литературы; многочисленные примеры самоотверженности и подвижничества, духовной силы и веры русских православных эмигрантов явились для Китая важным миссионерским свидетельством, — также как и для многих других стран русского рассеяния.
Список литературы Русская церковная эмиграция в Китае в историко-политическом контексте: от эры милитаристов до японо-китайской войны (1917–1937)
- Аблова Н.Е. История КВЖД и российская эмиграция в Китае (первая половина ХХ века). Минск, 1999.
- Баконина С.Н. Харбинская епархия в период распространения советского влияния в Китае (1923-1924 гг.)//Вестник ПСТГУ. История. История Русской Православной Церкви. 2008. Вып. II: 4(29).
- Ковалева Е.В. Православная Церковь в Харбине: служение епископа Ювеналия (Килина)//Вестник церковной истории. 2007. № 4 (8).
- Мизь Н.Г. Эмигрантский путь игуменьи Руфины. Владивосток, 2000.
- Непрославленные подвижники//Сайт Екатеринбургской епархии. URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/saints/2011-02-03-07-08-11/at470 (дата обращения 17.12.2012).
- Печерица В.Ф. Духовная культура русской эмиграции в Китае. Владивосток, 1998.
- Поздняев Д.,свящ. Православие в Китае (1900-1997 гг.). М., 1998.
- Сергеев О.И., Лазарева С.И. Российская эмиграция на Дальнем Востоке (1917-1945 гг.)//Российская эмиграция на Дальнем Востоке. Владивосток, 2000.