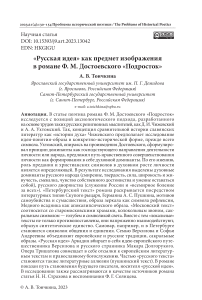«Русская идея» как предмет изображения в романе Ф. М. Достоевского «Подросток”
Автор: Тоичкина А.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье поэтика романа Ф. М. Достоевского «Подросток» исследуется с позиций аксиологического подхода, разработанного на основе трудов таких русских религиозных мыслителей, как Д. И. Чижевский и А. А. Ухтомский. Так, концепция сравнительной истории славянских литератур как «истории духа» Чижевского предполагает исследование идеи-понятия-образа в конкретно-исторической форме, прежде всего символа. Ухтомский, опираясь на произведения Достоевского, сформулировал принцип доминанты как господствующего направления деятельности личности или народа, предложил путь нравственного совершенствования личности как формирования в себе духовной доминанты. По его мнению, роль предания и христианских символов в духовном росте личности является определяющей. В результате исследования выделены духовные доминанты русского народа (смирение, твердость, сила, широкость и живучесть, смекалка, чувство собственного достоинства и умение оставаться собой), русского дворянства (служение России и «всемирное боление за всех»). «Петербургский текст» романа раскрывается посредством литературных типов Скупого рыцаря, Германна А. С. Пушкина, мотивов самоубийства и сумасшествия, образа зеркала как символа рефлексии, Медного всадника как апокалипсического образа. «Московский текст» соотносится со старомосковскими храмами, колокольным звоном, сакральным символом - голубем и символикой света. Вместе с тем «локальные» тексты не только противопоставлены, они напряженно взаимодействуют, образуя синтетическое единство. Самовар, например, и в Петербурге становится символом общения и единения. Семью Версилова и Софьи Андреевны объединяют европейские и русские традиции, сакральные образы. «Русская идея» Аркадия вбирает в себя идею европейского путешественника Версилова и русского странника Макара Долгорукого. Опера Тришатова совмещает в себе отсылки к европейским литературным текстам и православному богослужению. Частью «русского текста» становятся также литературные аллюзии (пушкинский текст). В романе показан путь становления будущего писателя, носителя «русской идеи». В исследовании также рассматриваются в качестве источников романа статья Н. Н. Страхова и воспоминания Ф. Г. Солнцева.
Ф. м. достоевский, д. и. чижевский, а. а. ухтомский, роман подросток, русская идея, петербургский текст, московский текст, национальный характер, символ, н. н. страхов, ф. г. солнцев
Короткий адрес: https://sciup.org/147242329
IDR: 147242329 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13042
Текст научной статьи «Русская идея» как предмет изображения в романе Ф. М. Достоевского «Подросток”
Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 23-28-01302, https://rscf.ru/project/23-28-01302/ . For citation: Toichkina A. V. The “Russian Idea” as a Subject of Depiction in Dostoevsky’s Novel “The Adolescent”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2023, vol. 21, no. 4, pp. 130–154. DOI: 10.15393/ j9.art.2023.13042. EDN: HKGIGU (In Russ.)
Р оман Ф. М. Достоевского «Подросток» (1874–1875) в последние годы привлекает все бóльшее количество исследователей, как русских, так и зарубежных. С научными обзорами рецепции этого произведения в критике в 2021 г. выступили О. А. Богданова и В. В. Борисова. В. В. Борисова отметила усиление интереса современных исследователей к анализу роли «христианского предания» в романе. Так, Н. М. Фортунатов в своей работе выделил «всемирность» и «всечеловечность» русского национального характера. Предметом изучения О. И. Сыромятникова стала «русская идея» — в частности, исследователь показал движение в романе к необходимости осознания национальной идеи народом и определения цели дворянством, которое сознательно служит национальной идее. Н. А. Кладова рассмотрела символическое значение семьи в романе. Американский исследователь Ю. Корриган в романе «Подросток» увидел восстановление личностью своего внутреннего пространства, немецкий ученый Х.-Ю. Геригк — освобождение от западной идеи, которое происходит в европейском городе Петербурге как символе России1.
Перспективным в этом направлении является обращение к трудам религиозных мыслителей Дмитрия Ивановича Чижевского (1894–1977) и Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942), чье научное творчество во многом базировалось на изучении произведений Достоевского. Д. И. Чижевский разработал свою концепцию сравнительной истории славянских литератур как «истории духа», которая предполагала исследование идеи-понятия-образа в конкретно-исторической форме, в процессе исторического духовного национального становления. Центральной категорией в поэтике национальных литератур, по его мнению, является символ (см.: [Тоичкина, 2012: 152]). Д. И. Чижевский указывал на то, что Страхов был «философским информатором» Достоевского [Тоичкина, 2013: 300] и что многие темы и образы в художественном творчестве писателя генетически связаны с философскими исследованиями ученого (см.: [Тоичкина, 2012, 2013, 2014]). Так, в статье Страхова «Жители планет» (1860) создается образ вселенной без Бога, обреченной на вечное повторение существующих явлений. Чижевский указал на эту статью как на один из источников романа «Братья Карамазовы» в заметке «Черт Ивана Карамазова и Н. Н. Страхов» (1933)2, но подобный пассаж встречается и в речи Аркадия Долгорукого, обращенной к участникам кружка Дергачева:
«…когда земля обратится въ свою очередь въ ледяной камень и будетъ летать въ безвоздушномъ пространствѣ съ безконеч-нымъ множествомъ такихъ же ледяныхъ камней…»3.
Чижевский находил общее в философских взглядах Достоевского и Страхова, в их общественно-политической позиции (см.: [Мотовникова]), но видел и отличие — Достоевский обращается к религиозно-этической сфере [Тоичкина, 2012: 148; Тоичкина, 2019: 269–270].
В 1869 г. в журнале «Заря» (1869–1872) был опубликован труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Страхов, который входил в редакцию журнала, был восхищен этим сочинением, но Достоевский писал ему о своих сомнениях:
«Потому еще жажду читать эту статью, что сомневаюсь несколько, и со страхом, об окончательном выводе; я всё еще не уверен, что Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучего будущего бытия» ( Д30 : т. 29 1 : 30).
Концепция личности А. А. Ухтомского, его этическое учение создавались в 1920-е гг. во многом с ориентацией на произведения Достоевского («Двойник», «Братья Карамазовы» и др.). Принцип доминанты, сформулированный Ухтомским, предполагает, что человек смотрит на мир через свои главенствующие установки, направления деятельности. У личности может быть несколько доминант. В ситуации кризиса, когда человек вынужден отказаться от своей доминанты, он может вернуться к прежней, сформированной ранее, в детстве, или ему придется формировать новую доминанту4. Помочь избежать ошибок может ориентация на предание и символы, в которых сохраняется коллективный духовный опыт. На полях своей настольной книги «Добротолюбие», в книгах по философии Ухтомский оставлял заметки, в которых постоянно возвращался к роли предания и символов в постижении Истины (см.: [Федорова, 2023]).
В романе «Подросток» Достоевский сопоставляет европейскую и русскую цивилизации, размышляет о роли Православия в формировании национального русского характера, его истории и самобытности. «Подросток» является произведением, ориентированным на национальные традиции.
«Русская идея» автора реализуется на разных уровнях художественного текста (идейном, жанровом, композиционном, предметном, аллюзивном, лексическом и символическом), в системе образов, в «локальном тексте» (петербургском и московском). Кроме того, в этом произведении можно обнаружить национальные традиции христианской календарной словесности [Федорова, 2021b: 258].
Роман указывает читателю направление будущего развития общества и страны в целом в перспективе возвращения дворянства к православной вере, к самобытным основам русской жизни, в отказе от миража ее европеизации5. В. А. Викторович полагает, что «от романа испытания идеи Д<остоевский> перешел к роману воспитания личности» в его мемуарно-исповедальной форме (см.: [Викторович, Щенников: 134]). Однако роман «Подросток» — это не только роман воспитания, но прежде всего идеологическое произведение. Главный герой, Аркадий Долгорукий, находится в напряженном поиске идеи, которая стала бы целью его жизни. Он приезжает в Петербург, чтобы испытать себя и свою идею. «Идея Подростка изменчива и многолика»: «миллион», «угол», «скорлупа», «игра», «женщины», «письмо», «документ», «университет» — лишь метафоры, лишь образы идеи, как и ее именные знаки (Ротшильд, скиталец, «"последний европеец" Версилов, русский странник Макар Долгорукий») [Захаров, 2013: 390, 392]. Его идея Ротшильда не имеет ничего общего с накопительством и обогащением. Несколько раз в своих записках он пытается это объяснить. Впервые это происходит при описании «пробы», которую герой сделал 19 сентября: он отправляется на аукцион, чтобы сделать первый «шаг» к реализации своей идеи. Здесь он и пишет о своей цели: «порву со всѣми», «забьюсь въ скорлупу и стану совершенно свободенъ» (Ѳ. Д.: 46). Как писал Б. М. Энгельгардт, «господство идеи-силы над сознанием — эта черта казалась Достоевскому особенно характерной для духовной жизни представителя "случайного племени". Именно в ней он искал конструктивного центра, доминанты, при изображении оторванного от почвы интеллигента, главного действующего лица, как современной ему общественности, так и его особыми задачами в деле художественного истолкования занимавших его явлений текущей действительности» [Энгельгардт: 288]. Исследователь рассматривал идею («жизнь идеи») как предмет изображения у Достоевского: «Для такого поэта идея не есть какая-то отвлеченная логическая схема. Она почти что живое существо, которое обитает в человеческом сознании, — существо по большей части властолюбивое и жестокое в неумолимой последовательности своего самоутверждения, в безудержном стремлении к подчинению себе всей иррациональной жизни духа» [Энгельгардт: 289]. Достоевский изображает идеи в акте их становления, и «система его романов образует своеобразную художественную "феноменологию духа" русской интеллигенции». Вектор этой системы состоит в «восходящей мысли» [Энгельгардт: 292–293]. В. Н. Захаров указывает на многообразие жанровых составляющих романа «Подросток» как способ изображения акта становления героя, в частности, его идеи: «В "Подростке" главенствуют жанры, которые "вводит" Аркадий: его многочисленные "анекдоты" о "пробе идеи", о "женской наготе", о праздном студенте, об Ариночке, о "ничтожном поручике", о судебном процессе Татьяны Павловны с кухаркой; его воспоминания о детстве — о первой встрече отца с сыном, о страданиях в пансионе Тушара, о маме, о сводном брате; его повесть о событиях прошедшего года, его трактаты о смехе, об идее, различные мнения о разных предметах. Таков жанровый состав "записок" Аркадия. Самостоятельное значение имеют воспитывающие беседы Версилова и особенно его исповедь, наставительные речи Макара Долгорукого. В жанровую структуру романа входят рассказы: рассказ матери о горестной судьбе дочери — о повесившейся Оле, "патриотический" рассказ Петра Ипполитовича о закопанном камне (ср. пародийный анекдот Версилова "a la Петр Ипполитович" о зажаренном соловье), рассказы Макара Долгорукого о Петре Валерьяновиче, о купце Скотобойникове; письма, записки, текст объявления в газете и предсмертные заметки из дневника Крафта, трактат Николая Семеновича о судьбах русского романа в пореформенную эпоху» [Захаров, 1985: 169]. Движение Аркадия идет от пушкинского Скупого рыцаря
(«уединенное и спокойное сознание силы») к «идее самостоя-нья человека» [Захаров, 2013: 392]. Для Аркадия встречи с героями-идеологами необходимы, поскольку он в диалогах с ними проверяет свою идею, а также ищет новые векторы своего жизненного направления. В романе «Подросток» идеологами являются Крафт, Версилов и Макар Долгорукий. Идея исторического назначения России испытывается в спорах и напряженных диалогах героев. Крафт одержим мыслью, что русский народ есть народ «второстепенный, которому предназначено послужить лишь матеріаломъ для болѣе бла-городнаго племени, а не имѣть своей самостоятельной роли въ судьбахъ человѣчества» ( Ѳ. Д .: 53). Его идея оспаривается на собрании кружка Дергачева:
«Пусть Россiя осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной Россiи» ( Ѳ. Д .: 54); «Римляне не прожили и полутора тысячъ лѣтъ въ живомъ видѣ и обратились тоже въ матерiалъ. Ихъ давно нѣтъ, но они оставили идею, и она вошла элементомъ дальнѣйшаго въ судьбы человѣчества» ( Ѳ. Д .: 54–55).
Крафт уходит из жизни, придя к выводу, что в качестве русского не стоит жить. Попытки нигилистов, Дергачева и членов его кружка, указать иную цель жизни Крафт не принимает. Аркадий объясняет это следующим образом:
«Мало опровергнуть прекрасную идею, надо замѣнить ее равно-сильнымъ прекраснымъ…» ( Ѳ. Д. : 57).
Попытка объяснить суть своей идеи «стать Ротшильдом» предпринимается Аркадием после признания, что в нем живут две установки, две «доминанты», по терминологии А. А. Ухтомского: помочь Версилову «сокрушить клевету, раздавить враговъ» и стать «властелиномъ судьбы» Ахмаковой, используя ее неосторожное письмо, в котором она советуется по поводу опеки над отцом (Ѳ. Д.: 76–77). На этот раз Аркадий вступает в диалог с самим собой. Он возражает сам себе: его мысль об «упорстве» и «непрерывности» в движении к богатству Ротшильда не отличается оригинальностью — это «всякiй фатеръ въ Германiи повторяетъ <…> своимъ дѣтямъ» (Ѳ. Д.: 80). Подросток утверждает, что его идея, в отличие от европейской, предполагает «монастырь» и «подвиги схимничества», особый вид аскезы (Ѳ. Д.: 81). Рассказчик объявляет своей целью «свободу», «уединенное и спокойное сознанiе силы» (Ѳ. Д.: 90).
Английский исследователь Джонатан Пейн не видит оригинальности «экономической» идеи Подростка [Pain: 66–69]. Однако Аркадий, предупреждая возможность подобного понимания своей идеи, подчеркивает, что он не стремится быть процентщиком, подобно тем русским, «у кого ни ума, ни характера». По мнению героя, за которым проявляется авторская точка зрения, «закладъ и процентъ — дѣло ординарности» ( Ѳ. Д .: 84). Себя герой сравнивает с трезвым и твердым схимником, который зорко всматривается в мир, а также с пророком Илией: «Одно сознанiе о томъ, что въ ру-кахъ моихъ были миллiоны и я сбросилъ ихъ въ грязь, какъ вранъ, кормило бы меня въ моей пустынѣ» ( Ѳ. Д .: 92). Герой подчеркивает, что имеет «идеалъ красоты» ( Ѳ. Д .: 93). Пушкинские персонажи — Скупой рыцарь и Германн, о которых вспоминает Аркадий, — это герои, бросающие вызов судьбе. Первая «проба» идеи Подростка на аукционе приносит ему удивительное чувство, что им руководит некая сила, подобно тому, как это происходит в карточной игре: «протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти противъ воли, какъ будто вашу руку направляетъ другой» ( Ѳ. Д .: 47). Игра в рулетку для Аркадия также связана с его идеей: «неужели у рулетки нужно больше характеру, чѣмъ для твоей идеи?» ( Ѳ. Д .: 282).
Однако наряду с «идеей Ротшильда» в сознании рассказчика постепенно вызревает новая идея, связанная с другой доминантой. В его душе сохраняется воспоминание о детстве в деревне и о причащении в церкви, во время которого «голубь пролетѣлъ насквозь черезъ куполъ, изъ окна въ окно» ( Ѳ. Д .: 112). Голубь — сакральный символ. В душе героя живы православные ценности, он ищет свое предназначение в русле осознания Божьего Замысла о мире. Версилов в романе рассуждает о религии достаточно отвлеченно. Важные для духовного становления молодого человека слова о Христе говорит именно Софья Андреевна:
«— Христосъ, Аркаша, все проститъ: и хулу твою проститъ, и хуже твоего проститъ. Христосъ — отецъ, Христосъ не нуждается и сiять будетъ даже въ самой глубокой тьмѣ…» ( Ѳ. Д .: 265).
Особым этапом становления героя и формирования его новой доминанты и новой идеи становится общение с Версиловым. Разговоры с отцом дают возможность Аркадию по-новому осмыслить личность матери, Софьи Андреевны, и ее супруга, Макара Ивановича. В седьмой главе первой части в разговоре с Аркадием Версилов впервые называет Софью Андреевну «русской женщиной» ( Ѳ. Д .: 127) и отмечает такие черты ее характера, как «смиренiе, безотвѣтность, приниженность и въ тоже время твердость, силу, настоящую силу» ( Ѳ. Д .: 128). В Макаре Долгоруком Версилов отмечает «умѣнье говорить дѣло» «безъ глупаго ихняго двороваго глубокомыслiя» и «безъ всѣхъ этихъ напряженныхъ русcизмовъ, которыми го-ворятъ у насъ въ романахъ и на сценѣ "настоящiе русскіе люди"» ( Ѳ. Д .: 132). Редкое, по мысли Версилова, истинное чувство собственного достоинства присуще в романе именно представителям русского народа — Макару Ивановичу и Софье Андреевне. Русский народ, по мнению Версилова, доказал «великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически» ( Ѳ. Д .: 128).
Образ Петербурга как героя романа возникает в «записках» в конце первой части: Германн из «Пиковой дамы» обозначается как «петербургский тип», а сам Петербург представлен как город-призрак, который может подняться с туманом и исчезнуть, как дым, оставив «прежнее финское болото», а посредине него — «бронзовый всадникъ на жарко дышащемъ, загнанномъ конѣ» (Ѳ. Д.: 138). Эти образы приобретают символическое значение благодаря многоуровневому аллюзивному плану: это аллюзии к идее «Москвы — Третьего Рима» (четвертому Риму не бывать), к апокалипсическому образу всадника (тема Страшного Суда — одна из основных в романе). Н. А. Синдаловский утверждает: «Еще в XIX веке были живы легенды о том, что Фальконе вложил в композицию монумента "тайную мысль, что когда-нибудь императорской России придется низвергнуться в бездну с высоты своей безрассудной скачки"»6. Этот же исследователь вспоминает о том, что в среде раскольников родилась легенда о Медном всаднике как всаднике из Апокалипсиса7. Носителем апокалипсической идеи в романе «Подросток» становится Версилов, который переживает закат Европы, видит «заходящее солнце послѣдняго дня европейскаго человѣчества» (Ѳ. Д.: 466).
С «петербургским текстом» связаны мотивы самоубийства и сумасшествия. Кончают жизнь самоубийством Крафт и Оля, сходят с ума князья Сокольские (старший и младший), на грани помешательства оказывается Версилов ( Ѳ. Д .: 319). Герои петербургского типа связаны с мотивом зеркала: Крафт рассматривает себя в зеркале во время разговора с Подростком накануне самоубийства ( Ѳ. Д .: 64), Оля вешается на гвозде от зеркала, Версилов вспоминает, как он выглядел в зеркале во время объяснения с Долгоруким после того, как соблазнил его жену ( Ѳ. Д .: 131). Подросток видит в зеркале ординарность своего лица, что доставляет ему страдания ( Ѳ. Д. : 90). Зеркало в романе становится символом рефлексии, взгляда человека на себя со стороны.
Напряженное взаимодействие «петербургского» и «московского» текстов в романе порождает новое синтетическое явление. Катерина Николаевна Ахмакова, противопоставляя петербургский тип московскому, признается, что не сумела обольстить Марью Ивановну, поскольку это «цѣлый характеръ, и особый, московскій» ( Ѳ. Д .: 157). Но по поводу Германна рассказчик замечает, что это не только «совершенно петер-бургскiй типъ, — типъ изъ петербургскаго перiода» ( Ѳ. Д .: 138). В подглавке «Утопическое понимание истории» «Дневника Писателя» 1876 г. Достоевский пишет о московском и петербургском периоде русской истории и утверждает, что реформы Петра не изменили, а расширили русскую идею:
«…через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание ее: мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения» ( Д30 ; т. 23: 47).
Достоевский понимал важность петербургского (европейского) периода в истории России — для самоопределения необходимо самопознание посредством образования: «Знакомство с древними идеалами и с новейшими вы несете народу через образованность, через расширение горизонта, и найдутся пути новые к новому нашему будущему складу и порядку» ( Д30 ; т. 24: 182).
С этой темой связана роль пушкинских аллюзий в романе. Петербургские типы Пушкина являются переходными типами, в них взаимодействуют европейские и русские черты: Аркадий сравнивает себя со Скупым рыцарем, с Германном, а единокровную сестру, Анну Андреевну, с воспитанницей у старой графини ( Ѳ. Д .: 238). Аркадий цитирует трагедию Пушкина «Скупой рыцарь», стихотворение «Герой»: «…Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже / Насъ возвышающiй обманъ» ( Ѳ. Д .: 187). В дальнейшем тексте стихотворения Пушкина речь идет о сердце как средоточии душевной и духовной жизни: «Оставь герою сердце!». В записной тетради 1872–1875 гг. Достоевский указывал:
«…Пушкин (обожатель Петра) был в сущности отрицатель Петра любовью к русскому старому народному духу ("Капитанская дочка", Белкин и проч.). Это — начало и начальник славяно-фил<ов>» ( Д30 ; т. 21: 269).
И позднее, в 1876–1877 гг., писатель еще раз возвращается к этой мысли:
«ПУШКИН — этот главный славянофил России» ( Д30 ; т. 24: 276).
На предметном уровне символом русской жизни становится самовар, поскольку чаепитие для русского человека — это прежде всего общение, которое помогает в кризисной ситуации. После самоубийства Оли хозяйка квартиры, где произошла трагедия, приглашает мать Оли к себе на чай. Рассказчик замечает:
«Самоваръ очень пригодился, и вообще самоваръ есть самая необходимая русская вещь, именно во всѣхъ катастрофахъ и не-счастiяхъ, особенно ужасныхъ, внезапныхъ и эксцентрическихъ; даже мать выкушала двѣ чашечки, конечно послѣ чрезвычайныхъ просьбъ и почти насилiя» ( Ѳ. Д .: 174).
Во второй части «русская идея» воплощается в разных контекстах. Анекдот про камень, который мешал государю (иностранцы его вытащить не могли, только наш мужичок сообразил его закопать), подчеркнуто перенасыщен лексемами «русский»: «русскiй человѣкъ, бородка клиномъ, въ дол-гополомъ кафтанѣ, и чуть ли не хмѣльной немножко… впро-чемъ, нѣтъ, не хмѣльной-съ», «добрая русская улыбка», «хоть и свѣтлость, а чистый этакій русскiй человѣкъ, русскiй этакiй типъ, патріотъ, развитое русское сердце», «русскiй кошель толстъ, а имъ дома ѣсть нечего», «русскимъ этакимъ языкомъ», «русское-то сердце» и т. д. ( Ѳ. Д .: 204–205). У Аркадия этот «патриотически-непорядочный» «анекдот» вызывает возмущение. Версилов же оправдывает рассказчика чувством «любви к ближнему» и «патриотизмом», видя в этом рассказе проявление национальной черты характера («невоздержанность сердецъ нашихъ») ( Ѳ. Д .: 207). Однако эта история зафиксирована как подлинная в воспоминаниях Ф. Г. Солнцева «Моя жизнь и художественно-археологические труды», которые публиковались в журнале «Русская Старина» 1876 г. Солнцев в своих мемуарах приводит примеры сметливости русских крестьян. Так, ярославский кровельщик Иван Телушкин без лесов, с помощью веревочной лестницы и веревочной петли, поднялся на шпиль Петропавловского собора и починил оторванные ветром листы и крыло у ангела, подняв его по кресту на 8 вершков; валдайский мещанин прикатил колокол в 2000 пудов в Петербург для Троицкого собора. Приводится в этих воспоминаниях и история с камнем:
«При сооруженiи памятника Петру I, чтò нынѣ въ Алек-сандровскомъ саду, отъ подножнаго камня отколотъ былъ огромный кусокъ, который надо было убрать съ площади, но недоумѣ-вали какъ это сдѣлать. Одинъ крестьянинъ взялся его "прибрать" за ничтожную плату. Когда это было дозволено, онъ вырылъ яму по близости монумента, свалилъ въ нее камень и засыпалъ его, а землю увезъ въ пойкахъ»8.
В романе «Подросток», видимо, произошла контаминация двух историй: рассказа о неизвестном крестьянине, который «прибрал» огромный камень, и сообщения об известном ярославском кровельщике Телушкине, который за свою сметливость получил медаль, но постепенно «спился»9. Можно выдвинуть гипотезу, что воспоминания Солнцева были известны Достоевскому еще до их публикации — благодаря его общению с редактором журнала «Русская Старина» М. И. Семев-ским (см.: [Федорова, 2021a]): история с камнем вошла в бывальщину В. И. Даля «Русская смекалка» (1862) и в быль Л. Н. Толстого «Как мужик убрал камень» (1872)10, однако в этих произведениях не говорится о ярославском происхождении крестьянина и его дальнейшей судьбе.
С проблемой выбора Россией пути связана в романе тема русского дворянства. Версилов раскрывает князю Сергею Сокольскому свое понимание русского дворянства (речь идет о России, о государстве):
«— Слово честь — значитъ долгъ <…>. Когда въ государствѣ гос-подствуетъ главенствующее сословiе, тогда крѣпка земля. Главенствующее сословiе всегда имѣетъ свою честь и свое исповѣданiе чести, которое можетъ быть и неправильнымъ, но всегда почти служитъ связью и крѣпитъ землю; полезно нравственно, но болѣе политически» ( Ѳ. Д .: 219).
Версилов противопоставляет русский и европейский типы дворянства:
«Но русскiй типъ дворянства никогда не походилъ на европейскiй. Наше дворянство и теперь, потерявъ права, могло бы оставаться высшимъ сословiемъ, въ видѣ хранителя чести, свѣта, науки и высшей идеи, и, чтò главное, не замыкаясь уже въ отдѣльную касту, чтò было бы смертью идеи. <…> Пусть всякiй подвигъ чести, науки и доблести дастъ у насъ право всякому примкнуть къ верхнему разряду людей. Такимъ образомъ, сословiе само собою обращается лишь въ собранiе лучшихъ людей, въ смыслѣ буквальномъ и истинномъ, а не въ прежнемъ смыслѣ привилегированной касты» (Ѳ. Д.: 219–220).
«Русский князь» Сокольский в ответ «отрекается от такой идеи». А в седьмой главе второй части князь Сергей рассказывает Аркадию о своих «безпредѣльныхъ паденіяхъ», объясняя это особенностями национального менталитета и характера:
«— Насъ съ вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадiй Ма-каровичъ: вы не знаете чтò дѣлать и я не знаю чтò дѣлать? Выскочи русскiй человѣкъ чуть-чуть изъ казенной, узаконенной для него обычаемъ колеи — и онъ сейчасъ же не знаетъ чтò дѣлать. Въ колеѣ все ясно: доходъ, чинъ, положенiе въ свѣтѣ, экипажъ, визиты, служба, жена — а чуть чтò и — чтò я такое? Листъ, гонимый вѣтромъ. Я не знаю чтò дѣлать» ( Ѳ. Д .: 303–304).
У князя Сергея есть идеал:
«…"Помни всегда всю жизнь, что ты — дворянинъ, что въ жи-лахъ твоихъ течетъ святая кровь русскихъ князей, но не стыдись того, что отецъ твой самъ пахалъ землю: это онъ дѣлалъ по княжески "» ( Ѳ. Д .: 304).
Но «русская судьба» его оказывается трагической: он проматывает наследство, ввязывается в уголовное дело, в конце концов, из ревности к Васину доносит на нигилистов и умирает в тюрьме. Князь Сокольский-младший запутывается в обстоятельствах, но не может вынести суда своей совести, он не может «лгать Россiи, лгать дѣтямъ, лгать Лизѣ, лгать своей совѣсти!..» ( Ѳ. Д .: 307) — в его иерархии ценностей Россия оказывается на первом месте.
Тема будущего России оказывается важной составляющей отношений Аркадия и Ахмаковой. Катерина Николаевна знает, что эта тема волнует Аркадия так же, как и ее:
«…я русская и Россiю люблю. <…> Вы помните, мы иногда по цѣлымъ часамъ говорили про однѣ только цифры, считали и примѣривали, заботились о томъ, сколько школъ у насъ, куда направляется просвѣщеніе. Мы считали убійства и уголовныя дѣла, сравнивали съ хорошими извѣстіями… хотѣлось узнать, куда это все стремится и что съ нами самими, наконецъ, будетъ. Я въ васъ встрѣтила искренность» ( Ѳ. Д .: 256).
Вместе с тем с темой России и русских в романе теснейшим образом связана тема веры в Бога, тема Христа. «Русская идея» зиждется у Достоевского на религиозных основаниях национальной веры во Христа. Именно в этом плане она противостоит «женевским идеям». Неслучайно Аркадий все время возвращается к вопросам веры, задавая их Версилову, маме, Макару Ивановичу. В трактире, где снуют половые «в русских до неприличия костюмах», Версилов пересказывает Аркадию анекдот Петра Ипполитовича:
«Представь, Петръ Иполитовичъ вдругъ сейчасъ сталъ тамъ увѣрять этого другого рябаго постояльца, что въ англiйскомъ парламентѣ, въ прошломъ столѣтіи, нарочно назначена была коммисiя изъ юристовъ, чтобъ разсмотрѣть весь процессъ Христа передъ первосвященникомъ и Пилатомъ единственно, чтобъ узнать кàкъ теперь это будетъ по нашимъ законамъ, и что все было произведено со всею торжественностью, съ адвокатами, прокурорами и съ прочимъ… ну, и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговоръ… Удивительно, чтò такое!» ( Ѳ. Д .: 273).
Русская патриотическая тема (даже в пародийном варианте) содержит в себе религиозное начало.
Кульминацией второй части становится «катастрофа» на рулетке и последующее после пережитого позора желание Аркадия поджечь город. Идея отступает на второй план, поскольку он не представляет, как будет жить с клеймом вора. Именно в этот момент герой вспоминает приезд матери в пансион Тушара. Тема духовного возрождения передается посредством символической детали: колокольный звон обрамляет встречу с мамой. И образ храма в пасхальные весенние дни вырастает из ударов колокола:
«Колоколъ ударялъ твердо и опредѣленно по одному разу въ двѣ или даже въ три секунды, но это былъ не набатъ, а какой-то пріятный, плавный звонъ, и я вдругъ различилъ, что это, вѣдь — звонъ знакомый, что звонятъ у Николы, въ красной церкви напротивъ Тушара, — въ старинной московской церкви, которую я такъ помню, выстроенной еще при Алексѣѣ Михай-ловичѣ, узорчатой, многоглавой и "въ столпахъ", — и что теперь только что минула Святая недѣля и на тощихъ березкахъ въ палисадникѣ Тушаровскаго дома уже трепещутъ новорожденные зелененькiе листочки» ( Ѳ. Д .: 333).
Аркадий вспоминает Москву православную, возвращается к той духовной доминанте, которая была сформирована в детстве. Он рассказывает о молитвах за него Софьи Андреевны Николаю Угоднику11 и Пресвятой Богородице. Аркадий просит прощения у матери за то, что стыдился ее, и снова вспоминает голубя в храме ( Ѳ. Д .: 338). Софья Андреевна и Макар Иванович, в образе которых воплощена суть православной русской жизни, становятся живительным источником в событии духовного преображения героя. К. В. Мочульский видел в образе Софьи Андреевны символическое воплощение России (см.: [Мочульский]).
В третьей части романа «русская идея» обретает новые обертоны смыслов. Идеи Версилова, рассказы Макара Ивановича Долгорукого формируют новую духовную доминанту в душе Аркадия. Духовное возрождение Аркадия показано с помощью состояния радости и образа света:
«Я лежалъ лицомъ къ стѣнѣ и вдругъ въ углу увидѣлъ яркое, свѣтлое пятно заходящаго солнца, то самое пятно, которое я съ такимъ проклятiемъ ожидалъ давеча, и вотъ помню, вся душа моя какъ бы взыграла и какъ бы новый свѣтъ проникъ въ мое сердце» ( Ѳ. Д .: 360).
О символике света в романе «Подросток» писал И. Лунде (см.: [Лунде]). Однако Аркадию нужно было пережить еще одно падение и увидеть катастрофу Версилова, чтобы окончательно отказаться от своей прежней идеи.
Аркадий в записках стремится к честному суду над собой. Путь записывания — путь самопознания и самовоспитания, исправления себя. Так, в третьей главе третьей части он пишет:
«Жажда благообразiя была въ высшей мѣрѣ, и ужь, конечно, такъ, но какимъ образомъ она могла сочетаться съ другими, ужь Богъ знаетъ какими, жаждами — это для меня тайна. Да и всегда было тайною, и я тысячу разъ дивился на эту способность человѣка (и, кажется, русскаго человѣка по преимуществу) лелѣ-ять въ душѣ своей высочайшiй идеалъ рядомъ съ величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная въ русскомъ человѣкѣ, которая его далеко поведетъ, или просто подлость — вотъ вопросъ!» (Ѳ. Д.: 380).
Понятие «широкости» оказывается связано с «русским умом». Аркадий размышляет над отношениями Ламберта и Анны Андреевны:
«И какъ воображу эту неприступную, гордую, дѣйствительно достойную дѣвушку и съ такимъ умомъ, рука въ руку съ Ламбертомъ, то… вотъ то-то съ умомъ! Русскiй умъ, такихъ размѣровъ, до широкости охотникъ; да еще женскiй, да еще при такихъ обстоятельствахъ!» ( Ѳ. Д .: 403).
Свою формулировку «русской идеи» дает в романе и Версилов. Идея «золотого века» описывается им с помощью картины Клода Лоррена «Асис и Галатея», которая приснилась ему во время его путешествия по Европе. И в связи с образом «земного рая» европейской цивилизации Версилов как «русский европеец», «носитель высшей русской культурной мысли» формулирует «русскую идею», которая стала его чувством: «…высшая русская мысль есть всепримиренiе идей» ( Ѳ. Д .: 466). Версилов видит в себе русского, который в период его скитаний по революционной Франции был там « единственнымъ европей-цемъ » ( Ѳ. Д .: 466), т. е. предлагает свое понимание того, что есть европеец в высшем, духовном смысле. Далее он развивает свое понимание «типа русского дворянства»: «У насъ создался вѣ-ками какой-то еще нигдѣ не виданный высшiй культурный типъ, котораго нѣтъ въ цѣломъ мiрѣ — типъ всемiрнаго болѣ-нiя за всѣхъ» ( Ѳ. Д .: 467). Тип этот русский, поскольку «взятъ въ высшемъ культурномъ слоѣ народа русскаго». «Онъ хранитъ въ себѣ будущее Россiи». И «вся Россiя жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу» ( Ѳ. Д .: 467).
В своих рассуждениях Версилов пытается описать сложное диалектическое взаимодействие русского и европейского начал, объяснить национальную специфику русского дворянства, отталкиваясь от характерных черт европейцев. Парадоксально звучит его заключение:
«…Россiя живетъ рѣшительно не для себя, а для одной лишь Европы!» ( Ѳ. Д .: 468).
В пространстве их с Софьей Андреевной дома находятся изображение Дрезденской Мадонны и образ Божией Матери ( Ѳ. Д .: 100). Религиозная жизнь Версилова обозначается в разговоре с Аркадием самим героем как служение идее. Он сам про себя говорит:
«…вѣра моя не велика, я — деистъ, философскiй деистъ, какъ вся наша тысяча, такъ я полагаю…» ( Ѳ. Д .: 470).
И тем не менее идеал Христа открыт его сердцу — идеал «восторженнаго гимна новаго и послѣдняго воскресенiя» ( Ѳ. Д .: 471).
Образы представителей русского дворянства являются важной вехой для Достоевского в создании им культурноисторической типологии русской цивилизации. Темы русского дворянства и будущего России получают дальнейшее развитие в связи с образом Версилова (его рассуждениями и поступками). Употребление эпитета «русский» в «Заключении» реализует важнейший аспект сюжета романа — духовное становление молодого человека оказывается в романе путем становления русского писателя: «…герой писал записки, а получился роман, роман в форме записок» [Захаров, 2013: 387].
Роман заканчивается «выдержками» из письма Николая Семеновича, которому Аркадий направил для ознакомления рукопись своих «записок». Это рассуждение о судьбе русского романа, русской литературы, русской жизни в настоящий исторический момент, отличающийся крайней неустойчивостью (см.: [Захаров, 2013: 388]). Так, Николай Семенович пишет:
«Если-бы я былъ русскимъ романистомъ и имѣлъ талантъ, то непремѣнно бралъ бы героевъ моихъ изъ русскаго родоваго дворянства, потому что лишь въ одномъ этомъ типѣ культур-ныхъ русскихъ людей возможенъ хоть видъ красиваго порядка и красиваго впечатлѣнія, столь необходимаго въ романѣ для изящнаго воздѣйствiя на читателя» ( Ѳ. Д. : 562).
Далее упоминаются «Предания русского семейства» Пушкина, «русская история», историческая литература как воплощение образа «русскаго миража», «существовавшаго дѣйствительно, пока не догадались, что это — миражъ» (Ѳ. Д.: 562–563). «Русское семейство средневысшаго культурнаго круга» на современном этапе осмысляется в письме Николая Семеновича как «случайное семейство». Он видит проблему развития современной русской литературы в неустоявшейся действительности, в исторической незавершенности типов современных героев:
«Да и типы эти, во всякомъ случаѣ — еще дѣло текущее, а потому и не могутъ быть художественно-законченными. <…> Но чтò дѣлать, однакожь, писателю, не желающему писать лишь въ одномъ историческомъ родѣ и одержимому тоской по текущему? Угадывать и… ошибаться» ( Ѳ. Д .: 564–565).
Как пишет В. Н. Захаров, «воспитатель Аркадия верно рассмотрел гносеологическую проблему жанра» [Захаров, 2013: 389]. В «записках» Николай Семенович видит материал для будущего русского романа. Аркадий проходит путь от личных «записок» на русском языке к русскому роману о случайном семействе в эпоху беспорядка и хаоса в историческом развитии России.
В набросках к роману «Подросток» есть слова:
«Он (т. е. современный человек высших классов) как блудный сын, расточивший отеческое богатство <…>. Воротится (к народу), и заколют и для него тельца упитанного» ( Д30 ; т. 16: 138–139).
Еще в «Объявлении о подписке на журнал "Время" на 1861 год» Достоевский призывал к «примирению цивилизации с народным началом» ( Д30 ; т. 18: 37). В черновиках к роману Достоевский ищет соединение идей Макара Долгорукого и Версилова:
« Макар . Христа познай и Его проповедуй, а делами пример подавай, и будет незыблемо. Тем всему миру даже послужишь. — Правда, — говорит Версилов, — Европа ждет от нас Христа. Она нам науку, а мы им Христа (в этом всё назначение России)» ( Д30 ; т. 16: 141).
Достоевский в романе «Подросток» изображает в процессе органического становления и развития самобытные основания русской национальной жизни, дает свой ответ на вопрос «Что есть мы, русские?», художественно реализует свое видение культурно-исторического типа России, показывает назначение русской женщины, русского дворянина, русского писателя. Напряженное взаимодействие европейского и старорусского можно увидеть в «локальных» текстах — петербургском (мотивы самоубийства и сумасшествия, рефлексии, связанной с образом зеркала) и московском (храмы московского стиля, колокольный звон, голубь), в пространстве семьи Версилова и Софьи Андреевны (алтарный образ Мадонны Рафаэля и икона Пресвятой Богородицы). Аркадий вбирает в себя православную идею Макара Ивановича и идею «всемирного боления за всех» Версилова, диалоги с этими героями помогают Подростку в самоопределении и становлении новой для него «русской идеи», общение с Софьей Андреевной пробуждает духовную доминанту, сформированную в детстве. Достоевский определяет духовные доминанты русского народа — это вера, смирение, твердость, сила, живучесть и широкость, смекалка, чувство собственного достоинства, умение оставаться собой.
https://poetica.pro/journal/article.php?id=2535 (accessed on August 10, 2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2535. EDN: RUYKNF (In Russ.)
Список литературы «Русская идея» как предмет изображения в романе Ф. М. Достоевского «Подросток”
- Богданова О. А. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» в исследованиях русских авторов первой половины XX века: аналитический обзор // Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: современное состояние изучения / гл. ред. Т. А. Касаткина. М.: ИМЛИ РАН, 2022. С. 687–764.
- Борисова В. В. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: современное состояние изучения // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2021 № 3 (15). С. 196–214 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/2021-3/08_Borisova_196-214.pdf (10.08.2023). DOI: 10.22455/2541-7894-2021-3-196-214. EDN: AMNCEW
- Викторович В. А. Щенников Г. К. «Подросток» // Достоевский: сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкинский Дом, 2008. С. 132–146.
- Геригк Х.-Ю. Литературное мастерство Достоевского в развитии: от «Записок из Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых» / авториз. пер. с нем. и науч. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевского. СПб.: Пушкинский Дом, Нестор-История, 2016. 320 с.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 208 с.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский: очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с.
- Кладова Н. А. «Подросток» Ф. М. Достоевского: идея сюжета // Вестник Северного (Арктического) Федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2018 № 5. С. 54–62 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnikgum.ru/archive/?ELEMENT_ID=324914 (10.08.2023). DOI: 10.17238/issn2227-6564.2018.5.54. EDN: VKJWGD
- Лунде И. От идеи к идеалу — об одном символе в романе Достоевского «Подросток» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1998 Вып. 5 С. 416–423 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2535 (10.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2535. EDN: RUYKNF
- Мотовникова Е. Н. Славянский вопрос в философской публицистике Н. Н. Страхова // Н. Н. Страхов: pro et contra: антология. СПб.: РХГА, 2021 С. 777–781. EDN: EVAABK
- Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский / сост. и послесл. В. М. Толмачева. М.: Республика, 1995. 607 с.
- Сыромятников О. И. Поэтика русской идеи в великом пятикнижии Ф. М. Достоевского. СПб.: Маматов, 2014. 368 с.
- Тоичкина А. В. Достоевский, Страхов, Ницше в «Истории духа» Д. И. Чижевского // Вестник РХГА. 2012. Т. 13 № 2. С. 145–153 [Электронный ресурс]. URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/18848/1/Toichkina_Dostoevskiy.pdf (10.08.2023).
- Тоичкина А. В. «И как пишет критик Страхов…» (Тема спиритизма в публицистике Достоевского, Н. Н. Страхова и в романе «Братья Карамазовы») // Достоевский и журнализм / под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 299–315. (Сер.: Dostoevsky Monographs; вып. 4.)
- Тоичкина А. В. Заметки Д. И. Чижевского о Достоевском и Н. Н. Страхове // Вопросы философии. 2014 № 5. С. 104–109.
- Тоичкина А. В. Статья Н. Н. Страхова «Жители планет» в творчестве Ф. М. Достоевского 1860–1870-х гг. // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2019 Т. 22 С. 262–273 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Dostoevsky/Materialy/Т_22/18_Тоичкина.PDF (10.08.2023). DOI: 10.31860/978-5-4469-1628-3-262-273. EDN: EKHNGV
- Федорова Е. А. М. И. Семевский и Ф. М. Достоевский // Неизвестный Достоевский. 2021 Т. 8. № 4. С. 91–111 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1640204686.pdf (10.08.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5861. EDN: YNQQJG (a)
- Федорова Е. А. Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» (1876) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 258–282 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612777253.pdf (10.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182. EDN: MTGBIK (b)
- Федорова Е. А. А. А. Ухтомский о теории познания и русской литературе (по материалам коллекции Рыбинского музея) // Книжная культура Ярославского края-2022: сб. ст. и материалов XVII научной конференции. Ярославль: Ярослав. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, 2023. С. 60–66. EDN: VKCYOA
- Фортунатов Н. М. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» как художественная концепция русского характера // Вопросы культурологии. 2018. № 11. С. 85–89.
- Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Энгельгардт Б. М. Избр. труды. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995 С. 270–308.
- Corrigan Yu. Dostoevsky and the Riddle of the Self. Evanstone, Illinois: Northwestern Univerisity Press, 2017. 238 p.
- Gerigk H.-J. Hesses Demian und Dostojewskijs Jüngling // Recht und Gerechtigkeit bei Fjodor Dostojewskij: Recht und Gerechtigkeit in der Romanwelt und Publizistik des russischen Schriftstellers. Berlin; Bern; Wien: Peter Lang, 2018 S. 21–40.
- Pain J. Becoming a Rothschild: Trading Narrative in Podrostok // Dostoevsky Studies. 2018 Vol. 22 Pp. 59–71.