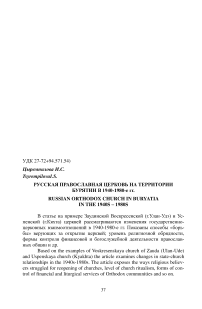Русская Православная Церковь на территории Бурятии в 1940-1980-е гг
Автор: Цыремпилова Ирина Семеновна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (2), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере Заудинской Воскресенской (г.Улан-Удэ) и Успенской (г.Кяхта) церквей рассматриваются изменения государственно-церковных взаимоотношений в 1940-1980-е гг. Показаны способы «борьбы» верующих за открытие церквей; уровень религиозной обрядности, формы контроля финансовой и богослужебной деятельности православных общин и др.
Русская православная церковь, уполномоченный совета по делам рпц
Короткий адрес: https://sciup.org/170189433
IDR: 170189433 | УДК: 27-72+94.571.54)
Текст научной статьи Русская Православная Церковь на территории Бурятии в 1940-1980-е гг
Во второй половине ХХ века государственно-церковные взаимоотношения в стране претерпели изменения. Это было обусловлено выбором политического руководства в лице И.В. Сталина, который хотел упрочить влияние СССР на международной арене, показав, что Русской православной церкви предоставлен ряд юридических и экономических уступок. Результатом такой политики стало, что с 1943 г. руководство страны официально признало необходимость нормализации взаимоотношений с религиозными организациями, и в частности с РПЦ, а также подтвердило курс на частичное восстановление традиционных форм религиозной жизни. Также в 1943 г. был создан Совет по делам РПЦ при Совете Министров СССР, этот факт, как отмечает известный исследователь Т.А. Чумаченко, стал «яркой демонстрацией особого отношения власти к РПЦ» [15, с. 10]. Деятельность Совета регламентировалась «Положением о Совете по делам Русской православной церкви при СНК СССР», утвержденным постановлением СНК СССР от 7 октября 1943 г. [13, с. 81-82].
На местах при СНК союзных и автономных республик и при обл(край)исполкомах осенью 1943 г. были введены должности уполномоченных Совета по делам РПЦ. Их права и обязанности подробно регламентировались инструкцией, принятой 5 февраля 1944 г. В соответствии с инструкцией на уполномоченных Совета возлагалось:
«1. Предварительное рассмотрение поступающих от групп верующих заявлений об открытии церквей или молитвенных домов, проведение соответствующей проверки и представление заключения.
-
2. Регистрация религиозных общин.
-
3. Проведение учета всех действующих молитвенных зданий (храмов).
-
4. Наблюдение за правильным и своевременным проведением в жизнь законов и постановлений Правительства СССР, относящихся к РПЦ; за деятельностью религиозных общин и служителей культов, которая должна строго регламентироваться целями, как-то: совершением богослужений в культовом здании, отправлением религиозных обрядов и треб, управлением культовым имуществом.
-
5. Проведение служебного приема представителей религиозных общин и духовенства по рассмотрению жалоб. Выезды на места для обследования церковных зданий и культового имущества, для проверки жалоб и др.
-
6. Предварительное рассмотрение материалов по закрытию церквей и ликвидации религиозных общин при нарушении ими действующего законодательства о религиозных культах.
-
7. Ведение учета и отчетности» [6, л. 3-4].
Кандидатуру на должность уполномоченного выдвигал местный исполнительный орган, а утверждал Совет по делам РПЦ. Уполномоченные были подотчетны как Совету по делам РПЦ, так и региональным органам власти. Эта двойственность подчинения создавала определенные сложности в работе, когда требовалось искать компромисс между центральным и региональным руководством. Уполномоченный являлся ключевой фигурой в процессе взаимодействия органов власти и религиозных организаций по всем основным вопросам: финансовые, хозяйственные, административные и идеологические и др.
В мае 1944 г. был учрежден Совет по делам религиозных культов, на который возлагалась задача осуществления связей «между Правительством СССР и руководителями религиозных объединений». Активизация деятельности уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СНК СССР по Бурят-Монгольской АССР зафиксирована по архивным документам с 1945 г.
Основным показателем изменения государственно-церковных взаимоотношений в послевоенный период стал процесс возвращения культовых зданий верующим. Порядок получения и открытия молитвенного здания регулировался специальными постановлениями СНК СССР «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943 г. и «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов» от 19 ноября 1944 г. Так, согласно этим нормативным актам «вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению заявлений (верующих об открытии церквей), проведение необходимой проверки и составление проектов заключений по ним» должна была осуществляться уполномоченным Совета по делам РПЦ» [12, с. 331-332]. Подготовленный пакет документов предоставлялся сначала в местные органы власти, а затем в Совнарком. Фактически решения об открытии церквей принимались на местах и утверждались союзным правительством. Такая многоступенчатая процедура позволяла местным органам власти регулировать процесс открытия храмов.
В 1940-1980-е гг. православные приходы, функционировавшие на территории Иркутской и Читинской областей, Бурят-Монгольской (Бурятской) и Якутской АССР, входили в состав Иркутской епархии. В рассматриваемый период на территории БМАССР были открыты 2 православные церкви, которые вошли в состав Иркутской епархии указом Св. Синода от 16 ноября 1948 г. Постановлением Совнаркома БМАССР № 190 от 4 мая 1945 г. была открыта Заудинская Вознесенская православная церковь в г. Улан-Удэ. В 1946 г. по ходатайству общины верующих в количестве 48 чел. было получено в арендное пользование здание Успенской церкви г. Кяхты БМАССР [4, л. 13; 8, л. 2].
Следует отметить, что не все ходатайства и прошения верующих об открытии церквей находили положительное решение. Как свидетельствовал уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР по БМАССР Н.Г. Гармаев на начало 1949 г. «имеются 4 группы верующих, ходатайствующих об открытии церквей в с. Читкане и д. Усть- 39
Баргузине Баргузинского аймака, в с. Кудара Байкале-Кударинского аймака и в д. Каленово Иволгинского аймака» [1, л. 45]. Православные верующие г. Улан-Удэ неоднократно обращались в различные инстанции с заявлениями о передаче Одигитриевского собора. Очередное заявление было отправлено 15 июня 1956 г. в Совмин РСФСР, в котором подробно излагалась сложившаяся ситуация. Как сообщал уполномоченный по делам культов Линхобоев, в просьбе верующим со стороны республиканского руководства было отказано из-за того, что «храм находится в центре города и в нем размещен Бурят-Монгольский музей». Верующие со своей стороны утверждали, что «храм находится в запущенном состоянии, с забитыми жестью окнами и совершенно пустой… здание приходит в упадок и запустение от того, что за ним не следят и десятилетиями не ремонтируют, а нам он необходим, так как имеющийся у нас храм не вмещает всех верующих в обычные воскресные дни, не говоря уже о двунадесятых праздниках и центральных, как Пасха и Рождество, когда народ вынужден стоять в ограде храма и даже за оградой» [2, л. 79-80].
С конца 1950-х - середины 1960-х гг. отмечается усиление антирелигиозной кампании, которое нашло отражение в изменении законодательства, ужесточении контроля финансово-хозяйственной и организационной деятельности религиозных общин, закрытии культовых зданий. После выхода постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научноатеистической пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г. была поставлена задача: в кратчайшие сроки активизировать научно -атеистическую пропаганду. Толчком к возобновлению антирелигиозной кампании стало постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением советского законодательства о культах» и «Инструкция по применению законодательства о культах» [9, л. 6-7]. Согласно Инструкции религиозные институты были поставлены под жесткий контроль власти по всем направлениям их деятельности. Контроль за соблюдением законодательства о культах должен был осуществляться органами государственной власти, Советом по делам РПЦ при Совете Министров СССР и его уполномоченными в республиках, краях и областях.
Набирала обороты практика закрытия церквей, в качестве основных причин выдвигались следующие: низкая доходность, наличие поблизости действующей церкви, слабая посещаемость или отсутствие священнослужителя и учредителей (двадцатки) или же церковь закрывали под предлогом несоответствия правилам техники безопасности, жилищноэксплуатационным стандартам и др. Практика применения измененной нормативно-правовой базы отразилась на деятельности Успенской церкви в г. Кяхта.
25 августа 1960 г. на имя Председателя Совета по делам РПЦ при Совмине СССР В.А. Куроедова было отправлено письмо от уполномоченного Совета по Бур. АССР Д.Б. Очиржапова. Согласно составленному заключению, Успенская церковь имела «небольшой средний годовой доход в размере 100 тыс. рублей», службы в церкви проводились по праздникам, а также по субботним и воскресным дням, посетителей бывало незначительное количество: «в большие праздники до 200-300, а в обыденные дни – 20-30 верующих». Учитывая эти обстоятельства, Д.Б. Очиржапов считал вполне возможным расторгнуть договор об аренде здания Успенской церкви и просил санкции вышестоящего Совета. Также им «в порядке подготовительных мероприятий выявляются и изучаются родственники церковного актива, через которых предполагается парализовать его деятельность». Как указывал сам Д.Б. Очиржапов, «у меня нет опыта в порядке закрытия» и просил разъяснить «постановлением какого органа власти должен быть оформлен такой акт».
Одним из первых шагов стала проверка финансово-хозяйственной деятельности церкви, в ходе которой был выявлен ряд нарушений: «…За период с 1961 г. по май 1962 г. не были оприходованы 16 р. 96 к., допущена недостача на сумму 66 р., командировочные расходы возмещаются без соответствующих на это документов 25 р. 76 к., кассовые документы оформляются небрежно, на бланках произвольной формы, авансовые отчеты не составляются». Проверка также выявила, что из 185 премиальных рублей 130 были выплачены священнику В.М. Шарунову без «всяких оснований и решения соответствующих органов». Без оправдательных документов с подотчета казначея Посохова были списаны 51 р. 24 к. Согласно проверке было выяснено, что общиной была произведена «покупка разных материальных ценностей у частных лиц». К примеру, «всего в октябре 1961 г. по акту, не утвержденному советом церкви, подобных ценностей было куплено на сумму 60 р. 98 к.» [7, л. 32].
В русле развернувшейся кампании в местные органы власти стали поступать «неоднократные жалобы со стороны местных жителей, трудящихся предприятий, учреждений, учебных заведений, школ и других общественных организаций с настоятельной просьбой о закрытии церкви». Так, 10 декабря 1961 г. на имя председателя исполкома Кяхтинского городского Совета депутатов трудящихся А.К. Налабординой поступило заявление от жителей дома № 3 по ул. Ленина г. Кяхта, находящегося по соседству с действующей Успенской церковью. Жители выражали недовольство по поводу колокольного звона, «мешавшего отдыхать и нормально воспитывать своих детей». Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности церкви, неоднократные жалобы населения стали основными мотивами для принятия исполкомом Кяхтинского аймачного Совета депутатов трудящихся решения №286 от 3 ноября 1962 г. «О снятии с регистрации религиозного общества «Успенской» русской православной церкви г. Кяхты».
Исполком решил просить Совет Министров Бур. АССР: «1) религиозное общество «Успенской» РПЦ с регистрации снять; 2) здание церкви передать в долгосрочную аренду Кяхтинскому индустриальному техникуму; 3) все денежные средства, находящиеся на расчетном счете в отделении Кяхтинского госбанка и наличный остаток кассы церкви, а также ценности и предметы обихода по описи передать в райфинотдел Кяхтинского исполкома; 4) все предметы, представляющие историческую, худо- 41
жественную и музейную ценность, передать Кяхтинскому краеведческому музею; 5) облачения, покрывала и т.д., не представляющие ценность, по соответствующему акту списать и уничтожить» [14, с. 387].
Позже данное решение было утверждено постановлением Совмина Бур. АССР №480 от 29 ноября 1962 г., что объяснялось «соображениями тактического характера». Окончательно постановлением Совета по делам РПЦ при Совмине СССР от 18 марта 1964 г. религиозное общество в г. Кяхта было снято с регистрации как прекратившее свою деятельность [8, л. 61, 77]. В 1970 г. здание церкви было передано на баланс министерства культуры республики, так как «здание как архитектурный памятник местного значения находится в безнадзорном состоянии, подвергается разрушению, за ним не обеспечен пожарно-сторожевой надзор» [5, л. 2]. С 1973 г. в здании церкви располагалась картинная галерея Кяхтинского краеведческого музея им. акад. Обручева [10, л. 14].
Деятельность религиозных учреждений, как богослужебная, так и финансовая находилась под жестким административным контролем. Так, данные о доходах церквей по материалам информационных отчетов уполномоченных Совета по делам религиозных культов представляли собой следующую картину:
Таблица 1
|
Год |
Доходы (в тыс. рублей) |
||
|
Вознесенская церковь |
Успенская церковь |
Итого |
|
|
1958 |
856,4 |
111,7 |
968,1 |
|
1959 |
845,8 |
81,5 |
927,3 |
|
1960 |
772,1 |
78,4 |
850,5 |
Основными источниками доходов церквей были средства, полученные от продажи свечей, просфор, крестиков и икон; от тарелочного сбора, от треб, от приношений и пр. Так, уполномоченный Совета по делам религиозных культов Д. Очиржапов указывал в отчете, что «в результате постоянно проводимой в республике атеистической работы кривая доходов по обеим церквям, хотя и медленно снижается (по сравнению с 1958 г. сумма поступлений уменьшилась на 12%» [3, л. 7-8]. Полученные доходы распределялись в основном на содержание штата обслуживающего персонала и хоров, на проведение ремонтных работ и др.
Одним из показателей в деятельности церкви являлось совершение религиозных обрядов. Так, в 1979 г. количество крещений в Вознесенской церкви г. Улан-Удэ составляло 216; в 1984 г. – 241; 1986 г. – 284. Уполномоченный по делам религий при Совмине Бур. АССР М.М. Мулонов отмечал, что постоянными посетителями храма являются «люди преклонного возраста, в основном женщины». При этом отсутствие мужчин в храме на обряде крещения мотивировалось исключительно бытовыми причинами: «служба в армии, длительная командировка, болезнь и т.д., а некоторые молодые мамы посылают в церковь бабушек, тетушек или крестят в других городах, будучи в отпусках. Среди таких родителей бывают пред- ставители интеллигенции». Также стабильной продолжала оставаться погребально-культовая практика. Так, за 1976 г. в церкви было проведено 1198 отпеваний, за 1979 г. – 1213; 1980 – 847 [11, л. 2].
Приведенные данные свидетельствуют об относительной стабильности государственно-церковных взаимоотношений в период 1970-1980-х гг., что нашло отражение в количестве совершенных религиозных обрядов. Данное положение вещей можно объяснить принятием Конституции СССР 1977 г., где декларировался принцип свободы совести. Впервые свобода совести была конституционно гарантирована и определялась как личное право гражданина. Были введены новые положения о запрещении вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями. Но, в реальных условиях продолжали действовать прежние установки в вероисповедной политике государства, контролировались все стороны деятельности религиозных общин и в целом новоизданные положения на практике не применялись.
Список литературы Русская Православная Церковь на территории Бурятии в 1940-1980-е гг
- ГАРБ (Гос. архив Респ. Бурятия). Ф.Р.-248. Оп. 4. Д. 75.
- ГАРБ. Ф.Р.-248. Оп. 4. Д. 86.
- ГАРБ. Ф.Р.-248. Оп. 4. Д. 106.
- ГАРБ. Ф.Р.-248. Оп. 14. Д. 136.
- ГАРБ. Ф.Р.-509. Оп. 1. Д. 71.