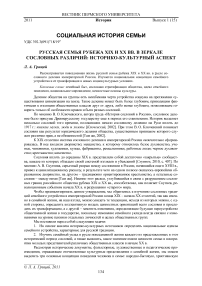Русская семья рубежа XIX и XX вв. в зеркале сословных различий: историко-культурный аспект
Автор: Грицай Людмила Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальная история семьи
Статья в выпуске: 1 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается повседневная жизнь русской семьи рубежа XIX и XX вв. в русле сословного деления императорской России. Изучается национальная концепция семейного устройства и ее трансформация в новых социокультурных условиях.
Семейный быт, сословная стратификация общества, идеал семейного поведения, национальное мировидение, ценностные основы культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147203305
IDR: 147203305 | УДК: 392.3(091)18/19
Текст научной статьи Русская семья рубежа XIX и XX вв. в зеркале сословных различий: историко-культурный аспект
Деление общества на группы есть неизбежная черта устройства социума на протяжении существования цивилизации на земле. Такое деление может быть более глубоким, приводящим фактически к изоляции общественных классов друг от друга, либо менее глубоким, позволяющим говорить только об особенности нравов и быта разных сословий.
По мнению В. О. Ключевского, автора труда «История сословий в России», сословное деление было присуще Древнерусскому государству еще в период его становления. Историк выделяет несколько сословий того времени, положивших начало сословному делению на Руси вплоть до 1917 г.: княжие мужи, люди и холопы [ Ключевский , 2002] . При этом В. О. Ключевский понимает сословия как результат юридического деления общества, существенным признаком которого служит различие прав, а не обязанностей [Там же, 2002].
К XIX столетию система сословного деления в императорской России окончательно сформировалась. В нее входили дворянство; мещанство, к которому относилось белое духовенство, ученые, чиновники, художники, купцы, фабриканты, ремесленники, работные люди; черное духовенство; крестьянство; казачество.
Сословия вплоть до середины XIX в. представляли собой достаточно «закрытые» сообщества, каждое из которых обладало своей системой взглядов и убеждений [ Скутнев , 2010, с. 407]. По мнению А. В. Скутнева, серьезный разрыв между сословиями в России, начавшейся еще в XVIII в., привел к цивилизационному расколу, в результате чего на одном полюсе оказалось европейски образованное дворянство, на другом – традиционно ориентированное крестьянство, а остальные сословия – между ними [Там же]. Именно этот раскол, углубившийся в связи с разрушением сословных границ российского общества рубежа XIX и XX вв., способствовал, как полагает Скутнев, революционным событиям начала XX в. и разрушению «старого» мира.
Чтобы проанализировать данное утверждение, мы обратились к изучению сословных традиций семейного устройства в императорской России конца XIX – начала XX столетий, так как именно в семейной жизни, на наш взгляд, можно увидеть те тенденции, исходя из которых можно, с одной стороны, определить коллективную модель ценностных ориентаций всего сословия и проследить их трансформацию, а с другой – заметить изменения, определяющие будущее переустройство общественной жизни в государстве, поскольку изменение семейного уклада всегда связано с изменениями на уровне психики отдельных личностей и целых общественных групп.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
-
1. На основе анализа историко-культурных источников определить национальные идеалы семейного устройства, характерные для русской традиции.
-
2. Изучить семейный уклад в русле повседневной жизни каждого из представленных в этот исторический период сословий, а также выяснить, какое значение имели ценности семьи в восприятии молодых представителей различных общественных классов в начале ХХ в.
Рассмотрев исторические документы, фольклорные, художественные и педагогические произведения, отражающие отечественные культурные представления о семейной жизни, мы можем выделить три основные концепции поведения человека в семье: народно-бытовую, христианскую
-
и, как синтез первых двух, национальную.
Содержание народно-бытовой концепции семейного устройства передано в народной педагогике, фольклоре и этнографических исследованиях. Следует отметить, что почтительное отношение к семье, заложенное в народном понимании, связывалось с особенностями образа жизни наших предков. Как отмечает В. Н. Дружинин, для Древней Руси ХII–ХIV вв. было характерно «аграрномистическое мироощущение», предполагавшее культ Матери-Земли, рода и родительства [ Дружинин , 1995, с. 53]. В соответствии с этим восточнославянским племенам было присуще «родовое сознание», которое, по мнению исследователей, проявлялось в уважительном отношении как к старшим членам семьи, так и к предкам. Отсюда ценностями семейной жизни признавали уважение к старшим, доброту, силу духа, смелость, трудолюбие, взаимопомощь [ Власова ].
Анализ произведений древнерусской литературы, русских народных сказок и пословиц, проведенный Е. В. Кричевской, также выявил достаточно высокую ценность рода и семьи в жизни народа [ Кричевская , 2009, с. 11].
Сущность православной концепции семейного устройства заключается в особом восприятии семьи – как Малой Церкви , обеспечивающей духовное единство всех ее членов. Впервые в человеческой истории союзу мужчины и женщины был придан божественный смысл «единства во плоти», не разрушаемого внешними обстоятельствами и продолжавшегося в детях. По справедливому суждению Р. А. Лопина, «единство христианской семьи – есть единство судьбы», когда супружество «образует единое психологическое пространство семьи, в котором муж, жена, дети живут во взаимном доверии и уважении, вместе преодолевая жизненные трудности» [ Лопин , 2009, с. 274].
Таким образом, на основе сочетания народно-бытовой и христианской концепций к ХIV– ХV вв. на Руси сформировалась новая концепция семейного уклада, которую мы можем обозначить как национальную . Сущность ее заключалась в переосмыслении языческого идеала под воздействием православного христианства, приведшем к возникновению ярко выраженных архетипов отцовства и материнства. И если идеальные качества отца имели истоки в образе любящего Бога и Христа, то высокое почитание материнства сложилось из сочетания культа Матери-Сырой Земли и Богородицы.
Это была патриархальная семья, отношения в которой строились по принципу иерархии, подчиненности младших старшим. Главой в семье был старший, а следовательно, наиболее опытный, мужчина, он же распределял обязанности в доме и нес ответственность за всех своих домочадцев.
Сложившаяся национальная традиция понимания семейного устройства в значительной степени определила направление развития русской семьи на несколько столетий вперед и, несмотря на все исторические перипетии XV–XVIII вв., к середине XIX в. в целом сохранилась.
В первую очередь глубоко укоренилась и даже приобрела более суровые черты эта традиция в русском крестьянстве. Социальные историки отмечают, что «понятие семьи для крестьянства было тождественным понятию “дом” в значении “домохозяйство”» [ Миронов , 1999, с. 221]. Таким образом, семьей считалась группа родственников, так называемая составная семья (отец, мать, их холостые и семейные дети, жены и дети последних и т.п.), проживающая в одном доме и ведущая совместное домохозяйство.
Составная патриархальная семья характеризовалась строгой половозрастной иерархией семейной жизни с контролем главы семьи над всеми домочадцами, а также признанием приоритета семьи как целого над индивидуальными запросами и интересами ее членов [ Рабжаева ]. Об этой подчиненности личности коллективным интересам патриархальной семьи пишет в своей работе «Историческое изменение институтов семьи и брака» С. Н. Гавров, в частности, называя ее «соборной или холистской идеологией» русского традиционного семейного уклада [ Гавров , 2009]. Ученый цитирует И. Киреевского, отмечавшего, что если мы захотим «вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, то заметим, что каждый член семьи никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. Мысли о собственной выгоде совершенно отсек он от самого корня своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и пружина» [цит. по: Гавров , 2009].
Таким образом, заключает Ю. Рябцев, «авторитет семьи в народе был необычайно высок» [ Рябцев ].
Как свидетельствует В. Широков в статье «Семья и быт русских уральцев в старину», в крестьянских семьях главой дома, «хозяином», считался старший по возрасту мужчина – обычно отец семейства. Каждое семейство повиновалось одному из своих членов, большаку, а женщины, кроме того, старшей из них хозяйке – большухе. От большака зависели все хозяйственные распоряжения по дому. При этом жена-хозяйка принимала участие в решении всех семейных вопросов, хотя и признавала старшинство мужа, как повелевали обычай, закон и православная вера [Широков].
Родители были для своих детей непререкаемым авторитетом. Даже взрослый сын беспрекословно подчинялся отцу [ Рябцев ]. Как правило, без благословения родителей дети не принимали сколько-нибудь важных решений. При этом допускались разные средства и методы «учебы», в том числе телесное наказание, хотя последнее более было распространено в казачьей среде. С. В. Максимов, знакомившийся с жизнью уральских казаков в середине XIX в., писал, что у них «глава семейства вообще строг, рукавицы его, в самом деле, ежовые, а нагайка бьет одинаково больно и зашалившую жену, и непокорного сына». У других сословий такая мера наказания допускалась в исключительных случаях [ Широков ].
Значение семейной и церковной жизни и их глубокую взаимосвязь в восприятии простого русского народа подчеркивает в своей работе «Крестьянская повседневность» В. Б. Безгин. В частности, он отмечает, что русский крестьянин воспринимал православие не как свод догм, а как обращенную к каждому истину, формирующую жизненные устои и отношения [ Безгин , 2004, c. 152]. Историк ссылается на мнение К. П. Победоносцева, согласно которому русский крестьянин всегда стремился к высшим идеалам жизни, убежденный в том, что цель его земного существования находится по ту сторону гроба и он живет для вечности [см.: Безгин , 2004, с. 153]. Поэтому святость венца и святость семейных уз долгое время сохранялись в крестьянских семьях. Более того, положение и авторитет крестьянина в сельской общине определялись не только его трудовыми навыками, но и отношением к семье и церкви, а также выполнением им Христовых заповедей милосердия и терпения. При этом нами не отвергаются многочисленные свидетельства современников, рассказывающие о невежестве и суевериях в крестьянской среде [ Леонтьева , 2001, с. 170], однако речь идет об общепризнанной норме поведения, которая, безусловно, предполагала наличие религиозного сознания и приоритет семейных и общинных ценностей над индивидуальными.
После Великих реформ крестьянский семейный быт начинает изменяться в сторону обособления членов большой семьи: происходит постепенное отделение взрослых сыновей от родителей, что способствует распространению в крестьянской среде малой (нуклеарной) семьи [ Рабжаева ], а также начинается отток части взрослого (в основном мужского) населения в города на заработки и приобщение, тем самым, к городскому быту. По наблюдениям этнографа конца XIX в. Н. Романова, большое количество молодых крестьян в это время оставляют деревню и, возвратившись с изменившимися понятиями и наклонностями и ослабевшими родственными чувствами, заводят свое хозяйство [ Романов , 1886, с. 161]. О постепенной замене коллективного сознания индивидуальным в среде сельской молодежи, а также о некоторой утрате авторитета родителями свидетельствуют рапорты приходских священников той эпохи [ Безгин , 2004, c. 104]. Таким образом, к началу нового столетия в среде крестьянства происходит постепенное расшатывание традиционных устоев патриархальной семьи, сопровождающееся возрастанием значения для человека личных ценностей по сравнению с семейными, общинными и религиозными.
Патриархальные традиции жизни русских казаков помимо общинного сознания и христианского мировоззрения имели в основе идею служения Отечеству. Именно это служение считалась главным делом казака и даже было выше долга перед семьею. Как и крестьянские, казачьи семьи были большими и неразделенными. Главой семейства являлся старший по возрасту казак, авторитет его был очень высок: он распределял и контролировал работу членов семьи, к нему стекались все доходы, он обладал единоличной властью. Аналогичное положение в семье занимала мать в случае отсутствия хозяина. Особым почетом в станицах и хуторах пользовались старики. Заслуженные воины, побывавшие во многих переделках, они были хранителями казачьих традиций и своеобразной совестью казачества [ Селивёрстова ]. И, хотя процесс деления больших семей охватил в начале XX в. и казачью среду, само семейное устройство казачества не претерпело таких значительных изменений, как в крестьянском сословии: авторитет старших был по-прежнему очень высок, что отчасти подкреплялось военной дисциплиной и иерархией казаков.
Семейное устройство белого духовенства в своих главных чертах мало чем отличалось от народного семейного быта. Семьи приходских священников были также многодетны и строились на принципе иерархического подчинения главе семьи. Однако существовали и некоторые различия:
жены священников, как и сами они, часто имели хорошее образование и учительствовали в школах при церквях, что сказывалось на воспитании и образовании детей [ Савичева , 2010, с. 304], а семьи духовенства изначально представляли собой простое домохозяйство (т.е. то, что принято назвать нуклеарной семьей). К тому же к концу XIX столетия в семьях белого священства наметился раскол между поколениями родителей и детей, связанный, с одной стороны, с всеобщим охлаждением к религиозной жизни в обществе, а с другой – с непростыми процессами внутри самого духовного сословия. Многие молодые люди, приходившие учиться в семинарии, часто выбирали эти учебные заведения не по призванию, а по наследственной принадлежности к духовенству, из-за возможности получить хорошее образование, по карьерным или иным соображениям. В результате в семинариях царила атмосфера безверия, лицемерия, а часто ханжества и жестокого невежества, еще больше отдаляющая учеников от Бога [ Дубасов , 1993, с. 262–283; Бирюков , 1969, с. 99; Леонтьева , 2001, с. 170–178]. По меткому выражению В. О. Ключевского, духовные учебные заведения в те годы были больше похоже на богадельни для преподавателей и учеников, где «больше богохульствуют, чем богословствуют» [ Ключевский , 1990, с. 377]. Наиболее честные юноши из утративших веру уходили «в революцию», чтобы служить народу, навсегда порывая с миром родительской семьи.
Вторая половина XIX в. во всех исторических работах, посвященных изучению быта российских сословий, характеризуется как период «оскудения» дворянства, потерявшего значительную материальную поддержку в связи с отменой крепостного права. Однако, как отмечается в диссертации А. В. Наумова, «дворянство, несмотря на бурное развитие капитализма и выход на общественную арену новых социальных сил, сохраняло свои сословные привилегии и продолжало играть важную роль в политической, общественной, культурной жизни страны» [ Наумов , 2009, с. 3]
Следует также отметить и тот факт, что именно в дворянском сословии еще в начале XIX в. происходит изменение в понимании сути семейного устройства жизни человека. Так, по словам М. В. Коротковой, характерной чертой дворянских семей становится глубокий синтез национальной и европейской культур [ Короткова , 2009, с. 39]. Поэтому в дворянской среде, первом из всех сословий, традиции и обычаи, принятые в предыдущем веке и отличавшиеся известной патриархальностью, начинают вытесняться новыми, более либеральными правилами [ Колганова ]. Как отмечает М. В. Короткова, дворянская семья начинает строиться на новых принципах: супружество понимается как союз двух родственных душ, возрастает роль женщины, которая становится женой-другом, власть мужа теперь носит более утонченный и просвещенный характер, отношения мужа и жены основываются на родстве вкусов и взглядов [ Короткова , 2009, с. 34].
Таким образом, дворянская семья еще в начале XIX столетия становится малой (нуклеарной) семьей, отношения в которой приобретают отдельные черты, присущие эгалитарной семье.
Вслед за дворянским сословием отчасти демократизируются отношения и в семьях представителей городской интеллигенции, также близких к идеалам европейского просвещения. К концу века отход от патриархальности, сопровождающийся демократизацией супружеских и детско-родительских взаимотношений, становится нормой для семей дворянского сословия и разночинной интеллигенции, нормой, постепенно проникающей и в другие сословия.
Активное развитие капитализма в конце XIX в. выдвинуло на первый план представителей купечества, получивших благодаря своим денежным средствам большой вес в обществе. Как полагает Г. С. Рыкина, «менталитет купечества формировался на православных традициях, общинных крестьянских взглядах старшего поколения, предусматривавших уважение к бедным людям, оказание материальной и духовной помощи всем нуждающимся. В основе этих процессов лежали вера в Бога, уважение к труду, соблюдение кодекса чести купца» [ Рыкина , 1999, c. 24].
Следует отметить, что купеческая семья изначально строилась как форма купеческой компании, семейное предприятие, в котором были заняты, как правило, все члены семьи [Брянцев, 1999]. По мнению И. В. Масловой, особенности бытоустроения купеческих семей, к которым относятся преобладание коллективных ценностей над личными, составной тип семьи, к концу XIX столетия постепенно утрачивались, и вырабатывалась общая модель поведения и быта городской семьи. Причем эти процессы в первую очередь затрагивали представителей столичного купечества, стремившихся приобщиться к дворянскому образу жизни, а потом уже и провинциальных купцов и членов их семей, для которых традиционные сословные черты и поведенческие установки сохранялись вплоть до XX в. [Маслова, 2009. с. 242]. К такому же выводу приходит и Ю. М. Гончаров, отмечающий, что «сибирское купечество в 60–90-х гг. XIX в. постепенно отходило от народных тра- диций и обычаев, вырабатывало свои ценностные ориентации, нормы поведения и образ жизни» [Гончаров]. При этом ученый подчеркивает, что в рассматриваемый исторический период происходит общее «размывание прежних сословных границ и сословных ценностей» [Там же].
Таким образом, купеческая семья в целом сохраняла традиции патриархальности, которым, однако, следовали в меньшей мере в связи с повышением образованности сословия и демократизацией на этой почве внутрисемейных отношений, а также в результате общей урбанизации жизни в конце XIX столетия.
Семейное устройство городских рабочих – общественного класса, широко распространившегося в России в эпоху капитализма, испытывает еще большее давление социальной среды. Как отмечают многие исследователи положения рабочего класса в царской России в начале XX в., «на арену истории вышел новый слой людей, стереотипы поведения и мышления которых отличались от патриархальных русских традиций» [ Залунаева , 2005, c. 3]. Как правило, рабочими становились крестьяне, пришедшие на заработки в города, и беднейшие из мещан. Семьи свои крестьяне по большей части оставляли в деревнях, изредка наведываясь туда по праздникам и посылая часть своих скромных заработков, или же забирали жену и детей с собой. Как первый, так и второй вариант был нелегок для всей семьи: длительная разлука способствовала отчуждению членов семьи друг от друга, а совместное проживание при отсутствии самых элементарных бытовых условий также приводило к отчуждению и конфронтации.
Одной из самых серьезных проблем рабочих семей являлось отсутствие постоянного жилья: люди были вынуждены обустраиваться в тесных казармах и бараках либо снимать всевозможные «углы», платя за них значительную часть своего заработка. Все это способствовало росту напряженности между представителями различных семей и антисанитарии, с которой немногочисленные медики справиться не могли [ Залунаева , 2005, c. 6]. К тому же оторванные от привычного крестьянского семейного уклада рабочие принимали новую систему ценностей, в которой семья, вера, община занимали, как правило, незначительное место. Социальные историки свидетельствуют об увеличении женской власти в семьях рабочих [ Безгин , 2004] и о возникновении тенденций к ослаблению религиозной жизни, семейных и родственных связей [ Залунаева , 2005, c. 10]. По мнению А. Головатенко, вчерашние крестьяне, переселившиеся из деревень в города, вырывались из привычного окружения, но так и не обрели твердой почвы под ногами и устойчивых ценностных ориентаций. В итоге в фабричных поселках происходило сосредоточение людей, не уверенных в своем будущем, не дороживших прошлым, смутно ориентировавшихся в настоящем [см.: Крижанов-ский ].
Исходя из нашего исследования можно сделать следующие выводы:
-
1. Национальная концепция семейного устройства императорской России основывалась на патриархальных принципах соборности, работы на благо семьи, подчиненности детей и женщин главе семьи – мужчине, которым следовали неукоснительно. Подобный принцип семейной солидарности был передан И. Киреевским следующим образом: «человек для семьи и во имя семьи» [цит. по: Гавров , 2009]. Эта традиция сохранялась до середины XIX в. практически во всех сословиях (невсегда поддерживали ее только дворянство и часть интеллигенции).
-
2. На рубеже XIX и XX вв. в семейном устройстве практически всех сословий царской России наблюдается тенденция постепенного освобождения членов семьи из-под ее власти, проявившаяся в либерализации детско-родительских и супружеских отношений. Этот процесс был связан с постепенной утратой «соборного» семейного сознания, которая привела к преобладанию индивидуальных ценностей личности над семейными и групповыми.
-
3. Исторические свидетельства о сходных процессах трансформации семейного устройства различных сословий позволяют считать, что в изучаемый период происходило «размывание» сословных границ и постепенное сближение разных слоев населения. Исходя из данного факта мы также можем заключить, что сословное деление общества не являлось ни скрепляющим материалом для государства, ни явным тормозом в развитии страны, хотя в какой-то мере именно сословное деление рождало социальный протест «низов» против «верхов». При этом необходимо учитывать и мнение В. О. Ключевского, в частности, о том, что «чем плотнее и замкнутее сословие, тем сильнее сжимает оно отдельных лиц своими требованиями, понятиями и нравами, сковывая личную свободу» [ Ключевский , 2002]. Увеличение роли личного начала в русском обществе рубежа веков свидетельствует как раз об обратном: сословное разделение перестало играть в стране суще-
- ственную роль.
-
4. Уменьшение значимости семейных и религиозных начал русской жизни, сопровождающееся социально-экономическими преобразованиями в стране, в целом характеризовало российское общество рубежа XIX и XX вв. как общество «переходного» типа, с изменяющейся системой ценностных ориентаций. Веками складывающаяся иерархия ценностей: Бог – семья – общественное служение – личные интересы – теряла свой приоритет у молодого поколения русских людей. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, и привело страну к кризисам 1905 и 1917 гг., последнего из которых императорская России не пережила (недаром известный эсер-максималист Б. В. Савинков говорил, что революция – это не социальный, а в первую очередь духовный кризис).
К сожалению, русская семья и православная вера не смогли стать для нашей страны теми «скрепами», которые бы удержали ее от революционных потрясений и от их последствий, ощущаемых нами до сих пор.
Список литературы Русская семья рубежа XIX и XX вв. в зеркале сословных различий: историко-культурный аспект
- Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX -начала XX вв.)/Тамбов. гос. техн. ун-т. М.; Тамбов, 2004.
- Бирюков В. П. Уральская копилка. Свердловск, 1969.
- Брянцев М. В. Культура русского купечества: воспитание и образование. Брянск, 1999.
- Власова Т. Духовное содержание ценностей семейного воспитания в Древней Руси [электронный ресурс]. URL: http://nansysan.narod.ru/index3021.html
- Гавров С. Н. Историческое изменение институтов семьи и брака: учеб. пособие. М., 2009 [электронный ресурс]. URL: http://www.bibliotekar.ru/gavrov-2/10.htm
- Гончаров Ю. М. Городская семья второй половины XIX -начала XX вв. [электронный ресурс]. URL: new.hist.asu.ru/biblio/.../268-310p.html
- Дружинин В. Н. Психологические типы семьи в европейской культуре. М., 1995.
- Дубасов И. И. История тамбовской церкви//Очерки по истории Тамбовского края. Тамбов, 1993.
- Залунаева Е. А. Повседневная жизнь рабочих Ярославля во второй половине XIX -начале XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2005.
- Ключевский В. О. История сословий в России: полный курс лекций. М.: 2002 [электронный ресурс]. URL: www.twirpx.com/file/62215/
- Ключевский В. О. Материалы разных лет//Соч.: в 9 т. М., 1990. Т. 9.
- Колганова А. Идеал поведения в семье столичного дворянина России первой половины XIX века: традиции и новации [электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/051006163916
- Короткова М. В. Эволюция повседневной культуры московского дворянства в ХVIII -первой половине ХIХ вв.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М, 2009.
- Крижановский А. И. Социальная структура России начала XX века [электронный ресурс]. URL: http://www.historichka.ru/works/socialnoe_polojenie_nachalo_20/
- Кричевская Е. В. Историко-культурные представления о роли отца в российской семейной традиции: автореф. дис. … канд. пед наук. СПб., 2009.
- Леонтьева Т. Г. Православная культура и семинарский быт (на материалах Тверской губернии конца XIX -начала XX вв.)//Отеч. история. 2001. № 3.
- Лопин Р. А. Кризис современной российской семьи как фактор отказа от традиционной системы нравственных ценностей: матер. всерос. науч.-практ. конф. «Семья -культура -образование в изменяющейся России»/под ред. О. В. Бессчетновой. Саратов, 2009.
- Маслова И. В. Стереотипы поведения, традиции, ментальность уездного купечества Волго-Камского региона в XIX -начале XX вв. как образовательный сегмент при изучении истории российского предпринимательства в вузе: матер. всерос. науч.-практ. конф. «Экономические и правовые аспекты регионального развития: история и современность». Елабуга, 2009.
- Миронов Б. Н. Социальная история России (XVIII -начало XX вв.): в 2 т. СПб., 1999. Т. 1.
- Наумов А. В. Судьбы российского дворянства в ХХ веке: автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2009.
- Рабжаева М. В. Семья в русском обществе: исторический и социокультурный анализ [электронный ресурс]. URL: http://www.gender-cent.ryazan.ru/rabzhaeva1.htm
- Романов Н. Село Каменка и Каменская волость Тамбовского уезда. Тамбов, 1886.
- Рыкина Г. С. Московское купечество в конце XIX -начале XX столетия: дис.... канд. ист. наук. М., 1999.
- Рябцев Ю. Крестьянская семья//История русской культуры: Художественная жизнь и быт XI-XVII веков. М., 1997 [электронный ресурс]. URL: http://www.booksite.ru/ancient/reader/family_03.htm
- Савичева В. В. Портрет жены священнослужителя XIX-XX вв. (по материалам Вологодской епархии): матер. междунар. науч. конф., 22-23 октября 2010 г./отв. ред. А. Ю. Балыберин. Киров, 2010.
- Селивёрстова М. Повседневная жизнь астраханского казачества в конце XIX -начале XX века: опыт историко-антропологических исследований. М., 2003 [электронный ресурс]. URL: http://www.el-history.ru/node/418
- Скутнев А. В. Ментальность духовного сословия и менталитет русского народа до 1917 г.: матер. междунар. науч. конф., 22-23 октября 2010 г./отв. ред. А. Ю. Балыберин. Киров, 2010.
- Широков В. Семья и быт русских уральцев в старину [электронный ресурс]. URL: http://openural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=181&limitstart=1