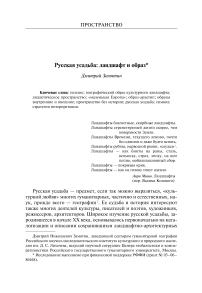Русская усадьба: ландшафт и образ
Автор: Замятин Дмитрий Николаевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Пространство
Статья в выпуске: 1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Генезис, географический образ культурного ландшафта, дидактическое пространство, "маленькая европа", образ-архетип, образы внутренние и внешние, пространство без истории, русская усадьба, символ, стратегии интерпретации
Короткий адрес: https://sciup.org/14911941
IDR: 14911941
Текст статьи Русская усадьба: ландшафт и образ
Ландшафты благостные, скорбные ландшафты.
Ландшафты странствующей жизни скорее, чем поверхности Земли.
Ландшафты Времени, текущего лениво, почти без сдвигов и даже будто вспять.
Ландшафты рубищ, нервозной рвани, «саудад» 1. Ландшафты — как бинты на раны, сталь, вспышку, страх, эпоху, на шее петлю, мобилизационный сбор.
Ландшафты — покрывая крик.
Ландшафты — как на голову тянут одеяло.
Анри Мишо. Ландшафты (пер. Вадима Козового)
Русская усадьба — предмет, если так можно выразиться, «культурной любви» многих гуманитарных, частично и естественных, наук, прежде всего — географии 2. Ее судьба и история интересуют также многих деятелей культуры, писателей и поэтов, художников, режиссеров, архитекторов. Широкое изучение русской усадьбы, зародившееся в начале XX века, основывалось первоначально на каталогизации и описании сохранившихся ландшафтно-архитектурных
Дмитрий Николаевич Замятин, заведующий сектором гуманитарной географии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, ведущий научный сотрудник Центра глобалистики и компаративистики Российского государственного гуманитарного университета, Москва.
комплексов. Хотя эта задача и до сих пор остается одной из важнейших, наряду с ней постепенно обозначилась другая, не менее важная, — задача описания и интерпретации различных образов русской усадьбы, прежде всего в культуре. Эти две обобщенные задачи тесно взаимосвязаны: образы культурных явлений или реальностей влияют на парадигмы и процедуры культурно-ландшафтных описаний; подробные обмеры и характеристики конкретных усадебных территорий «зацепляют» воображение ( engaging imagination ), заставляют его работать в разных контекстах и режимах восприятия культурного ландшафта усадьбы.
Тема географических образов русской усадьбы — очень благодарная, ибо здесь мы наблюдаем культурные ландшафты, практически уже готовые к возможным интерпретациям 3. Вскормленный прежде всего образом пассеизма , то есть навсегда «уходящей натуры», культурный ландшафт русской усадьбы создавал фактически готовые фреймы (слепки, формы) восприятия места — места на границе высокой и низкой, элитарной и народной/массовой культур, городского и сельского ландшафтов. Ведущий образ-архетип в данном случае — это «дистиллированная» культура, обладающая идеалом чистой, «незамутненной» природы и пасторального пейзажа. Надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что такой образ вполне сознательно взращивался и обихаживался в русской культуре в XIX — начале XX века. Вне зависимости от того, насколько он соответствовал реальности (которая сама чаще всего — соглашение между наиболее влиятельными социокультурными группами и личностями, творящими и распределяющими в обществе наиболее «сильные» образы и символы), он стал корневым, возможно, онтологическим, для целого кластера интерпретаций русской усадьбы и ее ландшафтных производных.
Географический образ культурного ландшафта: определение, стратегии интерпретации, классификации
Рассматривая русскую усадьбу как один из типичных и в то же время один из наиболее оригинальных и значимых культурных ландшафтов России, мы должны более подробно разобрать проблематику культурного ландшафта в образно-географической трактовке, определить понятие географического образа культурного ландшафта, выявить основные стратегии классификации данных образов и в этом контексте исследовать специфику географических образов русской усадьбы.
Культурные ландшафты — «лакомый кусок» для многих гуманитарных дисциплин. Воспринимаемые в определенных географических координатах, конкретные культурные ландшафты приобретают, тем не менее, ряд характеристик, не сводимых к их местоположению. Образная «иррадиация», свойственная самому понятию культурного ландшафта, способствует расширению круга возможных интерпретаций. Любая культура занимается размещением и осмыслением занятого ею земного пространства; реальное пространство преобразуется посредством наращивания последовательных (иногда одновременных) «слоев» культурных ландшафтов, являющих это пространство заинтересованному наблюдателю и/или участнику ландшафтных событий. Жизнь культурного ландшафта — это взаимодействия, столкновения, притяжения различных образов, значительная (часто большая) часть которых может быть названа географическими образами.
Культурные ландшафты. Прежде чем определить, что такое географические образы культурных ландшафтов, дадим с образно-географической точки зрения простейшее операциональное определение понятию «культурные ландшафты». Культурные ландшафты — это территории или пространства, воспринимаемые и наблюдаемые через призму культуры, социокультурных ценностей, знаков и символов 4. Культурные ландшафты во многом являются пространствами, способствующими активному порождению и формированию географических образов, эмоциональному, рациональному и концептуальному переживанию пространства.
Культурное ландшафтоведение всегда было тесно связано со страноведением, прежде всего географическим. Во второй половине XIX века начинается довольно мощное содержательное и концептуальное развитие географического страноведения, которое в начале XX века сделалось, по сути, ядром географической науки в целом 5. В рамках географического страноведения использование географических образов стало более эффективным, а понятие географического образа — более определенным и структурированным. Описание и характеристика пейзажа в работах французской школы географии человека 6 — это, фактически, прямое выделение и структурирование географических образов местностей, регионов и стран. В контексте страноведческих работ данного периода понятие пейзажа или ландшафта является инвариантом географического образа, а сам этот образ в географической науке — непосредственным методологическим и теоретическим «инструментом» исследования. Смысл образно-географического исследования заключается в выявлении и использовании наиболее ярких, запоминающихся черт, знаков, символов определенной местности, района и/или страны.
Теперь можно дать определение географических образов культурных ландшафтов. Это самые яркие, явные, характерные представления, знаки и символы переживаемых в культуре и культурой территорий и пространств, формирующие активные, постоянно расширяющиеся в содержательных смыслах образно-географические системы. Иначе говоря, основополагающий признак географических образов культурных ландшафтов — стремление к постоянному расширению содержания и углублению смыслов пространства.
В силу их сравнительной неоформленности, мягкости, плавности и известной неопределенности границ географические образы культурных ландшафтов — наиболее удобное поле для образных экспериментов и исследований. Реальный географический масштаб конкретных культурных ландшафтов всегда фиксируется лишь приблизительно, что позволяет осуществлять игру этими масштабами, соотносить любой ландшафт с целым веером его подобий. Именно известная фрактальность или «зеркальность» культурных ландшафтов ведет к формированию неустойчивых зон образно-географических переходов, где несколько сходных или близких ландшафтов создают как бы образный кластер, концентрирующий наиболее важные образы-архетипы.
Интерпретации географических образов культурных ландшафтов. В первую очередь они возможны в процессе установления между образами связей расширения или связей контекста. Уединенное, замкнутое, «оторванное» состояние географических образов определенного культурного ландшафта невозможно. Задача интерпретации в данном случае заключается в выявлении, подчеркивании и развитии уже намеченных «вчерне» латентных связей между географическими образами различных культурных ландшафтов.
Интерпретации возможны и даже необходимы в случае создания или разработки таких образов, которые пока не существуют в реальном пространстве и в то же время представляют собой продукт проективной (проектной) художественной, философской или историософской мысли. Здесь стоит сослаться на пример знаменитого города Солнца Томмазо Кампанеллы, да и на все вообще проекты идеальных городов, начиная с платоновского и заканчивая проектами французских социалистов-утопистов XIX века, архитекторов, градостроителей и писателей — XX7. Особо выделим проект города Солнца русского архитектора Ивана Леонидова 8.
Факторы интерпретации географических образов культурных ландшафтов. Первый из них — это наличие или отсутствие целенаправленного, специфического концептуального контекста, который задает большинство или значительное количество параметров самой интерпретации. Данный фактор важен для образов, формируемых в урбанизированных средах тоталитарного характера (слово «тоталитарный» используется здесь расширительно, не только и не столько в политическом контексте). Хотя такие урбанизированные среды действительно формировались в тоталитарных обществах фашистской Германии и сталинского СССР 9, однако они во многом характерны и для современных США. Тоталитарные урбанизированные среды отличают постоянные повторы мощных архитектурно-средовых линий, создающие в итоге иллюзию самоповтора и самоуничтожения, исчезновения чувства аутентичности земного пространства.
Еще один фактор — внутренняя энергетика рассматриваемых образов. Тут как раз показательны географические образы русских классических помещичьих усадеб. Они задают, как правило, несколько основных направлений интерпретации, связанных с темами пассеизма русской дворянской культуры и ландшафтной организации господского парка или сада 10. В последней теме важна проблематика незаметного или постепенного перехода сада в лесные массивы или обрабатываемые поля, шире — в какую-либо другую природную стихию (например, море или реку) или в другой культурный ландшафт, имеющий иные принципы и формы организации 11.
Выделим по порядку стратегии интерпретации географических образов культурных ландшафтов.
Первая стратегия обусловлена стремлением доказать однонаправленность образов, их предрешенность или предрасположенность к какой-либо одной образной конфигурации. Она ориентирована на выстраивание образов в одну цепочку, в которой каждый последующий образ в соответствии с логикой его развития сцеплен с предыдущим, и часто используется для трактовки образов (пост)советского пространства 12. Если она принимается, крайне важно продумывать связи отдельных образов культурных ландшафтов и процессы их взаимодействия. Так, памятник Ленину — наиболее типичный образ практически всех городских поселений бывшего СССР — в рамках такой интерпретации должен каждый раз «всмысливаться» в ауру конкретного областного или районного центра.
Вторая стратегия предполагает, как правило, постоянное расширение возможных для исследования семантических полей географических образов определенного культурного ландшафта. Она направлена на поиск дополнительных знаков и символов, адекватно характеризующих изучаемые образы. Например, образы культурных ландшафтов Русского Севера могут интерпретироваться и в контексте общей проблемы семантической организации географического и/или сакрально-географического пространства, и в рамках широкого понимания самой проблемы наследия 13. При первом варианте переход к проблеме сакрально-географического пространства предполагает встраивание образов Русского Севера в более масштабные схемы-архетипы культурных ландшафтов космогонического происхождения; при втором — наследие может осмысляться как достаточно креативный элемент социального и культурного пространства региона или страны, участвующий в формировании перспектив самого региона. Возможен и третий, синтетический, вариант, когда природное и культурное наследие территории осмысляется как основа для создания новых образных космогоний, в рамках которых привычные культурные ландшафты интерпретируются как участники борьбы вечных стихий — суши и моря, земли и воды, земли и неба. В таком контексте сакрализация ландшафта происходит естественно — посредством подъема его образа на уровень наиболее масштабных космогонических архетипов.
Третья возможная стратегия — сетевая. Она направлена на включение отдельных географических образов рассматриваемого культурного ландшафта в другие, иногда содержательно и/или концептуально далекие, образно-географические системы. Цель такой стратегии — выявление неожиданных содержательных связей между системно различными образами. Например, схема Московского метрополитена может быть включена в образно-географическую схему мира в качестве образного элемента культурного ландшафта Москвы. Образы различных стран, регионов и континентов могут быть соотнесены со станциями метро; каждая станция может соответствовать какому-либо образу страны и/или региона — достаточно соблюсти лишь общую ориентацию по странам света, общую геотопологию земного пространства 14. Сетевая интерпретация может побуждать к постановке вопроса о целенаправленном изменении архитектурного и средового оформления тех или иных станций метро либо всей городской среды отдельных районов Москвы.
На методологическом уровне напрашивается следующий вывод: географические образы культурных ландшафтов могут рассматриваться как фундамент для создания идеальных образцов и конструктивных элементов моделирования географических образов в целом. Культурные ландшафты по-своему «расправляются» с природой, сотворяя из нее ряд осмысленных в культуре и культурой ментальных концептов, которые, в свою очередь, служат удобными «кирпичиками» при разработке различных образно-географических схем. Иначе говоря, культура работает как своего рода географическая «мельница», перемалывающая реальные признаки определенных территорий в сравнительно простой и понятный образный конструктор.
Классификации географических образов культурных ландшафтов. Первая классификация может быть названа генетической, учитывающей культурное происхождение наиболее мощных образов. Специфика этой классификации связана с тем, что в самой культуре проведены различия между теми ее видами, жанрами, типами, в рамках которых наиболее сильно переживается определенный культурный ландшафт. Например, культурный ландшафт Петербурга наиболее сильно переживается через географические образы, порожденные и сформированные литературными произведениями (в основном XIX — начала XX века), затем уже графикой и живописью (здесь решающую роль сыграли графика и живопись «Мира искусства» в начале XX века 15). Хотя в зачаточном виде эти образы были предопределены архитектурой и планировкой города на Неве, а те, в свою очередь, зависели от природного окружения, именно художественная литература запустила «ядерные реакции», которые привели к появлению ярких и специфических образов культурных ландшафтов Петербурга. Следует также отметить, что со временем господство одних образов может сменяться господством других. Например, в образах Петербурга к концу XX века значительную роль стали играть метафизические спекуляции на тему пространств северной столицы, а также образы художественной фотографии, фиксировавшей, с одной стороны, медленное угасание, разрушение исторической среды, с другой, знаки былого величия имперской столицы 16.
Суть второй классификации — в установлении степени или пределов образной экспансии географических образов определенного культурного ландшафта. Здесь в первую очередь обращают на себя внимание образы наиболее масштабной экспансии — те, что постоянно транслируются различными художественными или культурными способами, а также средствами массовой информации. Таковы, например, образы Нью-Йорка с их широко известным визуальным рядом: Бродвей, Гудзонов мост, Статуя Свободы, башни Всемирного торгового центра до событий 11 сентября 2001 года (разрушение башен в результате теракта привело к появлению их фантомных образов, осмысляемых уже в рамках глобальных культурных ландшафтов). Масштабные образы присутствуют фактически повсеместно в границах современной ойкумены, в пространствах большинства мировых цивилизаций. Далее следуют образы средней силы, передаваемые достаточно эффективно в пределах, как правило, пространств региональных цивилизаций. Так, образы Русского Севера воспринимаются преимущественно в рамках российского культурного пространства 17. Наконец, сравнительно локальные, небольшие по силе воздействия и степени распространения образы известны и воспринимаются почти исключительно в небольших культурно-территориальных общностях. Например, таким типовым образом может быть сельская церковь, хорошо вписанная в местный природный ландшафт и ставшая культурной достопримечательностью какого-либо небольшого района.
Третья классификации основывается на принципе соответствия/ несоответствия географических образов культурному ландшафту, который они представляют. В ее рамках можно анализировать географические образы сельских (руральных, пасторальных) либо городских (урбанистических, техногенных) ландшафтов. При этой классификации возникает проблема взаимодействия природной среды и соответствующих/не соответствующих ей образов культурных ландшафтов. Коренится она в концепции географического детерминизма, в которой культура жестко «вписывается» в природу, обретая поистине природно-климатические образные коды. Однако образное по преимуществу происхождение любых культурных ландшафтов диктует постепенное наращивание когнитивной дистанции между первозданным, запечатлеваемым впервые пространством, и пространством, «пропитанным» знаками и символами одомашненных территорий 18.
Теперь можно подробно остановиться на механизмах подобных трансформаций на примере географических образов русской усадьбы.
Географический образ русской усадьбы: генезис, особенности развития и восприятия
Географические образы русской усадьбы начинают формироваться в ту историческую эпоху, когда сама русская усадьба начинает утрачивать полноту ее хозяйственно-культурного и идеологического смыслов, уходить в прошлое. Будучи несомненными нервными окончаниями хозяйственной ткани страны до середины XIX века, усадьбы в своем большинстве не воспринимались современниками как нечто уникальное. Внутри русской культуры XVIII — первой половины XIX века эти ландшафтно-архитектурные комплексы были естественным выражением пространственно-временной ритмики (в том числе сезонной) жизни значительной части образованных и высших слоев общества. Крестьянское и помещичье хозяйство центрировалось и организовывалось усадьбой. Распад культурных и хозяйственных устоев, поддерживавших естественный привычный быт усадьбы, привел во второй половине XIX века к резкому вычленению усадебных локусов из окружавших их пространств. Потеряв былое хозяйственное значение, превратившись по преимуществу в локальные культурные очаги, имевшие значение теперь уже для гораздо менее влиятельных слоев общества, усадьбы стали своего рода топографическими свидетельствами ушедшей на дно жизни. По существу, если до отмены крепостного права, русские усадьбы могли рассматриваться как элементы опорного каркаса расселения и хозяйства, а одновременно и культуры, то после этого эпохального события они постепенно делаются региональными достопримечательностями, служат интеллектуальными укрытиями и «рингами» для идеологических схваток местной и столичной интеллигенции. Именно тогда и именно поэтому стали возникать собственно географические (геокультурные) образы русской усадьбы; уже существовавшие и наработанные до того образы стали быстро «географизироваться». Вполне курьезный вид огромного большинства русских усадеб для европейских путешественников вроде маркиза Астольфа де Кюсти-на, символизировавший безумие часто неуклюжего деревянного классицизма среди бесконечных снегов и постоянных пожаров, внезапно — и в то же время закономерно — стал одним из высоких образцов российского культурного ландшафта, средоточием ландшафтных идеалов вообще.
Генезис географических образов русской усадьбы непосредственно связан со слабо освоенным, чуждым, враждебным, огромным пространством, окружающим островки культуры и творчества, причем это творчество может питаться именно страхом (сочетающимся с преклонением) перед надвигающейся неизвестностью пространств «без истории», пространств «без Европы». Особенно ярко такое восприятие проявляется в творчестве Андрея Белого. Как писатель сам отмечает в «Записках чудака», он прожил в имении Серебряный Колодезь Тульской губернии с 1899 по 1906 год; и многие его произведения («Симфонии», «Пепел», «Серебряный голубь», «Символизм») обязаны своим происхождением этому месту 19. Описание старинного дома и окружающей его местности сопровождается у Белого острыми историософскими переживаниями, он пишет 20:
«Я думал, что там, за канавой, кончалась история; стоило перепрыгнуть через крутую канаву и кануть во ржи, пробираясь по ней еле видною тропкою, — все затеряется — в золоте, в блеске и в хаосе этих бушующих волн; буду я — вне истории; буду я — вне пристанища, вне ежедневных занятий, без тела, охваченный шумами Вечности, и — вознесенный в невероятность безумно открытых сознаний, незнаемых ближними».
Граница усадьбы здесь по существу — граница истории и не -ис-тории, «фронтир», рубеж цивилизации и дикости.
Вместе с тем образно-географический смысл усадьбы проявляется и при постоянном пересечении ее границ, при взгляде на усадьбу со стороны. Творческие взрывы, озарения, судьбоносные решения приходят в момент нахождения вне усадебного локуса, но близко к нему; сама усадьба как бы гарантирует яркость переживаемых образов природы, символизирующих историко-культурные идеи эпохи. Используя термин Петра Савицкого, можно сказать, что усадьба — это эпицентр образно-географического месторазвития . Для Андрея Белого пространством подобных озарений стала не река (усадьба располагалась высоко над рекой), а высшая точка склона, далее плато (очевидный водораздел) и следующий за ним овраг. Сама мысль писателя при этом уподобляется рельефу и ландшафту творимой и творящей одновременно местности. Обратимся вновь к «Запискам чудака» 21:
«Знал я: поднимаяся вверх, попаду я на высшую точку пологого склона, где отовсюду откроются шири, просторы, пространства, воздушности, обла-ки; под ноги тут опускаются земли; и — небо здесь падает; буду я, небом охваченный, вечный и вольный — стоять; разыграется жизнь облаковых громад вкруг меня; если мне обернуться назад, то увижу и место, откуда я вышел (усадьбу); оно — под ногами; и от нее мне видны: только кончики лип (а усадьба стояла высоко-высоко над речкой).
Спускаяся в противоположную сторону от плато, приходил я к дичайшим оскалам овражной системы, сгрызающей плодоносную землю и грозно ползущей на нас; кругозоры сжимались по мере того, как я, прыгая по размоинам вниз, углублялся; и небо оттуда казалось широкою щелью меж круч, на которых скакали, играя с ветрами, — татарники, чертополохи, полыни; здесь некогда перечитал Шопенгауэра; я опускался туда, перерезая слой лёсса, слой глины — до рудобурых железистых каменных глыб (величиною с арбуз), вымащивающих водотек; было влажно и холодно. Стоя посредине плато, я не видел оврагов; как взор, по равнинам текли мои мысли в разбе-гах истории; стлались они надо мной».
Конкретные ландшафтные приметы (рожь, тополя, канава, плато, овраг) в непосредственной близости от усадьбы предстают у Белого этапами и точками духовного развития. Сама усадьба, хотя и описанная также в «Записках чудака» (и не только в них), — лишь исходное место мышления вне какого-либо определенного географического пространства России; образ роста овражной сети рядом с имением вдохновляет образ «желтой» угрозы с Востока.
Восприятие усадьбы в творчестве Андрея Белого как некоей изначальной точки, острова, с которого начинается духовная экспансия на соседние ландшафтные локусы, конечно, не является единичным; скорее, оно типично и во многом связано с культурой русского «серебряного века». Именно тогда географические образы русской усадьбы обретают свою культурную и цивилизационную устойчивость; сама усадьба являет, в известном смысле, образ «пустого места», образ «былого роскошного дворца», образ музейного пространства.
Особенности развития географических образов русской усадьбы определяются как архетипическими образными характеристиками российских пространств в целом — бескрайность, неосвоенность, дикость, рубежность (Европа versus Азия), быстрое расширение, степной и полупустынный характер, — так и специфическими механизмами формирования самих усадебных образов. Сосредоточим наше внимание на этих последних.
В наиболее общем образном смысле русская усадьба есть не что иное, как «маленькая Европа». Дробность культурного ландшафта любой усадьбы и прилегающей к ней местности, несомненно, была выше, чем у большинства других культурных ландшафтов России, включая и значительную часть городских территорий. Культивирование в усадьбе различных научно-образовательных, художественных, рекреационных, сельскохозяйственных, ремесленных, иногда промышленных занятий создавало связь между ней и четко обозначаемыми внутриусадебными локусами; локусы же эти были зачастую эмблематичными и назидательными. По сути дела, усадебная территория представляла собой дидактическое пространство европейского культурного ландшафта — в том виде и в тех образах, в каких он был понят и воспроизведен российским культурным «истеблишментом». И такая пространственная дидактика могла вступать и вступала в противоречие с ведущими образами традиционной сельской местности России, равно как и с индивидуальными образами-архетипами загородных культурных ландшафтов Европы, представляемыми творческой элитой (художниками, писателями, учеными и т. д.). Но надо отдавать себе отчет и в том, что в большинстве европейских стран никогда не было усадеб в том образе и подобии, в каком они сложились в России. Культурный ландшафт в русских усадьбах формировался в виде многослойного «пирога» образов, хотя бы частично удовлетворявшего вкусы и запросы постоянных обитателей и гостей усадьбы.
Устойчивые усадебные образы возникали, как правило, на пересечении и во взаимодействии интра-образов и экстра-образов , иначе — образов внутренних и внешних . Такая когнитивная ситуация развивалась в случае, когда гостем усадьбы оказывался человек-творец, не чуждый усадебному стилю жизни или обладающий способностью быстро осваивать этот стиль. Другими словами, речь опять идет о «человеке фронтира» и о пограничном восприятии. Хороший пример — описание южнорусской усадьбы Чернянка поэтом Бенедиктом Лившицем в его воспоминаниях «Полутораглазый стрелец».
Сумев «войти» в образ жизни Чернянки, Лившиц дал ряд ее ярких примет. Самое важное в его усадебном опыте — умение создать образно-географические контексты усадьбы, в которых конкретная топография Чернянки служит лишь фундаментом для построения более масштабных образов. Ведущие образы, использованные поэтом, — это образы Древней Греции и края ойкумены, великой скифской степи, чудом затронутой античной цивилизацией. Он пишет 22:
«Вместо реального ландшафта, детализированного всякой всячиной, обозначаемой далевскими словечками, передо мной возникает необозримая равнина, режущая глаз фосфорической белизной. Там, за чертой гори- зонта — чернорунный вшивый пояс Афродиты Тавридской — существовала ли только такая? — копошенье бесчисленных овечьих отар. Впрочем, нет, это Нессов плащ, оброненный Гераклом, вопреки сказанию, в гилейской степи. Возвращенная к своим истокам, история творится заново. Ветер с Эвксинского понта налетает бураном, опрокидывает любкеровскую мифологию, обнажает курганы, занесенные летаргическим снегом, взметает рой Гезиодовых призраков, перетасовывает их еще в воздухе, прежде чем там, за еле зримой овидью 23, залечь окрыляющей волю мифологемой.
Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение символа, должна была стать знаменем».
Пространство усадьбы и прилегающей к ней экономии воспринимается через образы и символы древней Тавриды , Гилеи , Ольвии и Пантикапея . Сквозь такое «увеличительное стекло» рассматриваются усадебные чабаны, проводящие круглый год в степи, где они раз-учаются говорить и занимаются скотоложеством; наружная окраска домов в рыбачьих поселках; проход огромных овечьих отар через территорию усадьбы и экономии; гомерические размеры барского дома, количества прислуги и съестных припасов. «...Чернянка, — по словам автора, — обращенная во все стороны непрерывной керме-сой 24, переплескивалась через край» 25. Смысл подобных образных манипуляций — в разработке общего образа-архетипа, идеально описывающего, помимо прочего, и пространство вполне определенной усадьбы. Этот образ-архетип должен словно нависать над драматической топографией усадьбы, быть своего рода судьбоносным и в то же время естественным для мелких, детальных образных локусов.
Русская усадебная культура, ориентированная в основном на патриархальный тип семьи, предполагает доминирование локальных, местных географических образов, общих для большинства усадебных обитателей. Тем не менее в систему таких семейно-усадебных образов входили представления и о географически удаленных странах и территориях, особенно о тех, где побывали те или иные члены семьи. Период развития культурной рефлексии, связанной с русской усадебной культурой, пришелся на время сравнительно больших возможностей для заграничных путешествий. Поэтому географические образы, формировавшиеся в усадебной культуре, были пестрыми, имели множество сравнительных контекстов.
Традиционные усадебные локусы — дом, флигель, парк, сад, пруд — воспринимались (и воображались) как образы-архетипы семейного быта и бытия одновременно. Наряду с этим, семейные события, происходившие в усадьбе, накладывались на ряд других событий, происходивших далеко от нее. В таких многомерных, вариативных ситуациях воображения усадебный пруд или парк могли выступать и как некие реальные места повседневности, и как ассоциативные собирающие образы, позволяющие актуализировать другие географические образы. Иначе говоря, семейное пространство усадебной культуры в образно-географическом плане очень неоднородно, стратифицировано в разных направлениях, а сами усадебные локусы — не столько центральные образы, сколько мультипликаторы, дающие начало образной реакции, становлению различных сосуществующих картин семейных миров.
Проследить механизм формирования подобных образно-географических картин семейных миров в усадебной культуре можно с помощью анализа художественных текстов, описывающих вымышленные или реальные усадьбы и их семейные события. Я попробую проанализировать такой механизм с помощью фрагмента из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
В самом начале романа описываются приезд юного Юрия Живаго в подмосковную усадьбу и жизнь в ней 26:
«Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову».
Писатель включает в описание дорогу к усадьбе, что позволяет сделать одним из героев повествования и классический среднерусский ландшафт 27:
«Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть направо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем».
Дуплянка воспринимается Юрой в контексте его отношений с дядей Николаем Николаевичем, при этом сам дядя является неким отражением Юриной матери, сестры Николая Николаевича. Воспоминания о Дуплянке связаны у Юры с памятью о матери, которая любила природу. Усадьба выступает как собирающий образ семейной памяти, налагающийся на соорганичный ему образ одухотворенной природы 28:
«Юре было хорошо с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся.
Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки».
По пути в Дуплянку Николай Николаевич разговаривает с чернорабочим и сторожем книгоиздательства Павлом, едущим вместе с ними. Разговор посвящен аграрным волнениям в уезде. В описываемое время эта тема обсуждалась в масштабе не только уездном, но и российском. Вдобавок сам Николай Николаевич везет Воскобойникову «корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть» 29. Одновременно дается и краткая характеристика Николаю Николаевичу как глубокому русскому мыслителю, к которому скоро придет слава. Путь в усадьбу становится топосом, в нем переплетаются фундаментальные темы сокровенной семейной памяти и общественных событий всероссийского масштаба, затрагивающих, казалось бы, сугубо приватное пространство усадебного мира.
Описание Дуплянки показывает упадок старого семейного гнезда, вторжение новых, мало связанных с прежним, миров, которые не могут и не хотят осваивать старые усадебные локусы во всей их полноте. Барский дом и центральная аллея парка выглядят заброшенными, ненужными, живут фактически окраины — фрагменты усадьбы, обращенные вовне, к внешним ландшафтам и событиям большого мира. Наряду с этим, в Дуплянке накладываются друг на друга различные семейные истории, отчасти протекающие и в усадьбе, на фоне как будто случайных усадебных пейзажей.
Общение Воскобойникова с Николаем Николаевичем происходит в классическом усадебном интерьере, однако их диалог развертывается поверх традиционных усадебных локусов. Сами темы их спора выносят теплый усадебный быт прошлого на холодный ветер переполненного социальными проблемами мира, окружающего усадьбу. Усадебные локусы, даже внешне соответствуя этой ситуации, пребывают в видимом запустении, но все-таки остаются чем-то вроде символических декораций, без которых диалоги новых людей, новые истории были бы по-настоящему невозможны 30.
«Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглой аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги».
Те места в усадьбе, где беседуют Иван Иванович Воскобойников и Николай Николаевич, в значительной мере теряют свое первоначальное образное содержание, но могут приобретать неожиданное символическое звучание. Так, стеклянная терраса домика управляющего на окраине усадьбы, на которой Воскобойников и Николай Николаевич вносят правку в рукопись книги, напоминает уже дачный, не усадебный, пейзаж 31:
«Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.
<...>
Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.
<...>
Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. <...>
— Пойдёмте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, — предложил Иван Иванович».
На пути к обрыву герои спорят, и спор их типичен для интеллектуальной атмосферы начала XX века. Земский статистик, позитивист Иван Иванович сталкивается с метафизиком, религиозным мыслителем Николаем Николаевичем. Оба героя не чувствуют уходящей усадебной красоты, проходя мимо «оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения» 32. Образ последних сигнализирует нам о распаде единого до того образного поля усадебной культуры, в котором и домашние обитатели усадьбы, и их гости, как правило, легко ориентировались в узнаваемых и типичных усадебных ландшафтах. Дачный флер, постепенно обретаемый Дуплянкой, означает, что это место утрачивает свою символическую автономность, становится образным придатком урбанистического мира, в котором любые семейные истории растворяются в многообразии и мельтешении, видимом хаосе наползающих друг на друга событий.
В сущности, образно-географическая характеристика усадьбы требует условного вычерчивания символических окружностей вокруг центра реальной территории. В ходе образного осмысления этот центр становится периферией уже целой усадебной образногеографической системы. Всякая усадьба может быть «маленькой Францией», «маленькой Швейцарией», «Гилеей» и т. д., но не наоборот. Русская усадьба — это экспериментальный культурный ландшафт, географические образы которого возникают и развиваются лишь как композитные, гибридные структуры или конструкции, построенные из заведомо разномасштабных, неравновеликих образов. Чем больше образная дистанция между вполне обозримой небольшой территорией усадьбы и глобальными цивилизационнокультурными символами, используемыми для усадебного освоения, тем больше вероятность создания долговременных, пусть пассеис-тических, географических образов.
Вместо заключения.
Русская усадьба и образы Северной Евразии
В силу известных историко-культурных и социально-экономических обстоятельств усадьбы не стали существенным компонентом российских культурных ландшафтов за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя промышленниками, купцами, технической ин- теллигенцией и создавались отдельные усадьбы вблизи крупных сибирских и дальневосточных городов, расположенных в основной полосе расселения, однако усадьбы эти не формировались, как то было в Европейской России, в качестве важных образно-географических локусов, призванных воображать и осмыслять азиатские пространства России в мировых цивилизационных контекстах. Сама по себе образно-символическая ограниченность феномена русской усадьбы может многое «рассказать» о метагеографических особенностях и путях развития России. Это не значит, что в будущем сибирские или дальневосточные усадебные локусы не смогут стать местами развития мощных и плодотворных азиатско-российских образов, укрепляющих и даже расширяющих собственно мета-географический остов страны.
Культурные ландшафты Сибири и Дальнего Востока развивались в течение более чем трех столетий как опосредованные географические образы «не-Европы», «анти-Европы» или «вне-Европы». Такому вектору воображения Северной Евразии способствовало ее освоение именно Россией. Россия выступала в данном случае (по крайней мере, на первых порах) как пусть условный, но полномочный актор европейского воображения. Сибирские культурные ландшафты в рамках российских пространств не могли состояться без противопоставления образам Европы; они есть то самое «Другое» или «Чужое» Европы, без которого и сами образы Европы не были бы полноценными и полнокровными 33.
Хотя и образы России в целом были и до сих пор пока остаются «Другим» Европы, однако формально, а частично и содержательно Европейская Россия воспринимается все-таки как европейская окраина, европейский фронтир. Всякий фронтир способствует мультипликации географического воображения. Как уже отмечалось, классические усадьбы Европейской России выступали своего рода точками сгущения или «ядрами конденсации» фронтирного воображения.
Развитие образно-географических цепочек культурных ландшафтов часто напоминает игру в испорченный телефон. Сибирь и Дальний Восток, несомненно, нуждались в неких образно-географических аналогах усадеб Европейской России. Трансляция усадебных образов к востоку от Урала вела к неизбежным трансформациям этих образов, воссоздававшихся в новых социокультурных условиях в виде чисто городских усадеб (что было характерно и для городов Европейской России до конца XIX века). Или же города в целом, подобно усадьбам к западу от Урала, были островками цивилизации в море неосвоенных или слабо освоенных сибирских и дальневосточных пространств.
Наряду с этими, весьма очевидными образно-географическими трансформациями, происходили и другие, поначалу вовсе не очевидные. Речь идет об образах, ставших типичными для Сибири и Дальнего Востока: каторга, ссылка, тюрьмы, лагеря или зоны для заключенных. Казалось бы, уж эти места вряд ли можно интерпретировать как образные аналоги русской усадьбы; однако наиболее известные и наиболее глубокие художественные и мемуарные свидетельства — начиная с сибирских и дальневосточных дневников Кропоткина, описания сибирского путешествия Джорджа Кеннана, чеховского «Острова Сахалина» и заканчивая произведениями Шаламова и Солженицына 34, — говорят о том, что зауральские каторжные и лагерные локусы воспринимались не только как пространства нечеловеческих мук и страданий, но и как места внезапно возникавших и развивавшихся параевропейских дискурсов о роли и взаимоотношениях культуры и этики, морали и цивилизации. В более «травоядную» советскую эпоху 1960–1980-х годов в качестве подобных квазиусадебных локусов могли выступать геологические лагеря, партии, долговременные этнографические, археологические или антропологические экспедиции, даже отдаленные поселки, лишенные зековской «начинки», но оставшиеся центрами геологических разведок и горнопромышленных разработок 35.
А классические усадьбы Европейской России подверглись в советское время уничтожению, разрушению, преобразованию в детские дома, колонии для беспризорных, больницы для туберкулезных и умалишенных, техникумы и ПТУ... Так или иначе они стали гораздо более многообразными культурными ландшафтами, использующими и трансформирующими фундаментальные сибирские каторжные образы жестокости, отчаяния и страха утраты даже тонкого культурного слоя. По сути, амбивалентные образы памяти и забвения обрели в расширившихся в Сибирь образах русской усадьбы некую общую ментальную платформу; а она возникла потому, что образы российских пространств вбирали и впитывали в себя практически любой цивилизационный и культурный опыт. Эти, уже транссибирские и транссевероевразийские, образы русской усадьбы оказались очень эффективными социокультурными приспособлениями: они позволяют довольно легко «конвертировать» изначально «тесные» в пространственном отношении образы и символы
Европы в «безграничные» образы Северной Евразии, обретающие в результате оригинальность, способность к собственному развитию и мультипликации.
Список литературы Русская усадьба: ландшафт и образ
- Щукин В. Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. Краков, Изд-во Ягеллонского ун-та, 1997; Русская усадьба. Сб. Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ). Вып. 5. М., Жираф, 1999;
- Дворянские гнезда России. История, культура, архитектура. Очерки/Ред.-сост. М. В. Нащокина. М., Жираф, 2000; Русская усадьба. Сб. ОИРУ. Вып. 8. М., Жираф, 2002
- Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный рай. М., ОГИ, 2003.
- Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, Ойкумена, 1999
- Замятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб., Алетейя, 2003
- Веденин Ю. А. Искусство как один из факторов формирования культурного ландшафта//Известия АН СССР. Сер. геогр., 1988, № 1
- Веденин Ю. А. Проблемы формирования культурного ландшафта и его изучения//Там же, 1990. № 1. С. 3-17
- Веденин Ю. А. Очерки по географии искусства. СПб., Дмитрий Буланин, 1997
- Каганский В. Л. Ландшафт и культура//Общественные науки и современность, 1997.№ 1.С. 134-146,№ 2.
- Каганский В. Л. Ландшафт и культура//Общественные науки и современность, 1997.№ 1.С. 134-146,№ 2. С. 160-169;
- Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., Новое литературное обозрение, 2001;
- Каганский В. Л., Родоман Б. Б. Культура в ландшафте и ландшафт в культуре//Наука о культуре: итоги и перспективы (информационно-аналитический сборник). Вып. 3. М., РГБ (Информкультура), 1995;
- Калуцков В. Н. Этнокультурное ландшафтоведение и концепция культурного ландшафта//Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии/Семинар «Культурный ландшафт»: второй тематический выпуск докладов. Москва-Смоленск, Изд-во СГУ, 1998;
- Калуцков В. Н., Красовская Т. М. Представления о культурном ландшафте: от профессионального до мировоззренческого//Вестник Моск. ун-та. Сер. 5. География, 2000, № 4;
- Культурный ландшафт: вопросы теории и методологии исследования. Смоленск, Изд-во СГУ, 1998;
- Родоман Б. Б. Поляризованная биосфера: Сб. ст. Смоленск, Ойкумена, 2002; Туровский Р. Ф. Культурные ландшафты России. М., Институт наследия, 1998;
- Тютюнник Ю. Г. Понимание ландшафта//Известия РАН. Сер. геогр., 1998. № 2. С. 30-38;
- Тютюнник Ю. Г. Ландшафт как структура//Известия АН СССР. Сер. геогр., 1990. № 2. С. 116-122;
- Appleton J. The Symbolism of Habitat: An Interpretation of Landscape in the Arts. Univ. of Washington Press, 1990; Bourassa S. C. The Aesthetics of Landscape. London and New York, Belhaven Press, 1991
- Cosgrove D. E. Social Formation and Symbolic Landscape, Totowa (NJ), Barnes and Noble Books, 1984
- Cosgrove D. E. Models, descriptions and imagination in geography//MacMillan B. (ed.). Remodelling Geography. Oxford, Blackwell, 1989. P. 230-244;
- Fitter С. Poetry, Space, Landscape: Toward a New Theory. Cambridge Univ. Press, 1995;
- Jakle J. A. The Visual Elements of Landscape. Amherst, The Univ. of Massachusetts Press, 1987
- Landscape and Power. Ed. by W. J. T. Mitchell. Chicago, Univ. of Chicago Press, 1994; Shama S. Landscape and Memory. New York, Alfred A. Knopf, 1995.
- Абрамов Л. С. Описания природы нашей страны. Развитие физико-географических характеристик. М., Мысль, 1972.
- Витвер И. А. Французская школа географии человека//И. А. Витвер. Избранные сочинения/Под ред. В. В. Вольского и А. Е. Слуки. М., Изд-во МГУ, 1998. С. 513-546
- Иконников А. В. Город -утопии и реальное развитие//Город и искусство: субъекты социокультурного диалога. М., Наука, 1996. С. 75-85
- Иван Леонидов: Начало XX -начало XXI вв.: Материалы, воспоминания, исследования/Подг. текста О. И. Адамов, Ю. П. Волчок. М., АО «Московские учебники и Картолитография», 2002
- Иван Леонидов. Эскизы из архива семьи/Текст А. Гозака. [Б. м.], А-Фонд, 2002.
- Шульц Б. «Особый случай» или логика развития? Нацистская и сталинская архитектура в историческом контексте//Россия -Германия: Культурные связи, искусство, литература в первой половине двадцатого века. М., ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2000. С. 323-336.
- Нащокина М. В. Русский усадебный парк эпохи символизма. (К постановке проблемы)//Русская усадьба. Вып. 7 (23). Сб. ОИРУ/Ред.-сост. М. В. Нащокина. М., Жираф, 2001. С. 7-41.
- Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. СПб., Наука, 1991.
- Теребихин В. А. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, Изд-во Помор, ун-та, 1993
- Калуцков В. Н., Иванова А. А., Давыдова Ю. А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера/Семинар «Культурный ландшафт»: первый тематический выпуск докладов. М., Изд-во ФБМК, 1998
- Элиаде М. Космос и история. М., Прогресс, 1987; он же. Священное и мирское. М., Изд-во МГУ, 1994
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., Академический проект, 2000.
- Две географии//Художественный журнал, 1997. Май. № 16. Место -География -Пространство. С. 6-9.
- Борисова Е. Тема города в архитектуре и графике «Мира искусств»//Мир искусств. Альманах. Вып. 4. СПб., Дмитрий Буланин, 2000. С. 773-784.
- Невольная линия ландшафта. Петербург Александра Китаева. Фотографии. Б. м., Изд. дом «APT ТЕМА», 2000.
- McLean S. Touching Death: Tellurian Seduction and Spaces of Memory in Famine Ireland//Culture, Space and Representation. A Special Issue of the Irish Journal of Anthropology, 1999. Vol. 4. P. 61-73.
- Белый Андрей. Записки чудака. Lausanne, Editions 1'age d'homme, 1973 (Репринт издания: Москва-Берлин, Геликон, 1922). С. 48, 51-52.
- Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л., Советский писатель, 1989. С. 321-322.
- Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. М., Тройка, 1994. С. 9.
- Замятин Д. Н. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-Восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке//Восток, 2004. № 1. С. 136-142.