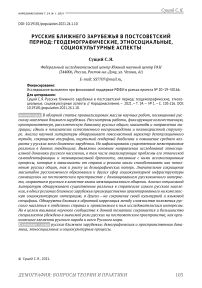Русские ближнего зарубежья в постсоветский период: геодемографические, этносоциальные, социокультурные аспекты
Автор: Сущий Сергей Яковлевич
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демография: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.
Бесплатный доступ
В обзорной статье проанализирован массив научных работ, посвященный русскому населению ближнего зарубежья. Рассмотрены работы, фиксирующие количественную, пространственную, расселенческую динамику русских общин; масштабы и направления миграции; сдвиги в показателях естественного воспроизводства и половозрастной структуре. Анализ научной литературы обнаруживает повсеместный характер депопуляционного тренда, сокращение географии, ощутимый гендерный дисбаланс и повышение среднего возраста у русских всего ближнего зарубежья. Но зафиксированы существенные межстрановые различия в данных тенденциях. Выявлены основные направления исследований этносоциальной динамики русского населения, в том числе анализирующие проблемы его этнической самоидентификации и межнациональной брачности, связанные с ними ассимиляционные процессы, которые в зависимости от страны и региона могли способствовать как пополнению русских общин, так и росту их демографических потерь. Значительное сокращение масштабов русскоязычного образования и других сфер социокультурной инфраструктуры совмещалось на постсоветском пространстве с доминированием русскоязычного интернета, сохранением русского в качестве языка межнационального общения. Анализ специальной литературы обнаруживает существенные различия в стратегиях самого русского населения, в одних регионах ближнего зарубежья преимущественно ориентированного на комплексную социокультурную интеграцию, в других - на сохранение своей культурной и языковой специфики. Обнаружена близкая к обратной корреляция между сложностью положения русского населения в отдельных странах и проявляемым к ним исследовательским интересом. Но в целом внимание научного сообщества к данной тематике сохраняется и большинство специалистов убеждено в значимой роли русских на постсоветском пространстве, как органического элемента русского народа и всего Русского мира.
Русские ближнего зарубежья, демографическая и пространственная динамика, этносоциальные и социокультурные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/143173668
IDR: 143173668 | DOI: 10.19181/population.2021.24.1.10
Текст научной статьи Русские ближнего зарубежья в постсоветский период: геодемографические, этносоциальные, социокультурные аспекты
Распад СССР на 15 государств и появление ближнего зарубежья (БЗ), стали самой масштабной трансформацией в государственно-политической системе расселения русского народа за его историю. В пределах союзных республик проживало более 25 млн. (около 20%) русских страны и значительное большинство этого населения считало «своим» государством именно Советский Союз, а не РСФСР. Существенно и то, что становление практически всех стран БЗ (за исключением Республики Беларусь) происходило в рамках конструирования этнической государственности, ориентированной на реализацию интересов, прежде всего, титульной нации [1. С. 3–4]. Из представителей стержневого народа союзного государства русские превратились в одно из национальных меньшинств, оказавшись в зоне более или менее ощутимой политической, социопрофессиональной, образовательной, культурно-языковой дискриминации.
Основные характеристики естественной, пространственно-расселенческой динамики русских общин; направления и масштабы ассимиляционно-аккульту-рационных процессов, определялись множеством факторов, в том числе цивилизационной, этноконфессиональной, социокультурной, экономической спецификой крупных макрорегионов постсоветского пространства и конкретных стран БЗ. Комплексный анализ научной литературы посвященной русскому населению позволяет зафиксировать значимость и соотношение (систему-иерархию) данных факторов, дает возможность оценить со-циодемографические перспективы русских общин.
Есть основания полагать, что комплексная «заинтересованность» местного русского населения в стране (макрорегионе БЗ) своего проживания коррелировала не только с системной близостью/компли-ментарностью данных социумов с Русским миром, но и с уровнем их социокуль- турной модернизации и общего социально-экономического развития.
Геодемографические исследования русского населения
Кардинальная статусная трансформация русских в странах БЗ, как и сама стремительность этого процесса, наряду с социально-экономическими проблемами стали основными причинами масштабной миграции русского населения (в основном в Россию), максимальные темпы которой фиксировались в первой половине — середине 1990-х гг. [1]. Уже в это время быстрое сокращение русских на постсоветском пространстве привлекает внимание исследователей.
Геодемографическая динамика редко становилась самостоятельным объектом изучения, как правило, включаясь в качестве одного из анализируемых аспектов, наряду с проблемами правового, экономического, культурно-языкового развития русских. Отметим ряд коллективных трудов [2–4], а также работы В. М. Кабуза-на [5], Л. Л. Рыбаковского [6], Н. М. Лебедевой [7], С. С. Савоскула [1, 8], В. А. Тишкова [9] в 1990-е гг. анализировавших количественную и пространственную динамику русских общин всего или значительной части БЗ. Много работ того времени было посвящено анализу ситуации в отдельных его странах и регионах [10–14]. При известных различиях геодемографиче-ских процессов, исследователи фиксировали во всех странах БЗ заметное ухудшение показателей воспроизводства русского населения, его масштабную эмиграцию и, как следствие, существенные демографические потери русских общин всех постсоветских государств (за исключением России). В отсутствии актуальной статистики, исследователи по необходимости использовали результаты последней переписи населения СССР (1989 г.), экстраполируя их на ситуацию 1990-х годов. Более детальный анализ количественных, пространственных и расселенческих (соотношение столичного, городского и сельско- го населения) аспектов динамики русских БЗ становится возможным в начале XXI в., после проведения в новых странах первых постсоветских переписей.
Серия публикаций была посвящена русским общинам Балтии. Исследователи обнаруживали устойчивое, повсеместное сокращение русского населения, затрагивающее все уровни поселенческой сети [15. С. 53–54; 16. С. 70–72]; его постепенное старение [15. С. 55; 17. С. 172]; повышенный уровень естественной смертности [18. С. 187–188]. В общей сложности за период 1989–2017 гг. численность русских в странах Балтии сократилось почти в два раза (с 1,72 млн. до 0,96 млн. человек) [19. С. 21]. Анализ причин демографической убыли русского населения региона позволяет сделать вывод, что центральную роль в данном процессе в 1990-е гг. играл отток в Россию (в Латвии и Эстонии) и ассимиляция (в Литве); в 2000–2010-е гг. основные потери русских Латвии и Литвы были связаны с миграцией в другие страны Евросоюза, Эстонии — с естественной убылью [19. С. 24–27; 21]. Темпы демографической депопуляции русских стран Балтии различались, что не отменяло общей устойчивости данного тренда, приводя исследователей к выводу о неизбежности дальнейшего сокращения русского этнического присутствия в регионе [15. С. 59]. Согласно поливариантному прогнозу общая численность русских в трех странах может сократиться к середине XXI в. до 530– 610 тыс. человек (низкий — высокий сценарий), что на 35–45% уступает современному показателю [19. С. 33].
Значительный ряд работ посвящен гео-демографической динамике русских Казахстана. Что объяснимо значимостью объекта исследования (на рубеже 1990-х гг. в Казахстане проживало более четверти русских от их числа в БЗ) и наличием детальной статистики (данные двух переписей — 1999 и 2009 гг. и текущего этнодемографи-ческого учета населения). В центре внимания была количественная динамика русских, миграция, показатели их естественного воспроизводства [15, 21, 22]. За пери- од 1989–2019 гг. русская община страны сократилась с 6,2 до 3,5 млн человек. Анализ структуры депопуляции обнаруживал полную доминанту миграции, составлявшей 80–90% потерь [22. С. 162; 23. С. 241–251]. Фиксируя изменения в географии и рас-селенческой структуре русских [24. С. 139– 142], специалисты констатировали сохранение основных их средоточий на севере и востоке страны [25, 26], выявляли прямую связь между интенсивностью притока в городскую сеть сельского титульного населения и масштабами эмиграции в Россию русских горожан [27. С. 136–137]. Среднесрочный прогноз демографической динамики русской общины страны позволил предположить, что она к 2030–2035 гг., несмотря на сокращение с современных 3,5 млн до 3,1–3,3 млн человек, может оказаться крупнейшей в БЗ [23. С. 251–263].
Русские Казахстана вызывали повышенный (в сравнении с другими странами региона) интерес и у зарубежных специалистов. В ряде публикаций М. Ларуэль и С. Пейруз анализировались причины быстрой демографической убыли и масштабного оттока русских, обнаруживая их в различных формах социально-политической, культурно-языковой, статусной и социопрофессиональной дискриминации, но и отмечая формы компромиссного решения «русского» вопроса [28. С. 97–124, 236–237; 29].
Геодемографические исследования русских Средней Азии были существенно затруднены отсутствием или недостоверностью статистики. Речь, прежде всего, об Узбекистане, не проводившем в постсоветский период переписей населения и о Туркмении, достоверность результатов двух переписей (1995 и 2012 гг.) которой вызывает сомнения [23. С. 287–288]. Специалисты фиксируют повсеместное значительное сокращение русского населения региона [30], концентрацию его в столицах и их окрестностях [31]. Обнаруживаются у местных русских и другие демографические процессы характерные для всего БЗ, в том числе естественная убыль, рост среднего возраста, нарастаю- щий гендерный дисбаланс (в конце 2010х гг. на 100 русских мужчин в Узбекистане приходилось 130–150 женщин, в Киргизии — 138–144) [23. С. 293–295].
Но из всех регионов БЗ, максимальную долю своего русского населения в постсоветский период утратил Южный Кавказ: за период 1989–2019 гг. оно сократилось с 785 тыс. до 110–130 тыс. человек [23. С. 208]. Основную роль в этом процессе также играла миграция [32]. Фиксируются у местных русских и остальные тенденции, в том числе ощутимая деформация половозрастной структуры [32], концентрация в столичных центрах [34; 35]. Среди сельских русских Южного Кавказа лучше сохранились потомки старообрядцев имперского периода [35].
Небольшое число публикаций затрагивало вопросы геодемографической и рас-селенческой динамики, естественного воспроизводства русского населения на Украине, притом, что речь шла о крупнейшем средоточии русских за пределами России [23; 36; 37]. Исследователи фиксируют повсеместный характер сокращения русского населения в 1990-е гг., охватывающий все регионы Украины и уровни системы расселения [37].
В работах, освещающих демографическую динамику русских западного региона БЗ (Украина, Беларусь, Молдова) значительное внимание уделялось группе русско-титульного смешанного населения (биэтнофоров). Делается вывод, что сдвиги в этнической идентификации представителей данной группы были центральной причиной масштабной депопуляции русских на Украине [36. С. 48] и в Беларуси [23. С. 114–115], одной из основных— в Молдове [38. С. 158–159]. Фиксируется существенное ускорение депопуляции русских Украины после 2014 г. и возможное сокращение их численности к 2030 г. до 2,4–3,45 млн человек [23. С. 82].
Малоизученными остаются вопросы геодемографической динамики русских в непризнанных или частично признанных государствах БЗ. Но уже проведенные исследования свидетельствуют, что пророссийский характер Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, восточного Донбасса способствовал лучшему сохранению их русского населения, чем в государствах, от которых они отделились. К примеру, если за период 1989–2014 гг. численность русских Приднестровья сократилась на 24% (с 211 тыс. до 160 тыс. человек), то в остальной Молдове — в 3,1 раза (с 351 тыс. до 112 тыс.). Русская община Абхазии за период 1989–2011 гг. «сжалась» в 3,4 раза (с 74,9 тыс. до 22,3 тыс. человек), но русских в Грузии стало меньше в 10,6 раз (26,4 тыс. в 2014 г. против 280,9 тыс. человек в 1989 г.) [23. С. 140–143, 208–222].
В целом, выводы исследователей, анализирующих геодемографическую динамику русского зарубежья за постсоветский период, пессимистичны. В 1990–2010-е гг. общая численность русских БЗ сократилась более, чем в 2 раза — с 23,7 млн до 10,7– 11,4 млн человек [23. С. 312]. Притом, что русское население самой России (без учета Крымского полуострова) за 1989–2010 г. уменьшилось на 7,4%. Как результат, если на рубеже 1990-х гг. на союзные республики приходилось 17,4% русских, то в 2010 г. в БЗ проживало только 10,5–11% русского населения бывшего СССР (доля России, соответственно, выросла с 83,6% до 88,5–89%, а к концу 2010-х гг. могла подняться до 91–91,5%) [23. С. 312–313]. Отмечают исследователи и то, что негативные сдвиги в половозрастной структуре, фиксируемые в постсоветский период у всего русского народа, отличаются значительно более быстрыми темпами в русских общинах БЗ, нежели у русского населения России. За 1989–2010 гг. число женщин на 100 мужчин у русских в РФ выросло всего на 2,6% (с 116 до 119). Средний возраст русских России в 2010 г. составлял 39,5 лет, а в большинстве стран БЗ был уже на несколько лет выше [23. С. 311–326].
Этносоциальная динамика русских ближнего зарубежья
Значительное число работ касалось этносоциальных аспектов развития русских общин БЗ, особенностей ассимиляционных процессов и этнической самоидентификации. Хорошо изученными по данному кругу проблем являются русские общины Молдовы [14; 38–39] и стран Балтии [15; 17–20; 40–42]. Исследователи фиксировали в них очень высокую степень межнациональной брачности: в начале XXI в. имело супруга другой национальности около 3/4 семейных русских Молдовы [38. С. 131]; 3/5 русских Литвы, 1/2 — Латвии [15. С. 52; 23. С. 169– 170]. Значительная часть детей в русско-титульных семьях выбирала титульную национальность [19. С. 25–26; 38. С. 158–160].
Обнаруживается специалистами и нарастающая социокультурная дистанция между русским населением Балтии и русскими Российской Федерации. Этот системный дрейф позволил Х. Г. Симоняну уже в середине 2000-х гг. констатировать появление в Балтии нового субэт-носа-«еврорусских» [40]. С данным выводом согласуются результаты исследований И. К. Апине [41], А. В. Матулиони-са и М. Фреюте-Ракаускене [42] фиксирующих в идентификационном комплексе русских региона сложное сочетание этнической русской, региональной балтийской и европейской составляющих.
Иной была этносоциальная динамика русских Центральной Азии. Исследователи отмечают высокую идентификационную устойчивость русского населения [43], ограниченные масштабы русско-титульной брачности [23], которая только в Казахстане в последние 10–15 лет начала возрастать [44]. При этом в странах региона, располагающих крупными русскими общинами (Казахстан, Узбекистан, Киргизия), русские заняли позицию второго (наряду с титульным) полюса этнокультурного притяжения, ассимилируя национальные меньшинства, генезис которых не связан с Центральной Азией [23. С. 258, 291]. Данное обстоятельство позволяло русским общинам частично компенсировать свои демографические потери.
Актуальной проблема этносоциальной динамики является и для русских Украины, где 2 из 3 млн человек демографиче- ской убыли (в 1990-е гг.) пришлось на смену идентичности русско-украинскими би-этнофорами. Анализ динамики этой группы, обнаруживает ее удельный рост в населении страны с 16,7% в 1989 г. до 27,8– 29% в 2013 г. [36. С. 51]. Выявляется резко возросшая после 2014 г. корреляция между этнической идентификацией и гражданской позицией смешанного населения. Большинство украиноцентричных биэт-нофоров самоопределялось украинцами, ориентированные на Русский мир биэт-нофоры выбирали русскую идентичность [23. С. 83]. Максимальная концентрация русского и смешанного населения на юге и востоке Украине на обозримую перспективу останется фактором, препятствующим этнической дерусификации страны, в значительной степени уже завершенной в западном и центральном ее регионах. Даже без Крыма и восточного Донбасса, русские и биэтнофоры во второй половине 2010-х гг. составляли порядка 55–57% населения юго-востока Украины [37].
Проблема ассимиляции была чувствительной и для русских Беларуси. Несмотря на относительно комфортные условия развития, русская община страны в 2000е гг. была одним из лидеров БЗ по темпам депопуляции (–31,3%). Центральная причина, как и в двух других странах западного региона — быстрый рост группы русско-титульных биэтнофоров и смена идентичности их смешанным потомством [23. С. 118–119].
Социокультурные процессы
Привлекали внимание исследователей и процессы в социокультурной сфере, культурно-языковая ситуация (статус русского языка, его позиции в системе образования и других сферах жизни); масштабы и направления развития культурной инфраструктуры Русского мира (СМИ, книгоиздание, театральная сеть, система культурных обществ и тому подобное). Отметим комплексную работу А. Л. Арефьева, изучившего в 1990–2000 гг. динамику русского языка за пределами РФ
(в том числе на постсоветском пространстве) и зафиксировавшего его значительные статусные, инфраструктурные, количественные потери [45]. Ситуация существенно различалась по регионам и странам БЗ. На Украине (до середины 2010-х гг.) и в Беларуси, русский язык не только сохранял свои позиции в русских общинах, но и продолжал укрепляться в качестве языка повседневного общения остального населения данных стран [36; 46. С. 452– 454]. Во многих территориальных сообществах Центральной Азии, по оценке У. Фи-ермана, русский язык продолжал играть значительную роль даже после ухода самих русских (47).
В начале XXI в. размеры системы русскоязычного образования в ряде стран БЗ стабилизировались или даже несколько возросли. Во многих странах фиксировалось устойчивое доминирование русскоязычного интернета [24]. И в целом, в пределах постсоветского пространства русский язык продолжал сохраняться в качестве основного языка межнационального общения, которым в начале 2010-х гг. владела значительная часть населения — около 100% жителей Беларуси; 80–85% — Украины, Казахстана, Латвии; 60–70% — Эстонии, Армении; 50–55% — Азербайджана, Грузии, Киргизии, Молдовы; 30– 45% — Литвы, Узбекистана, Таджикистана [45. С. 432].
Внимание специалистов привлекают формы социокультурной адаптации русских в различных странах БЗ. Между русскими общинами обнаруживаются существенные различия. В странах Балтии фиксируется очевидная заинтересованность русского населения в усвоении социокультурных практик, норм и государственных языков стран своего проживания. Уже в 2000 г. 39% русских Эстонии владело эстонским языком (в 1989 г. таких было 9%) [17. С. 166], а в 2008 г. в той или иной степени его знало более 80% представителей русской общины [20. С. 103]. Аналогичной была языковая адаптация русских в других странах Балтии (к началу 2010-х гг. титульный язык знало около
2/3 русских Литвы и половины — Латвии) [23. С. 180]. Причем, именно молодежные генерации демонстрировали максимальные успехи в культурно-языковой адаптации, как правило, обладая и знанием английского языка, существенно расширявшим возможности их профессиональной самореализации в пределах Евросоюза [48. С. 74].
В Беларуси и на Украине социокультурная интеграция русских существенно облегчалась общим этногенезисом, близостью традиций и структур повседневности восточнославянских народов [1. С. 48– 107]. Но уровень адаптации коррелировал с местом проживания, что особенно четко фиксировалось на Украине: в Крыму на рубеже 2000-х гг. только 16% русских свободно владело украинским языком, во Львове — 77% [49. С. 34]. Существенное сокращение социокультурной инфраструктуры (система образования, театральная сеть, книгоиздание, периодика), не исключало достаточно устойчивых позиций русской культуры в украинском обществе до начала 2010-х гг. [23; 36]. Ситуация изменилась после событий 2014 г., резко осложнивших положение русской культуры на Украине [37].
Социокультурная адаптация русских Молдовы протекала по «балтийскому» сценарию — доминирующим был ак-культурационный тренд: усвоение языка и практик титульного большинства, совмещение элементов русской и молдавской социокультурных традиций, особенно характерное для молодежи [38; 39].
Существенно иной была социокультурная динамика русских Центральной Азии. В своем большинстве они проявляли низкую активность в усвоении государственных языков, сохраняя значительную социокультурную дистанцию от титульных сообществ и демонстрируя консервацию некоторых элементов русского языка и культуры, характерных для советского периода (уже активно трансформируемых в современной России) [50]. Данные особенности определялись существенными отличиями русской и титульных культур, а также объяснялись иерархией социокультурных компонент в сознании русских региона — свою национальную традицию они оценивали выше, чем культуру титульного большинства [43. С. 23–24]. Но это, по мнению Н. П. Космарской, не исключало формирования у них «среднеазиатской» региональной идентичности [51. С. 216], а локальные группы русских в плотном иноэтническом окружении демонстрировали высокую социокультурную адаптивность, в том числе и в освоении языков титульного народа [43. С. 21].
Своей спецификой отличалась социокультурная динамика русских Казахстана в местах компактного проживания на севере и востоке страны (прежде всего, в городской среде), продолжавших определять культурный облик и доминирующие структуры повседневности своих территориальных сообществ [52. С. 102–105, 117]. Малоизученными остаются проблемы социокультурного развития русских современного Южного Кавказа.
Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что с течением времени особенности этносоциальной и социокультурной динамики русского населения БЗ в нарастающей степени определялись системными особенностями конкретной страны и макрорегиона его проживания. Русские общины в более модернизированных и социально-экономически развитых социумах постсоветского пространства, в целом, демонстрировали большие усилия по своей социоментальной и культурно-языковой интеграции. Это негативно сказывалось на их демографической динамике, становясь одной из причин ускоренной депопуляции.
Заключение
Научное сообщество с начала 1990-х гг. демонстрировало значительный интерес к различным аспектам жизнедеятельности русского населения БЗ. В центре этого интереса находились демографическая, пространственная, расселенческая дина- мика русских общин; масштабы и направления миграции русских; проблемы их этнической самоидентификации и межнациональной брачности, процессы ассимиляции. Значительное число работ было посвящено социокультурной динамике русских общин.
Но внимание специалистов неравномерно распределялось по блокам этого проблемного комплекса и по странам (регионам) постсоветского пространства. Обнаруживается близкая к обратной корреляция между реальной сложностью положения русских в отдельных странах и активностью их изучения. Достаточно активно исследовались русские общины Балтии и Казахстана, сумевшие лучше демографически сохраниться и адаптироваться к новым условиям, но редкими остаются работы, посвященные русским Южного Кавказа, ряда стран Средней Азии и Украины.
Следует отметить наметившийся в последние 10–15 лет дефицит комплексных разработок, в отличие от 1990-х гг., отмеченных масштабными социологическими исследованиями русского БЗ и рядом обобщающих работ. Но данное явление представляется временным. Даже существенно сократившись в 1990–2010-е гг., русское население БЗ продолжает составлять значительную величину, от динамики которой во многом зависит не только география и численность русского народа, но и характеристики всего Русского мира. Совмещение академического интереса с большой практической значимостью данного проблемного комплекса, на наш взгляд, предопределяет долгосрочное внимание к нему со стороны представителей разных областей научного знания.
Список литературы Русские ближнего зарубежья в постсоветский период: геодемографические, этносоциальные, социокультурные аспекты
- Савоскул, С. С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы / С. С. Савоскул. — Москва: Наука, 2001. — 438 с. ISBN 5-02-008730-0.
- Русские в ближнем зарубежье / отв. ред. В. Козлов, Е. Шервуд. — Москва: ИЭА, 1994. — 209 с.
- Русские в новом зарубежье: Итоги этносоциологического исследования в цифрах / отв. ред. С. С. Савоскул. — Москва: ИЭА, 1996. — 199 с. ISBN 5-201-00821-6.
- Русские в новом зарубежье: миграционная ситуация, население, адаптация в России / отв. ред. С. С. Савоскул. — Москва: ИЭА, 1997. — 363 с. ISBN 5-201-13712-1.
- Кабузан, В.М. Русские в мире / В. М. Кабузан. — Санкт-Петербург: Блиц, 1996.— 348 с. ISBN 5-86789-022-8.
- Рыбаковский, Л.Л. Русские и новое зарубежье: Миграционный обмен и его влияние на демографическую динамику / Л. Л. Рыбаковский. — Москва: ИСПИ, 1996. — 55 с.
- Лебедева, Н.М. Новая русская диаспора: Социально-психологический анализ / Н. М. Лебедева. — Москва: ИЭА, 1995. — 299 с. ISBN 0868-586Х.
- Савоскул, С. С. Русские нового зарубежья / С. С. Савоскул // Общественные науки и современность. — 1994. — № 5. — С. 90-101.
- Тишков, В. А. Русские в Средней Азии и Казахстане / В. А. Тишков // Исследования по прикладной и неотложной этнологии, доклад № 51. — Москва: ИЭА, 1993. — 24 с.
- Kolstoe, P. Russians in the Former Soviet Republics / P. Kolstoe. — London: Hurst, 1995. — 340 p. ISBN 3-9950-010392-7.
- Субботина, И.А. Демографические перспективы русской диаспоры / И. А. Субботина // Диаспоры. — 1999. — № 2-3. — С. 116-134.
- Гришаев, И.А. Русские в Украине / И. А. Гришаев, А. Т. Семченко, А. А. Сусоколов. — Москва: 1997. — 37 с.
- Гудков, Л.Д. Русские в Казахстане / Л. Д. Гудков. — Москва: 1995. — 37 с.
- Остапенко, Л.В. Русские в Молдавии: миграция или адаптация? / Л. В. Остапенко, И. А. Субботина. — Москва: ИЭА, 1998. — 229 с. ISBN 5-201-13735-0.
- Козлов, В.А. Демографическое поведение русской диаспоры в странах Прибалтики и Центральной Азии / В. А. Козлов // Вестник ИЭ РАН. — 2018. — № 3. — С. 50-60.
- Манаков, А. Г. Динамика этнического состава населения Эстонии и Латвии с 1881 г. по 2016 г. / А. Г. Манаков, О. А. Чученкова. — Псков: Русская книга, 2017. — 96 с.
- Никифоров, И.В. Демография русского населения Эстонии в ХХ веке / И. В. Никифоров, В. В. Полещук // Этническая политика в странах Балтии. — Москва: Наука, 2013. — С. 155-176.
- Волков, В. В. Демография русского населения Латвии вХХ-XXI вв. / В. В. Волков // Этническая политика в странах Балтии. — Москва: Наука, 2013. — С. 177-196.
- Сущий, С.Я. Русские в Прибалтике — геодемографические тренды постсоветского периода и перспективы первой половины XXI века / С. Я. Сущий // Народонаселение. — 2018. — Т. 21. — № 3. — С. 21-36.
- Халлик, К. С. Русские в Эстонии / К. С. Халлик // Русские: этносоциологические исследования. — Москва: Наука, 2011. — С. 90-119.
- Алейников, М. В. Русское население Казахстана: социально-демографические трансформации (90-е гг. ХХ в.) / М. В. Алейников, И. В. Боровиков // Мир Евразии. — 2013. — № 2. — С. 2-8.
- Савин, И. С. Русские в Казахстане: «кто мы сейчас» / И. С. Савин // Русские: этносоциологиче¬ские исследования. — Москва: Наука, 2011. — С. 158-190.
- Сущий, С.Я. Русские ближнего зарубежья: история, современность, перспективы (геодемографический аспект) / С. Я. Сущий. — Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2019.— 342 с. ISBN 978-5-4358-0181-1.
- Алексеенко, А.Н. Население Казахстана между прошлым и будущим / А. Н. Алексеенко // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: http://polit.ru/article/2006/05/16/demoscope245/ (дата обращения: 11.12.2020).
- Жаркенова, А.М. Численность и этнический состав населения Северного региона Казахстана в постсоветский период / А. М. Жаркенова // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2010. — № 4(6). — С. 90-95.
- Гужвенко, Ю.Н. Этносоциальное развитие Восточного Казахстана в 1990-е гг. / Ю. Н. Гужвенко // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2010. — № 4(30). — С. 260-271.
- Алексеенко, А.Н. Казахстанский путь модернизации: этнодемографический аспект / А. Н. Алексеенко // Вестник Евразии. — 2004. — № 1. — С. 122-151.
- Laruelle, M. Les russes du Kazakhstan: identite nationale et nouveaux Etats dans l'espace post-sovietique / M. Laruelle, S. Peyrouz. — Paris: Maissonneuuve et larose: Iffas, 2003. 354 p. ISBN 2-7068-1834-4.
- Peyrouse, S. The «Imperial minority»: an interpretative framework of the Russians in Kazakhstan in the 1990s / S. Peyrouse // Nationalities papers. — 2008. — Vol. 36. — No. 1. — Р. 105-123.
- Хоперская, Л.Л. Российские соотечественники в Центральной Азии — демографический ресурс, отрезанный ломоть или хранители русского мира? / Л. Л. Хоперская // Этнопанорама. — 2012. — № 3-4. — С. 5-12.
- Федорко, В.Н. Этногеографическое районирование Узбекистана / В. Н. Федорко, Ш. Б. Курбанов // Известия географического общества Узбекистана. — 2018. — Т. 54. — С. 42-53.
- Камахия, М. Славянское население Грузии / М. Камахия // Центральная Азия и Кавказ. — 2007. — № 4(52). — С. 152-165.
- Юнусов, А. С. Этнические и миграционные процессы в постсоветском Азербайджане / А. С. Юнусов // Ставропольский университет: [сайт]. — URL: http://chairs.stavsu.ru/geo/Conference/c1-67.htm (дата обращения: 14.12.2020).
- Мосаки, Н.З. Этническая картина Грузии по результатам переписи 2014 г. / Н. З. Мосаки // Этнографическое обозрение. — 2018. — № 1. — С. 104-120.
- Лащенова, Е. А. «Русский мир» в Армении / Е. А. Лащенова // Россия и современный мир. — 2006. — № 3(52). — С. 225-231.
- Митрофанова, И.В. Русские на Украине: геодемографические итоги постсоветского периода и среднесрочные перспективы / И. В. Митрофанова, С. Я. Сущий // Социологические исследования. — 2017. — № 8. — С. 45-58.
- Сущий, С.Я. Русский мир Украины — реалии и перспективы постсоветского периода / С. Я. Сущий // Свободная мысль. — 2020. — № 5. — URL: http://www.svom.info/entry/1067-russkij-mir-ukrainy-realii-i-perspektivy-postsovet/ (дата обращения: 11.12.2020).
- Остапенко, Л.В. Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя... (этносоциологическое исследование) / Л. В. Остапенко, И. А. Субботина, С. Л. Нестерова. — Москва: ИЭА, 2012. — 403 с. ISBN 978-5-4211-0067-6.
- Остапенко, Л.В. Русские в Молдавии: социально-демографические трансформации / Л. В. Остапенко, И. А. Субботина // Социологические исследования. — 2011 — № 5. — С. 61-71.
- Симонян, Р.Х. Новый Балтийский субэтнос — «Еврорусские» / Р. Х. Симонян // Социология власти. — 2004. — № 2. — С. 59-76.
- Апине, И.К. Изменение идентичности русских в современной Латвии / И. К. Апине // Социологические исследования. — 2006. — № 10. — С. 65-70.
- Матулионис, А. В. Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект / А. В. Матулионис, М. Фреюте-Ракаускене // Мир России. — 2014. — № 1. — С. 87-114.
- Цыряпкина, Ю.Н. Русские в Узбекистане: языковые практики и самоидентификация (на примере полевых исследований в Фергане) / Ю. Н. Цыряпкина // Томский журнал ЛИНГ и АНТР. — 2015. — № 3(9). — С. 18-28.
- Козлов В. А. Межнациональные браки в Казахстане: оценка предпочтений с помощью матрицы межэтнических расстояний / В. А. Козлов, Г. К. Айгозина // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: http://demoscope.ru/weekly/2017/0733/analit03.php#_ftnref4 (дата обращения: 11.12.2020).
- Арефьев, А.Л. Русский язык на рубеже XX-XXI вв. / А. Л. Арефьев. — Москва: ЦСП, 2012. — 482 с. ISBN 978-5-906001-12-2.
- Шульга, М.А. Динамка використання украшсько! i росшсько! мов уамейномусшлкуванш / М. А. Шульга // Украшське сусшльство 1992-2010. Соцюлопчний мониторинг. — Киев: Азбука. 2010. — С.449-458.
- Fierman, W. Russians in the Post-Soviet Central Asia: A Comparison with the States on the Baltic and South Caucasus / W. Fierman // Europe-Asia Studies. — 2012. —Vol. 64. — №з. 6. — P. 1077-1100.
- Симонян, Р.Х. Русскоязычное население в странах Балтии / Р. Х. Симонян, Т. М. Кочегарова // Вестник МГИМО. — 2010. — № 3(12). — С. 60-77.
- Laitin, D. Identity in formation the Russian-speaking populations in the near abroad / D. Laitin — London: Cornell university press, 1998. — 417 p. ISBN 0-8014-8495-2.
- Свинчукова, Е.Г. Языковая картина мира диаспоры: русские в Казахстане / Е. Г. Свинчукова. — Москва: Ин-т языкознания РАН, 2013. — 235 с. ISBN 978-5-91730-210-2.
- Космарская, Н. П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии. Евразия. Новые исследования / Н. П. Космарская — Москва: Наталис, 2006. — 597 с. ISBN 5-8062-0212-7.
- Алексеенко, А.Н. Этнополитические стратегии освоения городского пространства республики Казахстан в ХХI в. / А. Н. Алексеенко // Полития. — 2012. — № 2(65). — С. 98-119.