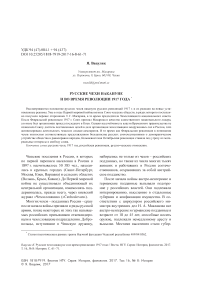Русские чехи накануне и во время революции 1917 года
Автор: Вацулик Ярослав
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются положение русских чехов накануне русских революций 1917 г. и их реакция на новые установленные режимы. Уже в годы Первой мировой войны возник Союз чешских обществ, в рядах которого постепенно получили перевес сторонники Т. Г. Масарика, в то время председателя Чехословацкого национального совета. После Февральской революции 1917 г. Союз признал Масарика в качестве единственного национального лидера, а в июле был организован приезд последнего в Киев. Однако неустойчивость власти Временного правительства не позволила Союзу достичь поставленных целей в деле организации чехословацких вооруженных сил в России, зато активизировала деятельность чешских социал-демократов. В то время как Февральская революция в понимании чехов полностью соответствовала представлениям большинства русских соотечественников о демократическом устройстве общества и равноправии народов, большевистская Октябрьская революция ставила под угрозу их материальные интересы и свободу слова.
Русские чехи, 1917 год, российская революция, русско-чешские отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147219835
IDR: 147219835 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-61-71
Текст научной статьи Русские чехи накануне и во время революции 1917 года
Чешские поселения в России, в которых по первой переписи населения в России в 1897 г. насчитывалось 50 385 чел., находились в крупных городах (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Варшава) и сельских областях (Волынь, Крым, Кавказ). До Первой мировой войны не существовало объединяющей их центральной организации, взаимосвязь поддерживалась, прежде всего, через киевский журнал «Чехословянин» («Čechoslovan»).
Многих чехов – подданных России – сразу после начала войны призвали в ряды русской армии, позже некоторых из этих так называемых российских призывников откомандировали в чехословацкие подразделения. Добровольцы, вступившие в Чешскую дружину, набирались не только из чехов – российских подданных, но также из числа многих тысяч живших и работавших в России соотечественников, сохранивших за собой австрийское подданство.
После начала войны австро-венгерские и германские подданные вызывали подозрение у российских властей. Они подлежали интернированию, выселению в отдаленные губернии и конфискации имущества. В соответствии с циркуляром российского министра внутренних дел Н. А. Маклакова все австро-венгерские и германские подданные в возрасте от 18 до 45 лет, способные носить оружие, подлежали немедленному аресту и высылке. Местами выселения стали губер- нии в Поволжье, на Урале, в Сибири и Туркестане, где они находились под наблюдением полиции. На распоряжение принадлежавшим им промышленными предприятиями могли наложить запрет, ограничивалось и право распоряжаться своей землей.
Все это послужило довольно серьезным основанием для проведения чешскими обществами демонстраций лояльности в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Одессе и Ростове-на-Дону в первые дни войны. Усилия по получению исключений из правил о выселении и конфискации вели к добровольному вступлению в Чешскую дружину и подачам прошений на получение российского подданства. Например, киевские чехи единогласно отказались от австрийского подданства на своем собрании 27 июля (9 августа) 1914 г. 1
Правительство России предоставило чешским обществам право на выдачу свидетельства о славянском происхождении соотечественников, состоявших в австрийском подданстве. Любые действия полиции против чехов, которые чехословацкими обществами на Руси были признаны лояльными, были остановлены. Таким образом, чешские общества спасли сотни чехов с австрийским подданством от последствий ответных мер, предпринятых российскими властями против иностранцев из враждебных государств. Они обеспечили свободу соотечественникам и сохранили их имущество. Австрийский паспорт был заменен свидетельством чешского общества.
Сразу же после начала войны российские чехи стали формулировать свои первые программные установки. Московская чешская община во время аудиенции у царя в Кремле 7 (20) августа 1914 г. говорила об освобождении и объединении всех славян под управлением России. И в Петрограде во время аудиенции местных чехов у царя 4 (17) сентября 1914 г. от имени четырех крупнейших чешских обществ – киевского, петроградского, московского и варшавского – выступил фабрикант Отакар Вацлав Червены, который сформулировал идею освобождения страны короны св. Вацлава с помощью России: «Делегаты чешских обществ, как представители русских чехов и словаков, бегут к Вашему Императорскому Величеству… Ныне, когда все лучшие люди чешского народа в Австрии томятся в тюрьмах или каким-то другим образом принуждаются к молчанию, когда весь чехословацкий десятимиллионный народ, всегда хранивший горячую любовь ко всему Славянству, и особенно, к Великой России, лишен возможности выражать свои сокровенные желания, ныне он осмеливается представить Вашему Императорскому Величеству данный документ… Подготовительные работы в последнее время во всех чешских политических партиях дают нам моральное право утверждать, что исполнение стремлений, выраженных в нашем памятном документе, наполнило бы глубокой радостью весь чехословацкий народ… Пусть же засверкает свободная и независимая корона Св. Венцеслава в лучах короны Романовых!» [Kudela, 1935. S. 11]. Петроградское Чешское вспомогательное общество насчитывало тогда 360 членов, киевское благотворительно-просветительское общество им. Я. А. Коменского – 323 участника, московский Чешский комитет объединял 256 членов, Чешская беседа в Варшаве – 219 членов.
Сразу же после начала войны в Петрограде 28 августа (10 сентября) 1914 г. был создан Совет чехов в России, который должен был созвать съезд представителей всех чешских обществ в России. В декабре 1914 г. министерство внутренних дел России утвердило устав Союза чешских обществ, и на февраль (март) 1915 г. были назначены созыв и проведение в Москве его первого съезда. В съезде приняли участие 34 делегата, представлявшие одиннадцать организаций, насчитывавших 1 350 членов. На съезде была принята резолюция о создании чехословацкого государства во главе со славянским королем. Штаб-квартирой Союза стал Петроград, военная комиссия находилась в Киеве, а ревизионная комиссия в Москве. Председателем правления Союза был избран Богумил Чермак, представитель бельгийской табачной компании в России. Вне Союза оставались «Чехославянское единство» в Киеве под руководством местных фабрикантов Франтишека Дедины и Я. Зивала, в Москве – группа, сформировавшаяся вокруг Святополка Кони-чека-Горского в Чешско-русском всеславян- ском комитете и Русско-словацкое общество Л. Штура.
Задачей Союза было объединить всех чехов, живущих в России, организовать чешские добровольческие формирования, собирать средства для поддержки жертв войны и на обеспечение вдов, сирот и раненых солдат. Членами Союза стали действующие чешские общества, делегировавшие на съезд по одному делегату от каждых 50 членов. Во главе Союза стояло правление, состоявшее из председателя, казначея, секретаря и двух кандидатов, избранных съездом сроком на один год. Местонахождение правления определял съезд. Начиная с 1916 г. правление находилось в Киеве.
Уже к началу 1915 г. Союз добился некоторых послаблений. Было остановлено выселение чехов с австрийским гражданством из Петрограда и других городов, по-прежнему не устанавливался запрет на распоряжение имуществом, обновлен доступ к банковским вкладам, в Чешскую дружину разрешалось принимать военнопленных и привлекать специалистов из числа пленных для работы на чешских заводах в Киеве и в других городах. В отношении чехов было отменено распоряжение от 11 (24) сентября 1914 г., на основании которого от посещения учебных заведений освобождались учащиеся с немецким, австрийским и венгерским подданством 2. Были освобождены чехи, задержанные в связи с объявлением военного положения, и лица, подозреваемые в шпионаже 3.
В 1915 г. российские власти предписали составить перечень коммерческих и промышленных предприятий, в руководстве которых были подданные государств, воюющих с Россией. В Киеве была создана комиссия для контроля за предприятиями Киевской губернии, владельцы которых являлись подданными вражеских государств. В управлении нескольких предприятий в Киеве, например Акционерного общества Гретер и Криванек (Grether-Křivánek), работали чехи с австрийским подданством, которых вынуждены были отстранить 4. Некоторые чехи, в том числе из военнопленных, находились под тайным надзором губернского жандармского руководства.
Второй съезд Союза, который проходил с 12 по 18 апреля (25 апреля – 1 мая) 1916 г. в Киеве, завершился победой возникшей к тому времени оппозиции во главе с киевским предпринимателем в гостиничном деле и волынским помещиком Вацлавом Вондраком, энергичным и талантливым организатором. За работой Съезда по приказу российского министерства внутренних дел внимательно следило Киевское губернское жандармское управление 5.
В работе киевского Съезда приняли участие 80 делегатов, в том числе 20 из Москвы, 7 из Петрограда, остальные из Киева, Варшавы, Ростова-на-Дону, Екатеринославля, Ека-теринодара, Одессы, Житомира и Харькова. Председатель Богумил Чермак говорил о чешском содействии славянскому делу в войне и в экономической сфере. Редактор Богдан Павлу доложил о своей поездке в Англию и встрече с председателем Чехословацкого национального комитета Т. Г. Масариком. Секретарь Союза Иржи Клесанда, который представил отчет о деятельности за прошедший год, сообщил, что предложение Союза об организации чехословацкого войска в ответственных российских кругах посчитали преждевременным, поэтому Союз занялся организацией работы чешских военнопленных в промышленности и сельском хозяйстве на благо и в защиту государства (Киевская мысль. 1916, № 105). Было избрано новое правление Союза во главе с В. Вондраком.
Новому руководству Союза пришлось решать проблемы, возникавшие с разных сторон. Группа царефилов во главе с Ф. Дединой, Я. Зивалом и другими издавали свою собственную газету «Славянский вестник» на русском, сербском и чешском языках. В оппозиции находилась либеральная петроградская группа чехов, пользовавшаяся поддержкой среди пленных, которые основали в Киеве «Клуб собратьев», ориентированный на заграничное руководство Масарикa. Но все же главным противником было русское министерство иностранных дел, которое начало активно вмешиваться в чехословацкое движение в России.
Впоследствии заведующий специальным политотделом МИДа М. Приклонский характеризовал новое руководство Союза и его планы отрицательно. По его мнению, целью киевского руководства было неконтролируемое и абсолютное подчинение чехов и словаков в России Т. Г. Масарику. «Лондонский комитет» (парижский Чехословацкий национальный совет) якобы носил характер революционного правительства будущей Чехии, а российское правительство не имело на него никакого влияния. Приклонский считал неприемлемым позволять чехам иметь собственные вооруженные силы и свои собственные материальные ресурсы из национальных налогов. Он обвинил Вондрака в антироссийских и антимонархических взглядах и подчеркнул, что известно также об ан-тироссийской направленности деятельности Т. Г. Масарика.
Политика Вондрака и Масарика якобы была направлена против интересов России. МИД опасался, что от чехов Россия дождется «болгарской благодарности» 6. Правительство России не должно было давать разрешения на освобождение плененных славян, а вместо этого следовало бы учредить в Петрограде новый чешский и словацкий комитет, во главе которого стояли бы люди, симпатизирующие России и материально зависимые от российских властей. По словам начальника Генерального штаба ген. A. И. Аверьянова, «Союз, который в начале войны представлялся как благотворительная организация, под влиянием Лондона и Парижа перешел к политической деятельности. При этом именованный Союз попал под влияние чешского профессора Масарика […] деятельность этого человека Министерством иностранных дел характеризуется как подозрительная и откровенно враждебная по отношению к интересам России. Вышеназванное правление Союза чехословацких обществ в России, его председатель и члены представляют опасность своими левыми политическими тенденциями, враждебными по отношению к нашим государственным интересам… чехословацкие организации […] приобрели во- енно-политический характер политического органа, послушно выполняющего распоряжения иностранных организаций, которые могут их использовать в целях, которые не отвечают государственным интересам России» [Каржанский, 1918. С. 26].
Царское правительство пригласило в Россию заместителя председателя Чехословацкого национального совета в Париже Йозефа Дюриха, который приехал с согласия Т. Г. Масарика. В России он должен был проводить пропаганду среди военнопленных, ведение официальных переговоров возлагалось на генерала М. Р. Штефаника. После прибытия Дюриха в Россию разгорелся конфликт между местными чешскими группами.
Сначала все были рады его прибытию или, по крайней мере, делали вид. Председатель Союза Вондрак прокомментировал это событие: «Обойдем его» [Клеванский, 1962. С. 93]. Союз хотел предложить Дюриху должность формального представителя. В августе 1916 г. Дюрих и Штефаник подписали с представителями Союза так называемый киевский протокол, в котором Союз выражал согласие с тем, что все вопросы, связанные с войной и военнопленными, относятся к дипломатической и политической деятельности Национального совета в Париже. Однако киевский компромисс не удовлетворил никого, а МИД попытался организовать новое руководство для русских чехов. Протесты раздавались в основном со стороны правого крыла чешских групп.
Представитель радикальной государственно-правовой группы Витеслав Штепанек предостерегал Дюриха в августе 1916 г. от отказа от программного союза с Россией: «Вы ныне в Киеве подчинились совместно с Союзом некой новой чужой (лондонско-парижской) организации проф. Масарика» [Попов, 1929. С. 9]. В МИД России он писал, что «временно победило неславянофильское направление – в лице нового правления Чехословацкого союза в Киеве во главе с г. Вондраком» и хотел «сформировать новый высший орган по чешским делам в министерстве, который стал бы российским центром, противостоящим лондонскому и парижскому». По мнению киевского «Чехославянско-го единства», руководство Союза отличалось
«крайне левой политической направленностью», наклонностью к Мaсaрику.
Подчиненность Союза Национальному совету, по мнению заместителя министра иностранных дел А. А. Нератова, являлась источником возникновения политически чуждого элемента, который бы стал послушным орудием зарубежного диктата. МИД предложил создать новый комитет во главе с Дюрихом как противовес Союзу и Масарику. В декабре 1916 г. Совет министров России одобрил выделение средств на деятельность комитета под руководством Дюриха. Цель Дюриха заключалась в освобождении чешских земель и создании союза славянских государств во главе с Россией. Его комитет должен был занимать положение, аналогичное положению парижского Национального совета. Масарик протестовал против таких установок и, обращаясь к Союзу, заявил, что Дюрих неправомочен создавать новый Национальный совет, а должен был организовать лишь российский филиал Чехословацкого национального совета в Париже.
В январе 1917 г. киевское «Чехославян-ское единство» потребовало в письме, адресованном военному министру, отстранения членов правления Союза В. Вондрака, Л. Тучека и В. Швиговского, которые якобы не располагают доверием чешских поселенцев и военнопленных в России. В письме к Й. Дюриху «Чехославянское единство» обращалось с просьбой в кратчайшие сроки созвать съезд чешских обществ и делегатов от военнопленных: «Если у Вас нет сил, чтобы избавиться от непригодных и недостойных для решения нашего большого дела, будет лучше признать свою ответственность перед народом и отказаться от роли лидера» [Кар-жанский, 1918. С. 31]. Но весь план, связанный с советом Дюриха, распался после Февральской революции 1917 г.
Среди радостно приветствовавших Февральскую революцию были и русские чехи. Они воспринимали это событие не только как победу демократических принципов, как поражение германофильской системы, но также с позиции собственных национальных интересов. Не было сомнений в том, что российская демократия поддержит справедливые требования чешского народа. Русская революция политически освободила военно- пленных, но чешские предложения по формированию военных формирований из числа пленных остались невыполненными.
Февральская демократическая революция предоставила возможность осуществить раскрепощение политической жизни в России и улучшить положение национальных меньшинств. Вместо немногочисленных обществ старожилов и их взаимных трений решающим фактором стали организации военнопленных, воодушевленных революцией к политической активности. Они решительно выступали как против Дюриха и его Совета, так и против правления Союза, обратившись к парижскому Национальному совету. Оппозиция, выступающая против правления Союза, объединилась вокруг петроградского «Čechoslováka», начиная с конца марта 1917 г. здесь проводились совещания представителей петроградских, московских и харьковских обществ, организаций военнопленных и солдатских комитетов чехословацкой бригады. Взаимная полемика петроградского «Čechoslováka» и киевского «Čechoslovana» вызывала антипатию у части представителей войска. Офицеры 3-го полка им. Я. Жижки в феврале 1917 г. написали, что «оба чешских издания на своих страницах предоставляют возможность осуществлять нападки, переходя на личности, и вести полемику – начатую, к сожалению, “Čechoslovákem”… Если оба журнала не прекратят вести страстную полемику и бурную политику в отношении институтов ныне существующих, то пусть больше не утруждают себя пересылкой журналов нам в армию» [Firsov, 1995. S. 109].
Двадцать шестого марта (8 апреля) 1917 г. в зале коммерческого института в Киеве собрались на манифестацию члены чехословацкой бригады и сотрудничавшие с Союзом представители из числа военнопленных, к которым обратился член редакции «Čechoslovana» Ярослав Гашек, призывая к единству в рядах великой чешской республиканско-демократической партии, которая окажет поддержу Национальному совету в Париже. По предложению Гашека были направлены телеграммы Временному правительству, совету и посольствам стран-союзников. Военнопленные собрались в Киеве в здании Педагогического музея 12 (25) марта
1917 г., чтобы приветствовать революцию в России.
В то же время председатель Союза В. Вон-драк в Петрограде вел переговоры с представителями нового Временного правительства, в частности, с А. Ф. Керенским 7, осуждавшим дореволюционное сотрудничество чехов с царизмом. Вондрак сразу же написал премьер-министру кн. Г. Е. Львову 3 (15) марта 1917 г.: «Прошу признать нас дружественным, союзническим народом, дать нам право и возможность иметь собственную организацию… освобождать верных чехов и словаков из плена, распределять их на заводы, имеющие важное значение для обороны, принимать добровольцев в войско… В качестве единого лидера мы признаем Масарика. Представителем и организатором народа в России мы считаем Союз чехо-словацких обществ». Но и киевское «Чехославянское единство», не теряя времени, направило телеграммы кн. Г. Е. Львову, председателю Государственной Думы М. В. Родзянко и военному министру А. И. Гучкову. «Мы повторяем просьбу признать чехов и словаков народом-союзником, освободить сотни тысяч военнопленных, убежденных славян, для участия в борьбе против тирании», – писал председатель Общества Зивал [Каржанский, 1918. С. 44, 45].
С консервативных позиций на петроградскую группу начались нападки со стороны нового еженедельника «Revoluce», редактором которого был Ладислав Грунд, секретарь председателя Союза Вондрака. В первом номере журнала был опубликован фельетон Гашека «Чешский Пиквикский клуб», сатира на руководство Корпуса сотрудничающих военнопленных и редактора «Čechoslováka» Богдана Павлу, находившихся в оппозиции к киевскому правлению Союза. За эту статью по прибытии на фронт Гашек был избит солдатами как контрреволюционер, на три дня заперт в сарае, пока не отказался от своей статьи 8. В киевском «Čechoslovanu» на протяжении всего 1917 г. и в начале 1918 г. Гашек публиковал на большевиков острые памфлеты и фельетоны (Čechoslovan. 1917. № 2–7, 10, 16, 49–59; 1918. № 1–3).
В конце марта 1917 г. в Киеве вышла листовка «Na stráž!», которая должна была выражать настроения рабочих завода «Чешская мостовая». Текст листовки предостерегал российских рабочих от мирных лозунгов немецких социалистов. Листовку тоже напечатал киевский «Čechoslovan» [Зарубежные интернационалисты..., 1967. С. 284, 285]. Против листовки на страницах петроградского «Čechoslováka» выступил председатель исполкома чешской социал-демократической организации в Киеве Арношт Свозил.
После Февральской революции произошел переворот в по-прежнему стоящем на позициях царефилов обществе «Чехосла-вянское единство». Организация состояла в основном из военнопленных, отказавшихся присоединиться к чехословацкой бригаде. Вместе с киевскими социалистами они выступали за мир без аннексий и контрибуций. От «Чехославянского единства», в котором доминировали бывшие пленные, отделилась консервативная группа «Кружок славян и славянская солидарность» во главе с Ф. Дединой, по мнению Прокопия Максы, «романтическим славянофилом, человеком с больным воображением, что он обязан спасти Россию» [Там же. С. 301].
Русская демократическая революция в марте 1917 г. создала основу для более активной политической деятельности русских чехов. Их представителем все еще оставался Союз чехо-словацких обществ на Руси. Председатель Союза В. Вондрак сообщил министру иностранных дел П. Н. Милюкову, что Союз признает в качестве единственного лидера Т. Г. Масарика. Началась борьба правления Союза и петроградской оппозиции за благосклонность нового правительства. Масарик в телеграмме Вондраку требовал «прежде всего, святое единство, сотрудничество с петроградским меньшинством… Постарайтесь самым серьезным образом помочь мне в подключении меньшинства к делам. Отложите на время свои раздоры, пагубно влияющие на нашу работу здесь» [Там же. С. 235].
События в России комментировал Э. Бенеш в своем письме Масарику, он писал: «Я делаю вывод, что афера Дюриха разрешилась сменой режима… Вот так же могла бы рухнуть и банда с Вондраком. В любом случае, в конце апреля состоится съезд Союза.
Я думаю, Вам надо послать речь или, учитывая эти новые обстоятельства, поехать туда. Возможно, это была удача, что Вы не поехали раньше» [Korespondence..., 2004. S. 219]. На третьем съезде, который открылся 23 апреля (6 мая) 1917 г. в Киеве, правление во главе с В. Вондраком сменилось новым руководством, а именно, под председательством начальника одной из больниц Киева Вацлава Гирсы, который однозначно тяготел к парижскому Национальному совету Масарика.
В съезде участвовали 113 делегатов, представляющих 20 земляческих обществ, объединяющих 5 700 членов, 95 делегатов от армии и 129 делегатов от 335 организаций военнопленных, насчитывающих 22 890 чел. (среди членов земляческих обществ было более 2 тыс. военнопленных). В принятой резолюции говорилось, что «в настоящее время, когда Россия гигантскими шагами движется по пути прогресса к трансформации своего государственного устройства, мы собрались здесь, делегаты масс полноправных австрийских и венгерских граждан, вместе с нашими соотечественниками, живущими в России, чтобы выразить свою национальную волю и определить свое политическое будущее» [Революционные стремления..., 1917. С. 6]. В телеграмме Т. Г. Масарику говорилось: «Union sacre достигнут под эгидой Чехословацкого национального совета и под Вашим руководством. Есть согласие войска, военнопленных и комитетов, за исключением небольшой группы вокруг Вондрака и Дюриха… Союзу будут перенаправлены консульские дела, все остальное – Национальному совету» [Kude-la, 1927. S. 47].
Дюриха на съезд не пустили. Вондрак в журнале «Revoluce», который он финансировал совместно с Йиндржихом Йиндржише-ком, выступил от имени чешских переселенцев, отстаивал старое руководство Союза, нападал на петроградскую группу. Представители «Чехославянского единства» могли принять участие в съезде только в качестве наблюдателей. Победу одержало прозападное либеральное крыло чехословацкого ан-тиавстрийского движения в России, а Союз мог впредь представлять только русских чехов и словаков. На третьем съезде Союза было учреждено отделение Чехословацкого национального совета в России, которое из рук Союза окончательно взяло под свой контроль решение политических и военных дел, а также вопросов по военнопленным. Поддержку резолюциям третьего съезда выразил съезд чехословацких обществ на Северном Кавказе, состоявшийся в мае 1917 г. в Екатеринодаре. Делегаты требовали, «чтобы коалиционное правительство России признало право на будущую независимость и с ним признало чехословаков народом-союзником, борющимся вместе с русской армией против германской коалиции. Мы будем всеми силами поддерживать лозунг, провозглашенный коалиционным правительством России, о самоопределении народов, мы поддерживаем кредит свободы и стремимся к укреплению закона, порядка и справедливости» (Čechoslovan. 1917, № 7).
Сдержанность в отношении резолюций третьего съезда выразило общее собрание Чешского комитета в Киеве 20 мая (3 июня) 1917 г. Собрание напоминало об ухудшении и усложнении положения русских чехов, к которым местные власти подходили избирательно. Председатель комитета проф. Ф. К. Шнепп подверг критике действия, в результате которых были отстранены национальные кадры, неудобные петроградской группе, представители которой заняли руководящие посты в отделении Чехословацкого национального совета (ЧСНС). Киевский Чешский комитет обратился к председателю ЧСНС Т. Г. Масарику, чтобы он в последующем исправил то, что «было допущено партийным подходом и односторонним решением вопросов».
Масарик должен был подавить причины разлада, отказаться от личных амбиций и стремления односторонне управлять чешскими делами в России, обеспечить справедливое и равное представительство всех русских чехов, дабы принятые меры «изменили содеянное и предотвратили последующее устранение честных и испытанных общественных работников, неудобных, возможно, лишь для тех, кто в силу обстоятельств завел непропорциональное, основанное на партийности представительство в руководстве и организации всеми общественными и политическими вопросами, в общем и дорогом всем национальном деле» (Ibid.). Деятельность бывшего руководства Союза чехо-словацких обществ во главе с В. Вондраком следует оценить справедливо. На следующем общем собрании Чешского комитета в Киеве 2 (15) июня 1917 г. военнопленные пытались свергнуть новый комитет, но это им не удалось.
Недостаточная поддержка чехословацких требований со стороны коалиционного правительства, по мнению киевского «Čechoslovana», исходила «из обстоятельства, что нынешняя русская демократия, пока еще не определившаяся, не прошла школу политического опыта, и утопающая до сих пор в утопиях, не стремится понять наши устремления, и эффективной помощи ожидать от нее нельзя» (Ibid.).
«Čechoslovan» критиковал чешских предпринимателей из Киева, Москвы и Петрограда за то, что они, в отличие от волынских чехов, пострадавших от военных событий, не выделяют достаточной финансовой поддержки антигабсбургскому сопротивлению: «Вы ходите по Киеву, ходите по Москве, ходите по Петрограду и по другим местам необъятной Руси и ни в чем не нуждаетесь для удовлетворения ваших эгоистических интересов. А чем вы пожертвовали? Если бы вы дали половину своего дохода, мало этого! А вы не дали еще ничего… Или мало по сравнению со своими доходами!» (Ibid.).
Большой резонанс вызвал приезд в Киев председателя ЧСНС Т. Г. Масарика в июле 1917 г. вскоре после битвы при Зборове, в которой отличились чехословацкие легионы. Масарик встретился с представителями здешних чешских обществ, критиковал отношения, которые ранее царили в чешских рядах, и сообщил, что «российское правительство нам предоставило определенные гарантии в вопросе формирования чешского войска». По его словам, большинство чешских рабочих, связанных с социал-демократической партией, включая ее киевскую организацию, тоже одобрило деятельность за границей. На замечание промышленника Йиндржиха Йиндржишека, защищавшего бывшее правление Союза чехо-словацких обществ: «Мы ведь хотели иметь войско небольшое и стальное», – Масарик в своем ответе констатировал: «Мы будем иметь войско большое и стальное».
Прежнюю военную деятельность, по его словам, вели неспециалисты. Украинское национальное движение Масарик считал аналогичным словацкому. На большом народном митинге в Киевском университете с участием Т. Г. Масарика собрались более 5 тыс. чешских соотечественников и военнопленных. В резолюции, принятой присутствующими, подчеркивалось, что они считают Масарика лидером чехословацкого революционного движения (Čechoslovan. 1917, № 30).
В то же самое время отдел по делам военнопленных отделения ЧСНС принял постановление, в котором предостерегал их от вступлений в отношения с российскими женщинами: «В этот исторический момент сознательному чеху недостойно заводить знакомства, которые могут повлиять на свободу его поведения и затруднить, если даже не помешать, исполнению национальных обязательств. Все такие люди, это можно смело сказать, потеряны для нашего революционного дела, ибо все – время, работу, деньги – они вынуждены отдавать своей семье, они связаны другими, не национальными интересами… Это дикие плоды на дереве национальной жизни. Мы же нуждаемся в людях цельных» (Ibid.). На совещании отделения в Петербурге 12 (25) сентября 1917 г. Т. Г. Масарик заявил: «Мы не должны вмешиваться в российские отношения, но отчасти нам нужно вмешиваться! На Волыни находятся наши чехи, которые поставлены перед украинским вопросом» [Za sovětské Rusko, 1978. S. 271, 272].
Председатель Союза В. Гирса летом 1917 г. принял участие в Государственном совещании российских общественных организаций, а также промышленных и деловых кругов в Москве как один из 58 представителей нерусских национальностей. В своей речи 15 (28) августа 1917 г. он подчеркнул, что у чехов и словаков та же цель, что и у русских – поражение Германии и Австро-Венгрии. Он выделил идею русской Февральской революции о самоопределении народов, закончив свою речь призывом: «Да здравствует свободная, могучая и единая Россия» (Ibid. № 35). В связи с созывом Всероссийской демократической конференции в Петрограде, намеченной эсерами и меньшевиками на сентябрь 1917 г., киевский «Čechoslovan»
констатировал: «Отношения внутри России по-прежнему не ясны. Коалиционное министерство по-прежнему рассматривается как предмет рассуждений, но более вероятно, что правительство возьмет на себя демократия, о чем примет решение демократическая конференция, созванная в эти дни» (Ibid.).
Февральская революция создала предпосылки и для активизации чешских социал-демократов в России. Они состояли в основном из числа военнопленных, организационной базой которых стало «Чехославянское единство» в Киеве. С апреля 1917 г. в Киеве работала организация Чехословацкой социал-демократической партии. В конце августа было опубликовано сообщение ЦК Чехословацкой социал-демократической партии, что без согласия Исполнительного комитета ни одно лицо не должно вступать в комитеты обществ вне партии.
В октябре 1917 г. вышел первый номер социал-демократического еженедельника «Svoboda», который Славянская типография отказалась напечатать. Командование легионов тоже запретило распространение этого журнала. Отделение ЧСНС следило за деятельностью социал-демократов, которые хотя и признали дело Масарика, но парализовали вербовку в чехословацкое войско. Отделение принципиально выступало против создания организаций чешских политических партий в России. Социал-демократы сосредоточились в основном на работе с военнопленными, трое членов центрального комитета входили в Киевский совет.
По мнению русских чехов, после Февральского переворота «изначально многоо-бещаемая свобода внезапно под влиянием темных стихий превратилась в анархию и террор. Разложение проникло и в русскую армию, солдаты массово покидали поле боя… С девизом “смерть буржуям” сброд и деморализованная армия набросилась на зажиточных граждан и интеллигенцию и, как дикие звери, убивали и грабили. Крупные поместья, промышленные предприятия и магазины были разграблены и опустошены. На очереди были средние и мелкие хозяйства» 9. В то время как Февральская революция в понимании чехов полностью соответствовала представлениям большинства русских сооте- чественников о демократическом устройстве общества и равноправии народов, большевистская Октябрьская революция ставила под угрозу их материальные интересы и свободу слова.
Список литературы Русские чехи накануне и во время революции 1917 года
- Каржанский Н. С. Чехословаки в России: по неизданным официальным документам. М.: Змiй, 1918. 95 с.
- Клеванский А. Х. Из истории чехословацких политических организаций в России (1914 - февраль 1917 г.) // Уч. зап. Ин-та славяноведения. М., 1962. Т. 25. С. 60-102.
- Попов А. Л. Чехо-словацкий вопрос и царская дипломатия в 1914-1917 гг. // Красный архив. 1929. Т. 34. С. 3-38.
- Firsov Je. F. Boj Čechů a Slováků v Rusku o Masarykův program v letech 1916-1917 a Masarykův odkaz moderní demokracii (ve světle archivních nálezů) // První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Praha, 1995. S. 103-114.
- Kudela J. Československý revoluční sjezd v Rusku. Brno: Moravský legionář, 1927. 48 s.
- Kudela J. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u cara Nikolaje II. Brno: Moravský legionář, 1935. 91 s.