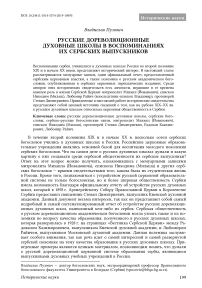Русские дореволюционные духовные школы в воспоминаниях их сербских выпускников
Автор: Пузович Владислав
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 (88), 2019 года.
Бесплатный доступ
Воспоминания сербов, учившихся в духовных школах России во второй половине XIX и в начале XX веков, представляют исторический интерес. В настоящей статье рассматриваются мемуарные записи, один официальный отчет, предоставленный сербским церковным властям, а также полемика о русском академическом богословии, опубликованная в сербских церковных периодических изданиях. Среди авторов этих исторических свидетельств есть личности, игравшие в те времена важную роль в жизни Сербской Церкви: митрополит Михаил (Йованович), епископ Никодим (Милаш), Любомир Райич (впоследствии епископ Владимир), протоиерей Стеван Димитриевич. Приведенные в настоящей работе исторические свидетельства представляют собой ценный источник сведений о том, как на рубеже XIX-XX вв. к русским духовным школам относилась церковная общественность в Сербии.
Русские дореволюционные духовные школы, сербские богословы, сербско-русские богословские связи, митрополит михаил (йованович), епископ никодим (милаш), протоиерей стеван димитриевич, радован казимирович, любомир райич
Короткий адрес: https://sciup.org/140246752
IDR: 140246752 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10095
Текст научной статьи Русские дореволюционные духовные школы в воспоминаниях их сербских выпускников
В течение второй половины XIX и в начале XX в. несколько сотен сербских богословов учились в духовных школах в России. Российские церковные образовательные учреждения являлись основной базой для воспитания молодого поколения сербских богословов. Что на самом деле о русских духовных школах думали и какую картину о них создавали среди сербской общественности их сербские выпускники? Ответ на этот вопрос можно получить, ознакомившись с мемуарными записями митрополита Михаила (Йовановича), епископа Никодима (Милаша) и других сербских богословов — яркими сведетельствами того, какова была их студенческая жизнь в России. Кроме того, познакомиться с устройством русской церковной образовательной системы не только богословская, но и более широкая общественность Сербии имела возможность благодаря официальному отчету об устройстве русских духовных школ, который в 1898 г. Архиерейскому Собору Православной Церкви в Королевстве Сербии предоставил священник Стеван Димитриевич, выпускник Киевской духовной академии. Данный документ весьма интересен, так как он представляет собой самый подробный и самый систематизированный отчет об устройстве русских дореволюционных духовных школ, написанный кем-либо из сербов. Сербская общественность о русском дореволюционном академическом богословии могла узнать также и из полемики по вопросу качества образования, полученного в русских духовных школах, которая развернулась в 1928 г. на страницах «Вестника Сербской Церкви» между Радованом Казимировичем, выпускником Киевской духовной академии, и Любомиром Райичем, выпускником Московской духовной академии. Данная полемика заслуживает особого внимания, так как речь идет о самой интересной и самой развернутой сербской полемике на тему качества образования в русских духовных школах. Приведенные примеры являются ценным материалом, позволяющим понять, что думали о русской дореволюционной церковной системе образования сербы, являющиеся выпускниками духовных учебных учреждений в России.
русские духовные школы в воспоминаниях сербов
Белградский митрополит Михаил (Йованович) был первым сербом, поступившим в XIX в. в одну из русских духовных академий1. Он искренне восхищался Киевской духовной академией. Еще студентом он с воодушевлением писал о своей alma mater . В письме митрополиту Петру (Йовановичу) от 12 августа 1851 г. он особо подчеркивает свое желание закончить духовную академию именно в Киеве, добавляя, что обучение в Киеве будет для него весьма полезным как относительно его духовного развития, так и относительно его богословского образования. Он считал, что, с одной стороны, академия даст развитие его интеллектуальным способностям, и, с другой, что там его сердце исполнится благодатью больших киевских святынь. Он был уверен в том, что учеба в Киеве окажет положительное влияние на его характер, «так как великих просветителей и ревнителей православия в России породила именно академия в Киеве» [Слијепчевић, 1980, 23]. Будучи митрополитом и принимая в 1869 г. участие в торжествах, посвященных 50-летнему юбилею реформированной Киевской духовной академии, он с тем же воодушевлением, которое было характерно для него в его студенческие дни, сказал: «Она первая открыла свое лоно и нам — православным, живущим на востоке и юге. Греки, сербы, болгары, румыны обязаны сему светлому святилищу наук за духовное образование многих своих сынов, служащих святой Православной Церкви» (Пятидесятилетний юбилей, 1869, 19).
Более сдеражнно, чем митрополит Михаил, о своих студенческих годах в Киевской духовной академии писал еще один известный сербский архиерей, епископ Никодим (Милаш)2. Причиной такой сдержанности могло стать время, проведенное еп. Никодимом в Западной Европе (Университет в Вене), где, в отличие от митр. Михаила, он некоторое время учился. В своей «Автобиографии» еп. Никодим выносит в какой-то мере противоречащие друг другу замечания об уровне качества образовательной системы в Киеве. Так, в одном месте он пишет, что по качеству лекции в Киеве не уступают лекциям в Венском университете, в котором он учился до этого и от которого был в восторге. Преподаватели «весьма серьезно подходили к выполнению своих преподавательских обязанностей», пишет еп. Никодим, добавляя, что там он «впервые по-настоящему стал понимать богословие, особенно церковное право и историю Церкви» (Ячов: Аутобиографија, 1983, 30). В другом месте той же «Автобиографии» он выносит прямо противоположные суждения. Помимо прочего, еп. Никодим (Милаш) пишет, что за четыре года своей учебы в Киеве ему не удалось научиться многому, а всего лишь ознакомиться с общими понятиями богословия. Возникновение у себя интереса к церковному праву Милаш не ставил в заслугу своему преподавателю и научному руководителю Петру Александровичу Лашкареву: он пишет, что тот «данной наукой особо не интересовался» (Ячов: Аутобиографија, 1983, 31). В своей «Автобиографии» еп. Никодим высказывает и еще одно отрицательное мнение о Киевской духовной академии: он пишет, что учеба в Киеве в нем не пробудила ни малейшего желания стать священнослужителем. Большая часть его преподавателей были люди светские, а у большей части его друзей не было никакого желания принять сан священника. В целом, относительно принятия сана священника, по мнению еп. Никодима (Милаша), академия оказывала неблагоприятное влияние (Ячов: Аутобиографија, 1983, 31).
Важные сведения о русских духовных академиях можно получить также из записок еще одного выпускника Киевской духовной академии — Йована Пичеты, серба из Герцеговины, ставшего впоследствии ректором духовных семинарий в Витебске и Полтаве3. Особенностью его мемуарных записей, по сравнению с воспоминаниями митр. Михаила и еп. Никодима, является тот факт, что они написаны сербом, выстроившим свою карьеру в России. Свои воспоминания о школьных годах Пичета опубликовал в 1911 г. в Харькове; часть мемуаров, рассказывaющая о Киевской духовной академии, была опубликована в 2015 г. в рамках второго тома «Биографического словаря выпускников Киевской духовной академии» (Ульяновский: Биографический словарь , 2015, 516–526). Пичета в мемуарах не забыл упомянуть ни одного из своих киевских преподавателей. Лучшими среди своих наставников он считал Василия Федоровича Певницкого, Ивана Игнатьевича Малышевского, Александра Дмитриевича Воронова, Филиппа Алексеевича Терновского. С большим уважением он отзывался о ректоре и инспекторе академии — архим. Филарете (Филаретове) и архим. Сильвестре (Малеванском). Пичета пишет и о тех преподавателях, которые своими педагогическими способностями особо не выделялись, например о Михаиле Спиридоновиче Гуляеве, Константине Ивановиче Скворцове, Никифоре Ивановиче Щеголеве. Любопытным является замечание Пичеты о постепенном снижении уровня мотивации к учебной деятельности студентов: после первоначального воодушевления лекциями, пишет он, наступал период равнодушия, вызванный прежде всего склонностью преподавателей к излишней велеречивости (Ульяновский: Биографический словарь , 2015, 516–526).
Среди написанного сербами о русских духовных школах внимание привлекает один неопубликованный документ, хранящийся в Архиве Сербии в Белграде. Речь идет об отчете, посвященном Киевской духовной академии и охватывающем период конца 80-х и начала 90-х гг. XIX в. (АС. МПс. Ц. Ф. IV. Р. 164/91. Л. 1–28). Отчет от 19 августа 1891 г. сербским церковным властям предоставил священник Иван Весич, выпускник Киевской духовной академии4. В данном документе описано устройство академии, способ сдачи вступительных экзаменов, организация образовательного процесса, правила написания студенческих работ, а также и основные элементы содержания учебных предметов. Весич в отчете упоминает и о литературе, использованной им для подготовки к экзаменам5. Он также отмечает, что преподаватели в Киеве добросовестно относились к своей работе, придерживались утвержденных учебных программ, критически относились к преподаваемым ими предметам. Его отчет полностью положителен, в нем нет никакой критики в адрес духовной академии6.
Своеобразными свидетельствами о русских духовных школах представляются и некрологи в память о преподавателях, написанные их сербскими студентами и опубликованные в сербских церковных журналах. Благодаря этим текстам сербская богословская общественность, помимо воспоминаний о самых важных представителях русского дореволюционного академического богословия их сербских учеников, имела возможность вкратце ознакомиться и с их научными достижениями. В качестве примера здесь обратим внимание на некрологи двум выдающимся преподавателям дореволюционной Духовной академии в Санкт-Петербурге — Василию Васильевичу Болотову и Николаю Никаноровичу Глубоковскому, которые написали их сербские студенты Павле Швабич7 и Мирко Йованович8. Некролог памяти Болотова, написанный Швабичем, был опубликован в 1900 г. в «Вестнике Православной Церкви в Королевстве Сербии» [Швабић, 1900, 118–124], а некролог памяти Глубоковского, написанный Йовановичем, был опубликован в 1937 г. в журнале «Христианское дело» [Јовановић, 1937, 143–147] — журнале о христианской культуре и церковной жизни, выходившем в городе Скопье.
Своим текстом о В. В. Болотове Швабич ознакомил сербскую общественность с деятельностью одного из выдающихся представителей русского академического богословия. В данном тексте Швабич особо подчеркнул, что Болотов был столпом не только Духовной академии в Санкт-Петербурге, но и русского богословия в целом, что был опорой не только Церкви, но и государству российскому. Швабич также указал на то, что научные труды Болотова пролили свет на многие важные вопросы, в частности на вопросы, касающиеся переговоров со старокатоликами и несториа-нами. Швабич также пишет, что Болотов настаивал на том, чтобы публиковалось только то, что является новым словом в науке, что отзывы Болотова на работы других ученых сами по себе являлись оригинальными научными трудами. Особую значимость тексту Швабича придавал тот факт, что он лично посещал лекции Болотова. Незабываемое впечатление на Швабича произвели леции Болотова о месте, занимаемом историей Церкви среди других богословских наук, о церковно-исторических методах, о гонениях на христиан, об эпохе Вселенских Соборов. Он был уверен, что публикация этих лекций станет значимым вкладом в развитие церковно-исторической науки. В заключение некролога Швабич отмечает, что Болотов своим преподаванием не одному поколению сербских богословов оказал настоящее благодеяние Сербской Православной Церкви [Швабић, 1900, 118–124].
В тексте, посвященном Н. Н. Глубоковскому, Мирко Йованович напомнил сербской общественности важное место этого великого русского богослова, который ему когда-то был преподавателем в Духовной академии в Санкт-Петербурге. Глубоковский был гордостью академии, его работы высоко оценивали и западные богословы, в частности Адольф Гарнак9. Йованович особо выделил трехтомный труд Глубоковского об учении святого апостола Павла, считая, что именно это — главный труд всей жизни ученого. Йованович перечисляет все труды Глубоковского, созданные им в эмиграции, которые, по мнению Йовановича, обогатили православную богословскую науку, в том числе и сербскую. Глубоковский сотрудничал со многими сербскими церковными журналами, среди которых «Вестник Сербской патриархии», «Христианская жизнь», «Церковь и жизнь». Йованович, в частности, упоминает такой факт: «Глубоковский у автора этих строк, т. е. своего ученика, в конце января этого года (1937. — В. П.) в письменном виде попросил прощения, что по состоянию здоровья и из-за возраста не сможет впредь сотрудничать с „Христианским делом“ (журналом, редактором которого был Мирко Йованович. — В. П.)» [Јовановић, 1937, 146]. Своего учителя из Санкт-Петербурга Йованович называет «новым Оригеном православной богословской науки», подчеркивая, что сербские ученики никогда не забудут Глубо-ковского не только благодаря его выдающейся эрудиции, но и потому, что у Глубо-ковского было доброе христианское сердце, чье тепло могли почувствовать все, кому довелось с ним сотрудничать [Јовановић, 1937, 147].
Сербские питомцы крайне редко с горечью вспоминают о русских духовных академиях, в которых учились. Правда, время от времени можно встретить отрицательные мнения о некоторых из преподавателей. Так, например, Стеван Веселинович10 по окончании академии в Киеве весьма жестко высказался в адрес своего преподавателя Василия Николаевича Малинина, который был и одним из рецензентов кандидатской диссертации Веселиновича11. Замечания Малинина по своей диссертации Веселинович объясняет сугубо сербофобским настроением Малинина, вызванным болгарофилией последнего. Свое неудовольствие Веселинович высказал Малинину в письме, опубликованном в книге «О постању српског патријархата» [Веселиновић, 1890, 54–89]. К тем, кто критически отзывался о русском академическом богословии, можно отнести и Че-домира Марьяновича, который также был выпускником Киевской духовной академии12. Тот весьма резко высказывался о русских преподавателях Богословского факультета в Белграде, считая их последователями русской академической схоластики, препятствующей развитию сербского богословия. Чрезвычайно строго Марьянович критиковал Александра Павловича Доброклонского и Феодора Ивановича Титова13. Он считал русское дореволюционное академическое богословие безжизненным, видел в нем одну из причин русской трагедии14. С полным основанием можно считать, что Марьянович из всех сербских выпускников русских духовных школ является самым строгим критиком русского дореволюционного академического богословия.
отчет о русских духовных школах
протоиерея Стевана Димитриевича Архиерейскому Собору Православной Церкви в королевстве Сербия
Протоиерей Стеван Димитриевич являлся выпускником Киевской духовной академии, в которой учился с 1894 по 1898 г. В 1898 г. он получил степень кандидата богословских наук15. Под конец его учебы в Киеве, в июне 1898 г., митрополит Белградский Иннокентий (Павлович) поручил Димитриевичу изучить устройство русских духовных школ, написать на данную тему отчет и предоставить его Архиерейскому Собору Сербской Церкви. Данное задание он получил в связи с запланированной на то время реформой церковной образовательной системы в Сербии. Сербские церковные власти хотели, чтобы русская модель церковного образования послужила главным образцом для будущего устройства церковных школ в Сербии. Порученное ему задание прот. Стеван Димитриевич выполнил: летом 1898 г. он побывал во многих русских духовных училищах, семинариях и академиях, а его отчет от 7 декабря 1898 г. был опубликован в 1900 г. в журнале «Вестник Православной Церкви в Королевстве Сербия» (Димитријевић, 1900, № 1–11).
Отчет прот. Стевана Димитриевича о русских духовных школах состоит из трех частей. Первая часть посвящена русским духовным училищам, вторая — семинариям, а третья — академиям. Помимо подробного описания устройства русских духовных школ, Димитриевич дает и свои комментарии и суждения по отдельным аспектам русской духовно-просветительской системы. В первой части отчета, посвященной духовным училищам, таких комментариев и суждений мало. Большей частью дается объективное описание характерных для данных училищ основных организационных параметров. Самым значимым в этом отношении является высказанное Димитриевичем мнение, что Полтавское духовное училище является одним из образцово организованных духовных училищ в России (Димитријевић, 1900, № 1, 70–71).
Вторая часть отчета, являющаяся его основной частью, посвящена духовным семинариям. Прот. Стеван Димитриевич написал ее по впечатлениям, полученным от посещения следующих семинарий: Киевской, Полтавской, Харьковской, Московской, Витанской и Санкт-Петербургской. Он положительно оценивает деятельность Синода Русской Церкви, контролирующего назначения на должность преподавателей и распределение учебной нагрузки. Он также утверждает, что каждому из преподавателей, согласно конкретным рекомендациям духовной академии, которую тот или иной преподаватель заканчивал, поручается на протяжении всей его службы вести один предмет. Таким образом, считает Димитриевич, обеспечивалось хорошее качество учебного процесса. Автор отчета похвально отзывается о разносторонности знаний, получаемых в духовных семинариях. Помимо знаний по специальности, там можно приобрести более широкие знания, благодаря чему выпускники духовных семинарий являются лучшими кандидатами в учителя не только церковных, но и государственных школ. Димитриевич особо отмечает возможность приобщиться к классическим языкам, что, имея в виду актуальные в то времена обстоятельста в Сербии, получало еще более важное значение, так как изучение классических языков в сербских церковных школах на протяжении долгого периода было болезненным вопросом. Одной из основных характеристик учебной программы в русских духовных семинариях Димитриевич считает важность, которая придавалась письменным работам учащихся. Он дает тщательное описание выбора тем ученических работ, подчеркивая, что обязательность их выполнения является одной из основных причин высокого уровня культуры чтения среди учеников русских духовных семинарий. Исходя из этого Димитриевич считает, что «данная составляющая учебного процесса заслуживает особого внимания и полного подражания» (Димитријевић, 1900, № 4, 68–70).
Из шести семинарий, в которых побывал, Димитриевич выделил три в качестве примера хорошей внутренней организованности: духовные семинарии в Полтаве, Харькове и Санкт-Петербурге стали теми образцами, которым стоило следовать при проведении реорганизации сербской церковной образовательной системы. Особой похвалы, по мнению Димитриевича, заслуживал ректор Полтавской духовной семинарии протоиерей Йован Пичета, серб родом из Герцеговины и выпускник Киевской духовной академии. Благодаря ему эта уездная духовная семинария стояла в одном ряду со столичными духовными семинариями. В Харьковской семинарии Димитриевичу весьма понравилось благолепие богослужения и месторасположение здания семинарии, которое находилось за чертой города, что, с его точки зрения, спасало молодых семинаристов от многих искушений (Димитријевић, 1900, № 7, 91–92). О духовной семинарии в Санкт-Петербурге он пишет: «Все образовательные учреждения в столице устроены одинаково, при этом, с одной стороны, достигалась цель вызвать к себе уважение зарубежных гостей, а с другой — служить образцом для подражания уездным семинариям. Так дело обстоит и с данной семинарией. И с точки зрения гигиены, и с точки зрения методов воспитания общежитие при академии представляет собой положительный пример» (Димитријевић, 1900, № 9, 109). В этой части отчета, посвященной перечисленным трем семинариям, заметна некая идеализация Димитриевичем русской церковной образовательной системы. Он пишет: «Выйдет ли когда-нибудь наша общеобразовательная система на тот путь, который поведет Сербию и сербов к достижению тех высот, на которых, благодаря вере и рели-гиознному воспитанию, находится Россия» (Димитријевић, 1900, № 8, 103).
Однако отчет прот. Стевана Димитриевича не состоит из одних славословий в адрес русской духовно-образовательной системы. Он не стеснялся указать и на ее недостатки. Например, в части отчета, посвященной Витанской духовной семинарии, Димитриевич упоминает про ссору между двумя группами семинаристов. О данной ссоре он узнал от серба Сретена Бошняковича, учащегося семинарии. В одну из конфликтующих групп входили старшеклассники, учившиеся хорошо, но организовавшие секретное общество и занимавшиеся чтением запрещенных книг, в том числе произведений Л. Н. Толстого. Остальные ученики, которых упомянутая группа старшеклассников обзывала «стадом», пожаловались на своих старших сотоварищей руководству семинарии, обвинив последних в атеизме, в результате чего часть старшеклассников была отчислена из семинарии. Интересно, что Димитриевич данное происшествие широко не обсуждает (Димитријевић, 1900, № 9, 107).
Серьезной проблемой русских духовных семинарий Димитриевич считает злоупотребление учениками алкоголем, с чем руководство семинарий безрезультатно боролось. В одной из сносок Димитриевич пишет, что проблема не только в том, что пьют ученики, но что этим пристрастием страдают и преподаватели. Важным представляется и его мнение, согласно которому отношение руководства духовных семинарий к ученикам больше напоминает поведение полицейских, чем поведение родителей, так как руководством семинарии зачастую преследуется цель подловить и наказать учащихся, а не предостеречь их от ошибок (Димитријевић, 1900, № 9, 107–109).
Последняя часть отчета посвящена русским духовным академиям. Данная часть короче предыдущей, но в ней содержится несколько интересных комментариев. Так, например, внимание привлекает сравнение дисциплины в Киевской и Санкт-Петербургской духовных академиях. В Киеве учащиеся должны были следовать очень строгим правилам, так как там, по словам Димитриевича, «соблюдают старые традиции и строгие правила поведения, что является частым поводом к неудовoль-ствию студентов». С другой стороны, в Санкт-Петербурге заметно, что «учащиеся могут вести себя более свободно». Димитриевич приходит к выводу, что киевские студенты более увлечены научной работой, в то время как студенты в Санкт-Петербурге более прагматичны и ориентированы на социальную деятельность в своем непосредственном окружении (Димитријевић, 1900, № 11, 64–65). Немаловажными представляются и комментарии Димитриевича относительно результативности образования в духовных академиях. Основное преимущество русской образовательной системы, по мнению автора отчета, — способствование развитию трудоспособности учащихся. Димитриевич особо подчеркивает тот факт, что в этом отношении студенты духовных академий опережают студентов государственных университетов. Главным подспорьем для развития трудоспособности студентов Димитриевич считает жизнь в интернате, способствующую формированию навыков самостоятельной учебной деятельности. Главным же недостатком академий являлся эгоизм студентов, возникающий в результате применения системы академического рейтинга, которая напрямую влияла на будущее студентов. Из-за этого студенты зачастую держали друг от друга в тайне литературу, которой пользовались при написании работ. Серьезной проблемой являлось и частое проявление слабохарактерности среди студентов — нередки были случаи доноса друг на друга руководству академии. Димитриевич это объясняет влиянием «преимущественно полицейского, а не педагогического характера поведения инспекторов в интернатах русских духовных учреждений» (Димитријевић, 1900, № 11, 68–71).
Отчет прот. Стевана Димитриевича о русских духовных школах является свидетельством того, что и как о русской церковной образовательной системе думал один из самых выдающихся представителей сербской церковной образовательной системы первой половины XX в. Невзирая на то, что данный отчет основан на фактографии, вследствие чего является относительно монотонным, присутствующие в нем суждения и комментарии все-таки дают возможность ознакомиться с личным мнением Димитриевича. То, что русская церковная образовательная система является хорошо организованной и качественной, для Димитриевича вообще не подлежит никакому сомнению. Хотя он и указывает на определенные недостатки данной системы, это не меняет его общего впечатления. Для Димитриевича русские духовные школы представляли тот образец, которому надо было подражать при проектировании сербской церковной образовательной системы.
Полемика между радованом казимировичем
и любомиром райичем по вопросу русских духовных школ
На страницах «Вестника Сербской Церкви», официального печатного органа Общества сербских православных священников в Королевстве Югославия, на протяжении нескольких месяцев 1928 г. велась полемика о русских дореволюционных духовных школах и качестве полученного в них образования [Казимировић, 1928; Рајић, 1928]. Полемика развернулась между двумя выпускниками русских духовных академий, Радованом Казимировичем16 и Любомиром Райичем (впоследствии епископом Владимиром)17. Причиной полемики стало назначение на должность преподавателя юридического факультета в Суботице (город на севере Сербии) Сергея Викторовича Троицкого, получившего степень кандидата богословских наук в Санкт-Петербургской, а степень магистра богословских наук — в Киевской духовной академии. Желая опровергнуть назначение Троицкого, Казимирович пытался доказать, что знания, приобретенные Троицким в русских духовных академиях, т. е. уровень его профессиональной компетенции, не соответствуют занимаемой должности университетского преподавателя. Казимировичу, руководствовавшемуся указанной целью, удалось поставить под сомнение качество образования в русских дореволюционных академиях. Это вызвало острую реакцию Райича, выступившего в защиту русских церковных учебных заведений. Статьи Казимировича и Райича, опубликованные в «Вестнике Сербской Церкви», представляют собой самую интересную по своему содержанию полемику в сербской богословской среде по вопросам русского академического богосло-вия18. Особую значимость данной полемике придавал тот факт, что она велась между выпускниками русских духовных академий.
Начало полемике положил текст Казимировича, представляющий собой нападки личного характера на Троицкого, в котором Казимирович видел человека, склонного к манипуляциям и жаждущего карьерного роста, любой ценой пытающегося занять место в сербской образовательной и церковной системе. Казимирович потом расширил свои обвинения, поставив под сомнение профессиональную и научную компетенцию Троицкого, выпускника русских духовных академий. Про русские духовные учебные заведения Казимирович писал, что они на самом деле представляют собой «среднее специальное учебное заведение», намекая таким образом на недостаточную глубину и широту знаний, получаемых в них. Академии, по мнению Казимировича, были учебными учреждениями закрытого типа, в которых невозможно было получить более глубокие и широкие знания. Помимо того, полученное в них богословское образование ему тоже казалось проблематичным. Учащиеся по программе изучали много разных предметов, что им не позволяло углубить свои знания, чем Казимирович объяснял проявления непрофессионализма в русском академическом богословии. Казимирович подчеркивает, что отмена Академического устава 1869 г., который обеспечивал углубленный подход к изучению богословских дисциплин, имела катастрофическое последствие для русского академического богословия [Казимировић, 1928, 137]. Это в первую очередь касалось изучения церковного права. После отмены устава 1869 г. учебная программа по церковному праву была сильно сокращена, поэтому, по мнению Казимировича, Троицкий, закончивший Духовную академию в Санкт-Петербурге в 1901 г., не смог приобрести соответствующие знания из данной сферы. Казимирович, который закончил Киевскую духовную академию в 1907 г., утверждает, что лекции по церковному праву у него были лишь раз в неделю, как, впрочем, и во всех остальных духовных академиях. Поэтому он заявляет: «Я смело утверждаю, что объем изучения церковного права в академиях в конце XIX — начале XX века является недостаточным для того, чтобы стать преподавателем церковного права на государственном юридическом факультете» [Казимировић, 1928, 211–212]. Причину этих недостатков русского дореволюционного академического богословия Казимирович видел в излишней опеке Синода Русской Церкви, которая не давала богословским наукам свободно развиваться. Цензура научной деятельности была повседневным делом в духовных академиях, а решение об утверждении кого-либо в научной степени принимал Синод. Поэтому научная степень могла быть присуждена не на основании качества диссертации, а на основании пригодности кандидата. Заканчивая свое невеселое повествование о русском дореволюционном академическом богословии, Казимирович пишет: «Не только научную степень кандидата богословских наук, но и степень магистра богословия получали авторы очень слабых диссертаций. Исследования более серьезных тем студенты избегали из опасения вступить в конфликт с официальным исповеданием веры, последователями которого в России были монахи и старцы в Синоде» [Казимировић, 1928, 322].
На резкую критику русской дореволюционной церковной образовательной системы Казимировича отреагировал Любомир Райич, в то время преподаватель Второй белградской мужской гимназии. Райич критику Казимировича рассмотрел в более широком контексте тенденциозного отношения к русской церковной образовательной системе, которое в сербской церковной среде после Первой мировой войны было весьма заметно и результатом которого стало учреждение в Белграде не духовной академии, а богословского факультета. Уподобление русских духовных академий «специальным образовательным учреждениям» для Райича было неприемлемым. Он приводит целый список светских предметов, которые очень подробно изучались в духовных академиях, сопоставляет это с ситуацией на Православном богословском факультете в Белграде и приходит к выводу, что «узкая специализация» скорее является характеристикой Православного богословского факультета в Белграде, чем русских духовных академий. Райич считал, что русские дореволюционные духовные академии представляли собой образцовые высшие церковные учебные заведения, во многом превосходящие богословские факультеты, например, в Черновцах и Афинах. В этой связи он подчеркивает: «Преимущество было за ними не благодаря внутреннему интернатскому устройству, представляющему для теологов conditio sine qua non , а благодаря церковной атмосфере, которая там царила, отличным условиям для учебы, богатым библиотекам, выдающимся преподавателям и ученым, которые своими трудами обогатили Православную Церковь и богословскую науку в целом» [Рајић, 1928, 220]. Обвинение выпускников духовных академий в «богословском непрофессионализме» Райич считает оскорблением целого ряда выдающихся преподавателей академий19. Особое внимание Райич уделяет диссертациям, защищаемым в духовных академиях. По его мнению, эти диссертации являются лучшим доказательством высокого уровня русской церковной образовательной системы. Райич утверждает, что русские кандидатские диссертации ни в чем не уступают диссертациям, защищенным на западных факультетах. Диссертации в России писались на основе богатейшей литературы, предоставляемой академическими библиотеками. Они по присущему им «всестороннему научному подходу к теме, ширине и глубине охвата темы зеркально отражали серьезную подготовку их авторов», что, в свою очередь, являлось «доказательством их несомненной научной ценности» [Рајић, 1928, 325]. Защиты магистерских и докторских диссертаций представляли собой «настоящие торжества науки», а магистры и доктора богословских наук были «сформировавшиеся ученые, пользующиеся несомненным уважением и научным авторитетом» [Рајић, 1928, 327]. Райич всем заинтересованным в этом лицам предложил сравнить несколько русских кандидатских и магистерских диссертаций из его библиотеки с любой защищенной на Западе докторской диссертацией, утверждая, что после этого ни у кого не останется возможности сомневаться в истинности его утверждения. Замечания Казимировича относительно объема изучения церковного права в русских духовных академиях Райич считал необоснованными, ссылаясь на свой личный опыт: в то время, когда он учился в Московской духовной академии, лекции по данному предмету читал известный специалист по церковному праву Николай Александрович Заозерский. Заозерский, помимо прочего, был научным руководителем Чедомиля Митровича, одного из самых значимых сербских юристов, что являлось очередным доказательством качественного изучения церковного права в духовных академиях [Рајић, 1928, 418].
Полемика между Радованом Казимировичем и Любомиром Райичем является своеобразным примером создания черно-белой картины во взглядах на русские духовные учебные заведения. Казимирович, с одной стороны, будто не был в состоянии найти хоть что-то хорошее в своей alma mater, а Райич, с другой стороны, не находил ни малейшего недостатка в русской дореволюционной образовательной системе. Однако какое-то преимущество было на стороне Райича: в отличие от Казимировича, он вступил в полемику, не преследуя при этом никакую личную выгоду. Казимирович же начал писать статьи на данную тему, потому что был недоволен тем, что на место преподавателя юридического факультета в Суботице, на которое он претендовал, был назначен Сергей Викторович Троицкий: на данную преподавательскую должность пригласили не его, Казимировича, получившего степень доктора юридических каук в Тюбингене, а магистра богословских наук, защитившегося в одной из русских духовных академий. Именно этим можно отчасти объяснить резкость, с которой Казимирович отзывается о русских духовных академиях. Доказательством непоследовательности Казимировича и его личной заинтересованности в вышеуказанном деле может послужить выписка из его автобиографических заметок: это коротенькое письмо 1914 г.20, которое он написал Феодору Ивановичу Титову и в котором высказал несколько похвальных слов в адрес «знаменитой Киевской духовной академии»21. Поводом для этого и такого письма на самом деле было желание Казимировича получить в Киеве степень магистра богословских наук honoris causa, чтобы потом подать заявление на должность преподавателя богословского факультета в Сербии, открытие которого тогда уже намечалось. Другими словами, все хорошее, что Казимирович в 1914 г. говорил о русских духовных школах, в 1928 г. было уже недействительным. С другой стороны, Райич своего положительного мнения о русской духовной образовательной системе не менял ни до, ни после полемики с Казимировичем22.
***
Записки о русских духовных школах их сербских выпускников по своему тону весьма разнообразны: в них можно найти как щедрые похвалы, так и крайне резкую критику. Однако большая часть сербов, учившихся только в России и принявших потом сан священнослужителя, положительно относились к русским духовным учебным заведениям. Это, например, митрополит Михайло (Йованович), епископ Владимир (Райич), архимандрит Иларион (Весич), протоиерей Стеван Димитриевич. С другой стороны, более критически к русской церковной образовательной системе были настроены те, кто, помимо России, учились и на Западе, кто не принимал священнического сана, как, например, Чедомир Марьянович и Радован Казимирович. И на тех, и на других влияли мотивы карьерного роста. Однако на основе их мемуаров, отчетов и полемик можно создать представление о рецепции русской церковной образовательной системы в Сербии. Данные записки являются ценным историческим источником для лучшего понимания сербско-русских богословских и академических связей во второй половине XIX и в начале XX вв.
Список литературы Русские дореволюционные духовные школы в воспоминаниях их сербских выпускников
- Архив Србије. Министарство просвете - црквено одељење. Ф. IV. Р. 164/91.
- Димитријевић С., свящ. Извештај Архијерејском сабору о руским духовним школама // Гласник Православне Цркве у Краљевини Србији. 1900. № 1. С. 62-73; № 2. С. 39-53; № 3. С. 73-77; № 4. С. 63-70; № 5. С. 61-64; № 6. С. 65-74; № 7. С. 91-100; № 8. С. 97-105; № 9. С. 104-112; № 10. С. 105-112; № 11. С. 62-77.
- Журналы собраний Совета Московской духовной акадмии за 1915 год // Богословский вестник МДА. 1917. Т. I. № 1. С. 565-566.
- Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. Ф. 304. Д. 1137; Д. 1531.
- Пилиповић Р. Српски богослови на школовању у Русији у другој половини XIX века - према оцени руског царског дипломате // Годишњак за друштвену историју. 2012. № 1. С. 75-90; № 2. С. 77-103.
- Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной академии, 28-го сентября 1869 года. Киев: Типография Киевопечерской Лавры, 1869.
- Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА / Сост. В. И. Ульяновский. Киев: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2.
- Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киев. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1903; Д. 2412.
- Аутобиографија Никодима Милаша / Сост. М. Јачов. Београд: Просвета, 1983. литература
- Бурега В. В. Выпускник Киевской духовной академии Чедомир Марьянович: штрихи к портрету // Труды КДА. 2015. № 22. С. 174-190.
- Веселиновић С. М. О постању српског патријархата. Београд, 1890. 73 с.
- Доброклонски А. П. Прилике на Теолошком факултету - проф. г. др. Доброклонски одговара проф. г. др. Чеди Марјановићу // Правда. 1933. 22 августа. С. 2.
- Дурковић-Јакшић Љ. О животу и делу епископа далматинског др. Никодима Милаша // Милаш Н. Славенски апостоли Кирил и Методије и истина православља. Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 1985. С. 391-485.
- Јовановић М. Професор Николај Глубоковски // Хришћанско дело. 1937. № 2. С. 143-147.
- Казимировић Р. Изнуђена реч у заштиту истинске науке Црквеног Права // Весник Српске Цркве. 1928. Фебруар. С. 135-139; Март. С. 211-215; Април. С. 318-323.
- Марјановић Ч. Прилике на Теолошком факултету - како се водила борба против мене // Правда. 1933. 27 јул. С. 2.
- Пузовић В. Руски путеви српског богословља. Школовање Срба на руским духовним академијама 1849-1917. Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду; ЈП Службени гласник, 2017. 830 с.
- Рајић Љ. У заштиту руских духовних школа - Семинарија и Акаде- мија // Весник Српске Цркве. 1928. Март. С. 215-224; Април. С. 323-328; Мај-јун. С. 412-419.
- Слијепчевић Ђ. Михаило, архиепископ београдски и митропо- лит Србије. Минхен, 1980. 623 с.
- Теолози се суде - по тужби г. др. Чедомира Марјановића, професора, одговарали су г. г. др. Александар Доброклонски и др. Димитрије Стефановић, професори Теолошког факултета // Правда. 1933. 23 јун. С. 7.
- Троицки С. В. "Истинска наука" или "2 група 1 категорија" // Весник Српске Цркве. 1928. Април. С. 310-317; Мај-јун. С. 396-411.
- Швабић П. Црквени губитак. Некролог В. В. Болотову // Гласник Православне Цркве у Краљевини Србији. 1900. № 6. С. 118-124.
- Buchenau K. Just a real-life brothers. Serb-russian contacts in the ecclesiastical academy of Kiev (1850-1914) and in orhodox schools of interwar Yugoslavia (1920-1941) // Tokovi istorije. 2005. № 3-4. С. 54-66.