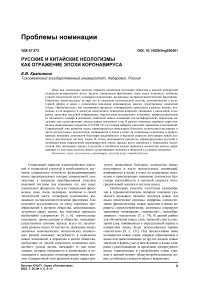Русские и китайские неологизмы как отражение эпохи коронавируса
Автор: Крапивник Е.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Проблемы номинации
Статья в выпуске: 4 т.20, 2023 года.
Бесплатный доступ
Язык как социальное явление отражает изменения состояния общества в каждой конкретной социально-исторической эпохе. Будучи социальным феноменом, язык очень подвижен, особенно в своей лексической части, подвержен изменениям, вызванным экстралингвистическими факторами. Перемены, произошедшие за пару лет в социально-политической системе, экономической и культурной сферах в связи с появлением пандемии коронавируса, внесли существенные изменения в язык. Примечательно, что одинаковые процессы одновременно проходили в разных языках, возможно, из-за широкого и зачастую однотипного освещения вопросов, связанных с пандемией, в мировых средствах массовой информации: переход ряда медицинских и военных профессионализмов из пассивного словаря в активный, появление новых оснований для метафорических переносов, наделение уже существующих лексем новым значением и пр. В разных языковых картинах мира появились национальные концепты «COVID-19» со схожим набором значений, признаков и ассоциаций. Современный этап развития языка характеризуется появлением большого количества популярных и часто используемых неологизмов, появившихся в языке в ответ на социальные изменения и привлекающих внимание лингвистов благодаря масштабности и высокой скорости интеграции новой лексики в лексическую систему языка. В статье описываются процессы, характеризующие русский и китайский язык современной коронавирусной эпохи, прежде всего связанные с появлением неологизмов. Как показывает анализ, в русском и китайском языках появилось множество лексем, выражающих те или иные аспекты нового существования человека и общества в условиях пандемии.
Неологизмы, коронавирус, русский язык, китайский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147242845
IDR: 147242845 | УДК: 81'373 | DOI: 10.14529/ling230401
Текст научной статьи Русские и китайские неологизмы как отражение эпохи коронавируса
Социальный характер взаимодействия языковой и социальной структур и необходимость изучения социального контекста функционирования языка предопределяют интерес современной лингвистики к вопросам преобразования участков языковой системы под влиянием тех или иных социальных процессов. Будучи социальным феноменом, язык очень подвижен, особенно в своей лексической части, подвержен изменениям, вызванным экстралингвистическими факторами. Как отмечают исследователи, «в эпоху коренных преобразований в истории общества, затрагивающих духовную сферу жизни, все языковые процессы необычайно ускоряются» [4, с. 6], значительные изменения, происходящие в обществе, оказывают существенное влияние прежде всего на лексический уровень языка. В частности, появление новых значимых экономических, политических, социальных реалий вызывает потребность в появлении новых номинаций, а перемены в жизни общества, требующие от людей серьезного изменения привычного уклада жизни, вызывают те или иные эмоции, которые отражаются в коннотациях и ассоциациях к лексемам, номинирующим новые реалии. Современный этап развития языка характери- зуется появлением большого количества новых популярных и часто используемых номинаций, появившихся в языке в ответ на социальные изменения и привлекающих внимание лингвистов благодаря масштабности и высокой скорости интеграции новой лексики в систему языка.
Необходимо отметить отсутствие единообразия в терминологическом аппарате описания указанного языкового явления: исследуя новые для языка лексические единицы, морфемы, словосочетания, фразеологизмы, новые значения и новые варианты словоупотребления, лингвисты оперируют терминами «инновация», «новшество», «новообразование», «неологизм» [7, с. 74]. В данной работе для обозначения новых слов, значений слов и сочетаний слов, появившихся в определенный период в конкретном языке, будет использоваться термин «неологизм» [9, с. 331]. Под неологизмами нами понимаются новые слова, впервые образованные в языке или заимствованные из других языков; новые значения и формы уже существующих в языке слов; ранее существовавшие за пределами литературного языка, ограниченные в употреблении слова, ставшие в данный момент общеупотребительными; новые устойчивые словосочетания и выражения.
В XXI веке одним из значимых изменений, к которому вынуждены были адаптироваться многие национальные сообщества, стало появление COVID-19 – впервые выявленной в декабре 2019 года в г. Ухань (КНР) коронавирусной инфекции, мировое распространение которой привело к пандемии в 2020 году. В течение трех лет во многих государствах действуют беспрецедентные меры безопасности, в частности, закрытие международного транспортного сообщения, ограничение свободы передвижения внутри государств, регионов, городов, обязательное ношение средств защиты, принудительная изоляция и пр., которые привели к глобальным изменениям в социальной, политической, экономической сферах, нашедшим отражение в языках. Лингвисты заговорили о «языке коронавирусной эпохи» [1], отмечая, что языки мира пополнились огромным количеством неологизмов, а существовавшие ранее лексические единицы расширили свой семантический и функциональный потенциал. В результате активного языкового творчества лексика, характерная для медицинского, военного, религиозного, цифрового, образовательного и т. п. дискурсов, вошла в общее употребление.
Примечательно, что одинаковые процессы одновременно проходили в разных языках, возможно, из-за широкого и зачастую однотипного освещения вопросов, связанных с пандемией, в мировых средствах массовой информации: в разных языковых картинах мира появились национальные концепты «COVID-19» со схожим набором значений, признаков и ассоциаций. В частности, можно отметить широкое вхождение в лексикон описания коронавирусной темы военных терминов и профессионализмов. Для публицистического дискурса многих языков характерно использование выражений с лексемами, описывающими военные операции, а также общее представление ситуации таким образом, что COVID-19 выступает в качестве грозной вражеской армии, медицинские работники и их помощники – в качестве защитников, а граждане – в качестве мирного населения пострадавшего государства: «Также медалями имени Даши Севастопольской отметили врачей за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и борьбы с коронавирусом» («Севинформ-бюро», Независимое телевидение Севастополя, 13.12.22 г.), «Это явление так напоминало ковидные времена, никем вообще-то не забытые, когда Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова на таких еженедельных встречах с членами правительства обязательно сообщали о состоянии той многомесячной справедливой освободительной борьбы с коронавирусом и о переменных успехах на этом фронте, что как вспомнишь, так и в самом деле вздрогнешь» (Комерсантъ, 14.12.22 г.), «From a «people’s war» to an individual’s fight» («От «народной войны» к личной борьбе») (Quartz, 14.12.22 г.),
«The world has been fighting the COVID-19 pandemic for nearly three years… A war of 1.4 billion people was declared to fight the virus» («Мир борется с пандемией COVID-19 почти три года… Войну вирусу объявили 1,4 миллиарда человек») (Xinhua, 11.12.22 г.), «疫情防控,人人有责» («Борьба с эпидемией является обязанностью каждого»), «抗疫阻击战进行至今,已有月余,奋战在前线的 医护人员,给了世界深深的感动» («Прошло больше месяца с тех пор, как идет война против эпидемии; медики, сражающиеся на передовой, глубоко потрясли мир») (надписи на агитационных плакатах).
В разных языковых картинах мира появились национальные концепты «COVID-19» со схожим набором значений, признаков и ассоциаций, среди которых наиболее типичными представляются ассоциации «опасность», «широкое и быстрое распространение», «изоляция», «ограничение свобод», «неблагоприятная обстановка», «средства защиты», «борьба / война с пандемией», «изменения в привычной жизни людей», «преграда для встреч и празднований» и пр. [2, с. 618]. В языках появилось множество лексем, выражающих те или иные аспекты нового существования человека и общества в условиях пандемии.
Отметим, что вопросы описания неологизмов, связанных с пандемией, привлекают пристальное внимание русских лингвистов и получают широкое освещение в русских лингвистических исследованиях. Русские лингвисты говорят о стремительном формировании «языка / лексикона коронавирусной эпохи», «языка / лексикона коронавирусной эры», «языка / лексикона эпохи пандемии», «ковид-словаря», «ковидной лексики» и пр., выделяя в нем ряд особенностей.
Так, исследователи отмечают, что в русском языке слово «коронавирус» стало использоваться не для номинации микробиологических вирусов с определенными признаками (от липосодержащей внешней оболочки этого типа вирусов отходят шиповидные отростки, напоминающие солнечную корону), а для обозначения одного конкретного коронавируса – COVID-19. Синонимичными ему стали неологизм «ковид» и лексема «корона», которая в первичном значении обозначает венец с украшениями, являющийся символом власти монарха, а во вторичном значении номинирует вирус COVID-19. От этих существительных образовались активно функционирующие прилагательные «ковидный» и «коронавирусный».
Из пассивного запаса в состав общеупотребительной лексики вошли русские медицинские профессионализмы, ранее не функционировавшие в бытовом дискурсе: «карантин», «пандемия», «пневмония», «санитайзер», «аппарат ИВЛ», «вакцина», «социальная дистанция», «средства индивидуальной защиты», «масочный режим», «пла- то», «антитела», «ПЦР», «сатурация», «штамм». Для русского языка характерно вхождение в активное употребление также военной и тюремной лексики, например: «вакцинные войны», «масочные войны», «ковид-фронт», «ковид-война», «ко-вид-диверсант», «ковид-провокатор», «ковидоге-ноцид», «коронафашизм», «ковид-террор» [1, с. 238], «пропускной режим», «масочный режим», «изоляция», «красная зона», «электронный концлагерь» [8, с. 326-327].
Некоторые лексемы, связанные с пандемией, стали активно использоваться для образования новых слов путем сложения, например: «зум-вечеринка», «зум-свадьба», «зум-выступление», «зум-сессия», «ковид-диссидент», «ковид-эпоха» «ковид-этикет», «ковид-эра», «ковид-эксперт», «ковид-диверсант», «коронаскепсис», «корона-национализм», «корона-отель», «корона-дискотека» и пр. [5].
Продуктивным для образования неологизмов в русском языке является аффиксальный способ: «ковидарий», «ковидник», «ковидиться», «антико-видный», «постковидный», «докоронавирусный» и др. При этом часть аффиксов заключает в себе семантические и функциональные характеристики определенного свойства (например, в лексемах «ковидаст», «ковидушко», «ковидец», «ковидло», «ковидизм», «антиваксер», «ковиднутый», «коро-няшка», «ковидятня», «ковидоз», «короникулы», «коронойя» и пр. [1, с. 322-387]), а неологизмы, образованные включением такого рода суффиксов, характеризуются ироничностью и/или неодобри-тельностью.
Появившиеся новые слова и значения активно используются носителями языка для создания комичных и игровых эффектов в текстах СМИ и в бытовой речи. Так, наполняются новыми смыслами устойчивые выражения («молчать в тряпочку», «не все дома», «потерять нюх», «а ВОЗ и ныне там»), обыгрываются пословицы и поговорки («Вирус в бороду — пневмония в ребро», «Любишь кататься — люби и масочки носить», «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в веб-камеру не лезло», «Один пашет, семеро на карантине пляшут») [1, с. 550-570].
Китайская лингвистика характеризуется гораздо меньшим объемом исследований особенностей лексики, вошедшей в язык вслед за появлением COVID-19. Возможно, это связано с меньшим интересом китайских лингвистов к лингвокультурологическим и когнитивным исследованиям китайской языковой картины мира, но вряд ли свидетельствует о том, что «в отличие от русского, в китайском языке отмечается не так много лексических и фразеологических новообразований», связанных с COVID-19 [6, с. 871].
Китайские лингвисты, как и их русские коллеги, обсуждают новые номинации, появившиеся в языке для обозначения нового для человечества вируса. Одним из первых вопросов, освещаемых
Русские и китайские неологизмы как отражение эпохи коронавируса в китайской лингвистической литературе, стал вопрос о названии нового заболевания. Китайские авторы анализируют названия вируса, функционирующие в китайских текстах с начала эпидемии: ^^^ВМ^ШЙМ^ («вирусная пневмония неизвестного происхождения»), 武汉肺炎 («уханьская пневмония»), ^Й^#^Ш («новый коронавирус»), 新型冠状病毒感染的肺炎 («новая коронавирусная пневмония»), NCP (заимствованное из английского языка сокращение словосочетания «novel coronavirus pneumonia»), COVID-19 и др. Описывая существующие названия нового вируса, авторы критикуют характерные для западной прессы номинации «китайский коронавирус»,
«уханьский коронавирус», «китайский вирус» и другие «неканонические термины», отмечают деструктивное влияние такого рода неологизмов, формирующих отрицательный и враждебный образа Китая в сознании жителей западных стран, а также обсуждают возможности создания собственно китайских номинаций, академичных, точных, аполитичных [11].
Для современного китайского языка характерно появление новых устойчивых выражений лозунгового типа, которые встречаются на многочисленных плакатах, растяжках, баннерах: «£№Я , АА^Ж , Й^Ж^, -^ЙШЖ й й$ Й^ЖЙЖФ !ФДДФЙ!» («Да благословит Бог Китай, сплотимся, вместе преодолеем трудности и обязательно победим в этой без порохового дыма войне! Вперед, Китай!»), «^SAffiA^ffi, 向白衣天使和医务工作者无私奉献致敬,众志成 城,抗击疫情,中国加油!» («Эпидемия безжалостна, а у людей есть чувства. Мы воздаем должное ангелам в белом и медицинским работникам за их бескорыстную самоотверженность. Мы едины, ударим по эпидемии. Вперед, Китай!»), «Й^Ж— 线所有英雄致敬疫情当前万众一心抗击疫情。白 衣天使辛苦了。» («Отдаем дань уважения всем героям, объединившимся на передовой в борьбе против коронавируса. Ангелы в белом, вы достаточно потрудились») и др. Большинство таких высказываний реализуют ассоциации «борьба / война с пандемией», «опасность», «широкое и быстрое распространение», «сознательное самоограничение свобод», «необходимость объединения усилий», «личная ответственность каждого», связанные с пандемией в сознании носителя китайского языка.
Наш анализ показывает, что современный китайский язык, как и русский язык, характеризуется значительными изменениями на лексическом уровне, в том числе расширением лексической системы китайского языка за счет неологизмов.
Число китайских неологизмов, обозначающих новые для общества реалии периода пандемии, как представляется, значительно превосходит число неологизмов такого рода, появившихся в других языках, в связи с введением в КНР беспрецедентных мер безопасности и появлением большого количества новых реалий в жизни китайского общества. Приведем примеры некоторых неологизмов, появившихся в китайском языке в связи с появлением в китайском обществе новых реалий, связанных с пандемией:
‒ 吹哨人 («свистящий человек») – человек, который должен информировать общественность о недостатках руководства предприятия или бизнеса, чтобы предпринять корректирующие действия;
‒ 逆行者 («идущий в обратном направлении») – люди, которые подвергают себя опасности, участвуя в борьбе с пандемией и ее последствиями (используется, например, для обозначения медицинских работников);
‒ 云生活 («облачная жизнь») – обозначение ситуации, при которой жители КНР вынуждены использовать интерактивные платформы сети Интернет для общения, пожертвований, взаимопомощи, удовлетворения бытовых нужд в условиях изоляции;
‒ 静默 («тишина») – ситуация «бесшумного управления», которую представляют в виде трех «пауз» и трех «нет» (три паузы означают, что, во-первых, весь персонал, за исключением тех, кто занимается профилактикой эпидемий, будет работать удаленно, во-вторых, будет приостановлена работа всех офисных помещений и предприятий, за исключением аптек и больниц, в третьих, прекратит работу общественный транспорт; три «нет» означают, что жители не собираются, не переезжают и не выходят на улицу);
‒ 方 舱医院 («квадратная каютная больница») – мобильный медицинский модуль,
‒ 管 长 («начальник/директор пробирки») – человек, получивший пробирку для группового анализа (в целях экономии люди, живущие вместе, могли сдавать не индивидуальный, а групповой анализ, когда ватные палочки, содержащие биоматериал для ПЦР-теста, собирались в одну пробирку, а в случае положительного результата ПЦР-теста анализ повторялся индивидуально для каждого жителя квартиры/дома);
‒ 大白 («большой белый») – обозначение медперсонала (изначально китайский вариант имени персонажа американского анимационного фильма «Город героев» медицинского робота Baymax);
‒ 小 蓝 («маленький синий», по аналогии с «большим белым») – обозначение волонтеров без медицинского образования, обычно надевающих голубые защитные костюмы.
Большая часть китайских неологизмов, созданных в «эпидемическом» контексте, представля- ет собой конструкции, состоящие из общеупотребительных лексем, ранее использовавшихся в ином значении. К числу языковых единиц, активно участвующих в образовании неологизмов, исследователи относят следующие лексемы:
‒ 云 («облако») ‒ используется в неологизмах, обозначающих мероприятия, которые осуществляются в период пандемии через Интернет с использованием электронных продуктов и оборудования ( 云会 议 («онлайн-собрание»), 云 课堂 («онлайн-обучение»), 云生活 («онлайн-жизнь»), 云 拥抱 («онлайн-объятие»), « 云 时代 » («облачная эра»), 云直播 («облачная трансляция»);
‒ 新冠 («новая корона») ‒ лексема используется в качестве общеупотребительного обозначения COVID-19, образована, как и в русском языке, калькированием от латинского «сoronaviridae» ( 新冠 («коронавирусная эпоха»), 新冠 诗 歌 («коронавирусная поэзия»), 新冠肺炎 («коронавирусная пневмония») [3, с. 154];
‒ 屋 («дом») ‒ лексема встречается в неологизмах, описывающих образ жизни, при котором люди изолированы и ограничены в передвижении ( 宅 经济 («домашнее хозяйство»), 宅消费 («домашнее потребление»), 宅生活 («домашняя жизнь»), 宅品 («товары для дома»), 宅技能 («домашние навыки»);
‒ 零 («ноль») ‒ встречается в неологизмах для выражения отрицания, отсутствия ( 零增长 («нулевой рост»), 零接触 («нулевой контакт»), 零报告 («нулевой отчет»), 零感染 («нулевая инфек-ция»), 零风险 («нулевой риск») [10, с. 157–158].
Некоторые неологизмы остроумны и юмористичны, лаконичны и ясны, ярки и интересны, современны и полны потенциала для языковой игры, что значительно обогащает лексическую систему китайского языка. Например, китайский неологизм 健康码 («код «здоровья»), послуживший основой для появления целого ряда неологизмов (绿码 «зеленый код» – подтверждает отсутствие заболевания, выдается, как правило, после отрицательного ПЦР-теста; 黄码 «желтый код» – присваивается людям, находящимся в зоне повышенного риска, в местах, где есть зараженные, имевшим контакт с заболевшими вирусом, или не проводившим ПЦР-тест; 红码 «красный код» – присваивается тем, у кого обнаружен коронавирус; 灰码 «серый код» – появляется в ситуации, когда система не может определить, какой код присвоить человеку), был обыгран в пожелании здоровья «保住绿码» («Со-храняй/удерживай зеленый код»), оформленном в виде картинки, где человек обнимает или крепко держит зеленую лошадь. Языковая игра основана здесь на созвучии лексем 码 («код») и 马 («лошадь»), которые являются омофонами (произносятся как «ma»).
В китайском языке активно обыгрывается словосочетание 阳人 («позитивный / положительный человек»), которым обозначают заболевшего человека, получившего положительный результат ПЦР-теста. Так, в личных переписках, чтобы не привлекать возможное внимание надзорных органов к факту предполагаемой болезни, вместо иероглифа 阳 (произносится как «yang») используют иероглиф 羊 («овца», тоже произносится как «yang») или картинку овцы. В настоящий момент появилось много мемов и комических картинок, основанных на созвучии этих двух лексем, например, картинка под заголовком «Раньше», на которой мама-овца пугает своего ребенка миром, полным волков, и картинка под заголовком «Теперь», на которой мама-волчица пугает своего ребенка миром, полным овец.
Такого рода языковая игра широко представлена в текстах китайских СМИ, которые активно используют прием замены омофонами лексем в устойчивых выражениях. Например, в высказывании журналиста «浙»风挡雨,«皖»事大吉, 人才«冀»济 («Чжэцзян» защищает от ветра и дождя, «Аньхой» процветает, а «Хэбэй» талантлив) топонимами заменены элементы устойчивых выражений 遮风挡雨, 万事大吉, 人才济济 с целью выразить уважение представителям трех провинций, оказывающим существенную помощь пострадавшей в результате эпидемии провинции Хубэй [10, с. 158].
Таким образом, перемены, вызванные экстра-лингвистическими факторами в 2020–2022 гг. (объявлением пандемии, переменами в социальнополитической и экономической сферах), существенно повлияли на состав лексической системы языков. Будучи социальным явлением, язык выступил в качестве индикатора изменений состояния общества, отразив эти изменения прежде всего на лексическом уровне. Социальные изменения на крайне небольшом историческом отрезке времени внесли достаточно серьезные изменения в словарный состав языков, добавив значительное количество неологизмов, расширив лексические значения известных ранее слов, увеличив число устойчивых выражений и предоставив богатый материал носителям языка для языковой игры.
Как представляется, большая часть лексических единиц с утратой актуальности пандемии постепенно будет отодвигаться на периферию и со временем выйдет из состава общеупотребительной лексики. Как представляется, исследование процессов формирования неологизмов на современном этапе развития языка, описание прагматических и семантических характеристик новых лексических единиц, наблюдение за особенностями их функционирования в речи, выявление тенденций вхождения неологизмов в систему общеупотребительной лексики или их перехода в разряд устаревшей лексики не только представляет собственно лингвистический интерес, но и способствует лучшему пониманию вопросов лингвосоциокультурного взаимодействия, устройства и изменения языковой картины мира, структуры языковой личности.
Список литературы Русские и китайские неологизмы как отражение эпохи коронавируса
- Буцева, Т.Н. Русский язык коронавирусной эпохи: коллективная монография / Т.Н. Буцева, Х. Вальтер, И.Т. Вепрева и др. – СПб.: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. – 610 с.
- Гуляева, Е.А. Репрезентация концепта «Пандемия» в современных англоязычных СМИ / Е.А. Гуляева, Ю.В. Клюкина, Е.И. Давыдова, Т.В. Мордовина // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 6 (85). – С. 616‒619.
- Ли, С. Сложные слова эпохи коронавируса в русском и китайском языках: словообразовательный аспект // Litera. – 2022. – № 9. – С. 149‒158.
- Романова, С.А. Язык как отражение социальных изменений в обществе: автореф… дис. канд. соц. наук: 22.00.04 / С.А. Романова. – М., 2002. – 24 с.
- Словарь русского языка коронавирусной эпохи / ред. коллегия Е.С. Громенко, А.С. Павлова, М.Н. Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая. ‒ СПб.: Институт лингвистических исследований РАН, 2021. ‒ 550 с.
- Савченко, А.В. Коронавирусные неологизмы: от лексики и фразеологии к интернет-мемам (на материале русского и китайского языков) / А.В. Савченко, Лай Янь-Цзюнь // Коммуникативные исследования. ‒ 2020. ‒ Т. 7, № 4. ‒ С. 865–886.
- Шалина, Л.В. К вопросу о сущности неологизма в современной лингвистике / Л.В. Шалина // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. ‒ 2007. ‒ № 8. ‒ С. 73‒77.
- Шмелева, Е. Русский ковидный: новые языковые явления глобальной пандемии / Е. Шмелева // Russian Language Journal. ‒ 2021. ‒ Т. 71, № 2. ‒ С. 318‒331.
- Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
- 罗晚绮,王建华.抗击新冠疫情语境中的新语新义现象分析.江科技学院学报.2022年第34卷第2期.页面155-162.
- 殷 健.基于过程性特征的术语命名,翻译与传播的文化安全思考—以新冠肺炎相关术语为例. 中国科技术语.2020年第22卷第2期.页面14‒20.