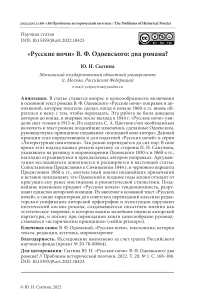«Русские ночи» В. Ф. Одоевского: два романа?
Автор: Сытина Юлия Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о целесообразности включения в основной текст романа В. Ф. Одоевского «Русские ночи» поправок и дополнений, которые писатель сделал, когда в начале 1860-х гг. вновь обратился к нему с тем, чтобы переиздать. Эта работа не была доведена автором до конца, и впервые после выхода в 1844 г. «Русские ночи» увидели свет только в 1913-м. Их издатель С. А. Цветков счел необходимым включить в текст романа позднейшие изменения, сделанные Одоевским, руководствуясь принципом следования «последней воле автора». Данный принцип стал определяющим и для издателей «Русских ночей» в серии «Литературные памятники». Так роман переиздается до сих пор. В свое время этот подход вызвал резкую критику со стороны П. Н. Сакулина, указавшего на разницу в мировоззрении Одоевского 1830-х и 1860-х гг., наглядно отразившуюся в предлагаемых автором поправках. Аргументация исследователя дополняется и расширяется в настоящей статье. Сопоставление Предисловия к Сочинениям 1844 г. и чернового варианта Предисловия 1860-х гг., контекстный анализ позднейших примечаний и вставок показывают, что Одоевский в поздние годы жизни отходит от присущих ему ранее мистицизма и романтической стилистики. Позднейшие изменения придают «Русским ночам» тенденциозность, разрушают единство авторской позиции. Их внесение в основной текст «Русских ночей», а также характерная для советских переизданий классики редакторская унификация авторской орфографии и пунктуации нарушают поэтический космос романа, создававшегося писателем именно как эстетическое творение, в котором важны малейшие нюансы авторской партитуры, и потому при переиздании книги целесообразно руководствоваться «историческим принципом» («editio princeps»).
В. ф. одоевский, русские ночи, текстология, история текста, редакция, эстетика, мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/147236204
IDR: 147236204 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10423
Текст научной статьи «Русские ночи» В. Ф. Одоевского: два романа?
В свое время В. Н. Захаров, работая над изданием канонического текста романа Достоевского «Бесы», пришел к выводу, что существуют « два разных романа »: в журнальной и книжной редакциях, каждая из которых «со своей композицией, с разной концепцией героя» [Захаров, 2010: 706]1. О двух разных романах можно поразмышлять и при изучении «Русских ночей» В. Ф. Одоевского — факт, который зачастую упускают из виду исследователи, несмотря на то, что подлинная версия «Русских ночей» вызвала полемику с первого же переиздания (1913), впоследствии «превратившись в одну из самых популярных текстологических проблем» [Маймин и др.: 279] и породив «научные споры о выборе источника основного текста» [Спиридонова: 69].
При жизни Одоевского «Русские ночи» были преданы тиснению лишь однажды — в Сочинениях 1844 г. В начале 1860-х гг. писатель вновь обратился к тексту романа с тем, чтобы переиздать его, внеся в текст ряд поправок (см. подробнее: [Маймин и др.: 277–279]). К тому времени изменились и его взгляды, и общественные настроения в России: литература богатых реформами и преобразованиями 1860-х гг., увлеченная более всего злобо дневными проблемами, была далека от романтического пафоса философских «Русских ночей ». Хорошо осознавая это, Одоевский счел необходимым переработать роман, но так и не смог (или не захотел) довести эту работу до конца, вероятно, сочтя переработку неудачной и даже отказавшись от переиздания.
Второй раз роман увидел свет только в 1913 г. под редакцией С. А. Цветкова. Издателю важно было передать колорит Сочинений 1844 г., к оформлению которых Одоевский — заядлый библиофил — подошел со всей серьезностью, самолично подобрав и шрифты, и формат. С. А. Цветков сохранил размер страниц, строк и характер шрифтов в соответствии с изданием Сочинений, но воспроизвел не текст 1844 г., а новый его вариант — с учетом позднейших поправок. По мнению С. А. Цветкова, нельзя было не учесть «желанiе автора переиздать Ру сскiя ночи исправленными и дополненными»
[Цвѣтковъ: III]. Поправки же, с точки зрения редактора, «носятъ характеръ стилистическiй и корректурный. Дополненiя же не нарушаютъ общаго плана книги и не измѣняютъ духа ея, но многое поясняютъ» [Цвѣтковъ: III–IV]. Принцип следования «последней воле автора»2 стал определяющим и для издателей «Русских ночей» в серии «Литературные памятники», проделавших кропотливую работу по учету всех позднейших исправлений Одоевского (см.: [Маймин и др.: 277–279]). Именно в такой редакции «Русские ночи» или отрывки из них — насколько нам удалось установить — издаются поныне3.
Полемически на переиздание романа С. А. Цветковым отозвался П. Н. Сакулин4, крупнейший знаток творчества Одоевского, справедливо отметивший, что «не только ученый, но и каждый читатель заинтересованъ въ томъ, чтобы имѣть абсолютно точный текстъ писателей. <…> все, что обуслов-ливаетъ собою хотя бы только извѣстный нюансъ рѣчи имѣетъ непререкаемое значенiе» [Сакулинъ: 257]. Исследователь подчеркнул, что «Русские ночи» «есть прежде всего памятникъ нашей литературы и общественности въ перiодъ 30-хъ годовъ» [Сакулинъ: 259], именно так, добавим от себя, он вошел в литературный процесс 1840-х гг., именно в таком виде его читали Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и другие современные Одоевскому писатели.
Нельзя не согласиться с П. Н. Сакулиным также в том, что «редакцiонныя измѣненiя вовсе не такъ ничтожны». Подобные вставки, как аргументированно замечает рецензент, говорят «о томъ, чѣмъ, дѣйствительно, занята была мысль Одоевскаго въ 60-хъ годахъ, и что звучитъ полнымъ диссонансомъ въ устахъ Фауста 30-хъ годовъ», получившийся же вариант романа «не можетъ вполнѣ характеризовать ни 30-хъ ни 60-хъ годовъ въ идейной жизни Одоевскаго» [Сакулинъ: 259]. По мнению авторов примечаний к изданию романа в серии «Литературные памятники», отстаивающих уместность включения в издание «Русских ночей» позднейших дополнений и поправок писателя, П. Н. Сакулин «явно преувеличивал эволюцию мировоззрения Одоевского, который якобы к шестидесятым годам уже не был “идеалистом” и “мистиком”» [Маймин и др.: 279]. Мировоззрение Одоевского в 1860-е гг. — сложный и пока мало исследованный вопрос, но лучшим доказательством изменения его взглядов и эстетических предпочтений в позднейший период жизни как раз таки и могут служить дополнения, сделанные писателем к «Русским ночам» в 1860-е гг., что мы и попытаемся доказать ниже, дополнив и расширив аргументацию П. Н. Сакулина.
В пользу П. Н. Сакулина свидетельствует сам Одоевский, в Предисловии к предполагаемому переизданию «Русских ночей» прямо говоря, что «наши мысли <…> живая химическая переработка начал внешних и разносложных», в том числе «духа эпохи вообще и среды, в которой мы живем»5 (Одоевский 1975: 186): «С этой точки зрения человеческое слово, при его проявлении в данном народе и в известный момент, есть исторический факт, более или менее важный, но уже не принадлежащий так называемому сочинителю; <…> после договаривать уже поздно: стрелка двинулась на часах мира, два раза рождения не бывает» (Одоевский 1975: 186). Вместе с тем Одоевский планировал не только «исправить лишь некоторые, слишком явные промахи», но и «пополнить вольные и невольные пропуски, ввести некоторые статьи, <…> присоединить особо примечания» (Одоевский 1975: 186), т. е. все-таки создать новую редакцию романа. Но до конца он эту работу не довел, поскольку, видимо, «договаривать уже поздно», даже если речь идет о небольших дополнениях.
О сложности и, вероятно, органической невозможности «договорить» лирические «Русские ночи» в прозаические 1860-е гг. свидетельствует сам цитируемый черновой вариант Предисловия к новому изданию, принципиально отличный от Предисловия к Сочинениям 1844 г. и стилистически, и мировоззренчески. Как видно из приведенной выше цитаты, поздний Одоевский делает акцент на важности «духа эпохи вообще и среды», тогда как ранее фокус его внимания был сосредоточен на общечеловеческом:
«Во всѣ эпохи душа человѣка стремленіемъ необоримой силы, невольно, какъ магнитъ къ сѣверу, обращается къ задачамъ, коихъ разрѣшеніе скрывается во глубинѣ таинственныхъ стихій, образую-щихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную…» 6 (курсив мой. — Ю. С. ).
Центральным нервом Предисловия к Сочинениям 1844 г. было соотнесение макрокосма и микрокосма с явным предпочтением последнего — бесконечного мира, существующего в каждом человеке, но с особенной отчетливостью осознаваемого поэтом, что позволяет ему стать пророком, проповедником истины. В позднем же Предисловии акцент делается на мир внешний, «реальный», нет и намека на мистическое мироощущение 1830-х гг.
Приведем еще один весьма красноречивый пример, в котором речь идет непосредственно об издании Сочинений и об отклике на них. В 1844 г. Одоевский пишет:
«На трудномъ и странномъ пути, который проходитъ человѣкъ, попавшій въ очарованный кругъ, называемый литературнымъ, изъ котораго нѣтъ выхода, отрадно слышать отголосокъ своимъ чувствамъ между людьми, намъ незнакомыми, отдаленными отъ насъ и про-странствомъ и обстоятельствами жизни» ( Одоевский 1844 : VIII–IX).
В позднейшем же Предисловии читаем:
«Покусившийся хоть раз, как говорилось в старину, предать себя тиснению, — с той самой минуты становится публичной собственностью, которую всякий может трактовать , как ему угодно» ( Одоевский 1975 : 184).
Завороженный странник по очарованному кругу искусства превращается в «публичную собственность», а почти мистическая невозможность раз очутившись на стезе искусства сойти с нее теперь оборачивается прозаической обязанностью объясниться с публикой и защитить свои авторские права. Место романтического «отголоска», исполненного тоски по внимательному читателю, теперь заступает « трактамент », затем последуют и сетования на недобросовестные « заимствования » ( Одоевский 1975 : 185) собратий по перу.
Из приведенных примеров видна разница в стиле Одоевского — «туманные», богатые пояснительными конструкциями, оговорками, метафорами и восклицательными знаками предложения раннего Предисловия в позднем сменяются логически выверенными суждениями, практически лишенными былого романтического пафоса (от «прежнего» Одоевского здесь разве что одна метафора: «стрелка двинулась на часах мира, два раза рождения не бывает» (Одоевский 1975:186)). Позднее Предисловие богато разговорной, часто ироничной лексикой («добрые люди», «втихомолку принялись таскать», «без дальних околичностей», «казался довольно забавным», «бесцеремонных проделок», «к ремеслу невинного заимствования», «клепали» (Одоевский 1975: 185) и др.), немыслимой для раннего Предисловия, напротив, полного архаизмов и поэтизмов, патетических эпитетов и метафор («мятежная дЪятель-ность», «смиренное созерцаніе», «таинственныхъ стихій», «прошедшая жизнь тонетъ въ недосягаемой глубинѣ, а чудная задача всплываетъ надъ утопшимъ міромъ», «дивная гармонія внятно слышится посреди бурь, столь часто возмущающихъ сердце человека» (Одоевский 1844: III-IV) и мн. др.).
О том, что позднему Одоевскому была чужда романтически-архаичная стилистика, свидетельствует и то, что в ряде случаев он заменяет устаревшие «сие», «сии» и др. на «это», «эти» и т. д. Как в издание С. А. Цветкова, так и в позднейшую версию 1975 г. внесены такие изменения, однако, как отмечает П. Н. Са-кулин, «судя по рукописной замѣткѣ <…> Одоевскiй въ предисло-вiи ко второму изданiю хотѣлъ распространиться даже о томъ, “почему я не вымаралъ ни сей, ни оный, ни ибо ”» [Сакулинъ: 260]. Подобное намерение согласуется с поэтикой романа, для которого изначально важна была ориентация на «седину веков», на «вечные» вопросы и стихии человеческого бытия. Созданию соответствующей атмосферы и служили воспринимавшиеся как устаревшие уже и в 1830-е гг. указанные предлоги и местоимения.
Одоевскому 1830-х гг. — а вслед за ним и нам — важно подчеркнуть, что «Русские ночи» — именно эстетическое, художественное произведение ( «сочинешя, имЪющiя притязанiе на названiе эстетическихъ» (Одоевский 1844 : VIII) ) , а не философский трактат. Однако для позднего писателя, вероятно, более важной оказывается мировоззренческая составляющая романа, о чем свидетельствуют, в частности, сделанные им примечания. Условно их можно разделить на три группы: 1) те, что призваны пояснить современному читателю некоторые положения Фауста или же прояснить их источники ( Одоевский 1975 : 10, 15, 17, 100, 104, 105, 107, 138, 152, 173); 2) вставки, имеющие отношение к событиям, произошедшим после выхода романа и подтверждающие верность авторских интенций ( Одоевский 1975 : 67, 106); 3) те, в которых «поздний» Одоевский явно высказывает свою новую позицию, теперь уже полемичную по отношению к Фаусту, ранее претендовавшему на роль alter-ego автора ( Одоевский 1975 : 147, 153). Рассмотрим несколько примеров из разных групп.
-
1) К первой группе мы можем отнести такое примечание к одному из положений Фауста: «Мысль, почерпнутая Фаустом из сочинения Пордеча и “Philosophe inconnu” <“Неизвестный философ” ( франц .)>; Фауст часто, раза три или четыре, цитирует этих сочинителей, не называя их — ибо боится упрека
в мистицизме и в том, что он поддался влиянию не немецкого философа, что в эту эпоху казалось непростительным. Эпоха, изображенная в “Русских ночах” — есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины и они разбрелись в разные стороны» ( Одоевский 1975 : 15). С одной стороны, этот комментарий действительно несет в себе важную для исследователей Одоевского, истории философии и мистики информацию. Но как он вписывается и вписывается ли в эстетическое целое «Русских ночей»? В нем автор (Одоевский) отстраняется от героя (Фауста), поясняя со стороны его реплику, выдавая его «секрет», дистанцируется от самой эпохи «Русских ночей», делая этот роман по-своему «историческим», неактуальным для нового времени. Может быть, в 1860-е гг. подчеркивание подобной дистанции и было уместно (вероятно, Одоевскому было важно, чтобы о нем «сегодняшнем» не судили по произведению ушедшей эпохи), но что дает педалирование этой дистанции в переизданиях 1913 г. и последующих лет? У читателя, не знакомого с историей о позднейшей редакции романа, она может породить ощущение раздвоенности автора. Подобное восприятие провоцируют и некоторые другие примечания, отнесенные нами как к этой группе, так и к последующим.
-
2) Описывая начало падения процветающего, основанного исключительно на пользе «Города без имени», Одоевский делает такое примечание, заключающее в себе пример из современной ему жизни: «Американский республиканский журнал “Tribune” (из коего отрывок напеч<атан> в “Сев<ерной> пчеле”, 1861, сент<ября> 21, № 209, стр. 859, кол. 4), исчисляя следствие торжества ультра-демократической партии, говорит: «один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство» ( Одоевский 1975 : 67). Этот комментарий актуализирует изложенную в «Городе без имени» идею о крахе всякого союза, основанного исключительно на личной пользе , однако по духу своему входит в явный диссонанс с романтической патетикой «Русских ночей» в целом и этой повести в частности, ведь «Город без имени» тяготеет
к притче, смысл которой далеко выходит за рамки политики и может быть соотнесен с жизнью каждого человека7.
-
3) Патетические рассуждения Фауста по поводу «девственной» чистоты русского языка, чуждого циничным выражениям, бытующим на Западе, вдруг дополняются таким комментарием писателя: «Фауст в своем увлечении забывает, что наш язык принял же в себя выражения: законная взятка, честный доходец, — забывает и всю терминологию крепостного права» ( Одоевский 1975 : 153). Замечание справедливое, но оно и по духу, и по стилю контрастирует с общим мечтательным и патетическим пафосом, характерным для свято верящего в великое будущее России и в силу ее просвещенного правительства Одоевского 1830-х гг. (см.: [Сытина: 88–93]). Это комментарий не «автора» основного текста, но уже «читателя», отстраняющегося от некогда близкой ему, но теперь уже кажущейся наивной речи героя. Критически ее оценивая, примечание задает неизбежную тенденциозность, органически чуждую космосу «Русских ночей». По идеологическим причинам подобный комментарий, вероятно, был актуален в 1913 г. и особенно в советские десятилетия, но нужен ли он сегодня?
Скрытая полемика по отношению к рукописи, которую Фауст читает с воодушевлением, проступает и в Эпилоге, когда к восторженным словам о том, что «один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига; в нем одном, или посредством его, еще возможно зарождение нового света, обнимающего все сферы ума и общественной жизни» ( Одоевский 1975 : 147), Одоевский делает примечание: «Внимательный читатель заметит, что в этих строках вся теория славянофилиз-ма , появившегося во 2-й половине текущего столетия» ( Одоевский 1975 : 147). Такой редукцией славянофилизма автор принижает и само это направление, к которому в эпоху создания романа относился с куда большей симпатией, чем в 1860-е гг., и восторженные речи героя, от которых отстраняется уже тем, что вешает на них некий ярлык.
«Актуализации» «Русских ночей» послужили также некоторые сокращения «романтических “ужасов”» [Маймин и др.: 278] и более «злободневные» дополнения, прежде всего коснувшиеся «Бала» (см.: [Маймин и др.: 278]), в котором Одоевский добавил абзацы в начале и в конце описания пляски, отражающие «конкретные тяжелые впечатления автора от современных войн» [Маймин и др.: 278]. Сами по себе эти дополнения делают отрывок более экспрессивным и обличительным, но в контексте «Русских ночей» они отзываются «полнымъ диссонансомъ» [Сакулинъ: 259]. Нельзя не согласиться с П. Н. Сакулиным в том, что «когда Одоевскiй писалъ свой “Балъ”, никакой войны у него и въ мысляхъ не было; генезисъ его творческой мысли былъ совершенно другой» [Сакулинъ: 259]. И действительно, в «Русских ночах» этот отрывок принадлежит перу некоего Экономиста, тщетно пытавшегося задушить живые порывы своей души статистическими выкладками. Важно, что его неприятие вызывает бал как таковой , светская пустая жизнь как таковая , служа свидетельством неравнодушия героя, тщетно пытающегося отвертеться «отъ души» ( Одоевский 1844 : 12). Упоминания же о войне переносят центр тяжести с гротескного изображения мертвенности и фальши жизни вообще на обличение людской бесчувственности к чужому горю. Бесчувственности, делающей живых мертвецами: на войне люди гибнут физически, на бале — духовно. Как и в случае с примечанием к «Городу без имени» о положении дел в США, упоминаемые конкретные реалии разрушают притчевый характер повести, сужая ее смысл. К подобному эффекту приводит и изменение Одоевским эпиграфа к «Балу» — весьма показательная замена, ярко высвечивающая разницу между Одоевским 1830-х и 1860-х гг. Если в начале отрывок предваряло суждение из некоего «Анатомического описания человеческого организма» на французском языке о физиологическом сходстве смеха и рыдания — мысль, весьма созвучная мироощущению романтиков, то позднейший эпиграф — «Gaudium magnum nuntio vobis», сопровождаю щийся следующим авторским примечанием8:
«“Великую радость возвещаю вам”, — обыкновенная формула, которою в Риме объявляется об избрании папы» ( Одоевский 1975 : 45), — задает уже совсем иной тон. Этот эпиграф усиливает сатирическую оценку «радости» танцующих о «великой победе» и отражает характерное для Одоевского 1860-х гг. (но никак не 1830-х!) неприятие католицизма (как и протестантизма), сказавшееся и в некоторых других поправках (см.: [Маймин и др.: 279]).
На примере «Бала» можно продемонстрировать еще одно изменение, сделанное во всех переизданиях «Русских ночей», но уже никак не оговариваемое редакторами: унификацию многоточий Одоевского до троеточия. Это «мнимое упрощение» [Захаров, 2012: 210], которому подвергались тексты и других писателей9, ведет к утрате важных для автора смыслов. Вольное обращение со знаками препинания было характерно для Одоевского, искавшего средств для более полного выражения в слове своих идей и чувств, в частности, «на пути соединения экспрессивных возможностей музыки и художественного слова» [Кореньков: 22]10, в том числе проводя различные эксперименты со знаками препинания.
В романе в целом и в «Балѣ» в частности троеточию Одоевский предпочитает четвероточие, используя его четыре раза после весьма характерных слов: «бѣсновалось въ сладо-страстномъ безуміи….», «и плачь; и взрыдъ; и хохотъ….»11, «атласные башмаки красавицъ….», «бѣсновалось въ сладо-страстномъ, холодномъ безуміи….» (Одоевский 1844: 81–83). Приведенные примеры говорят сами за себя, причем повтор в первом и последнем случае подчеркивает дурную бесконечность сумасшедшей пляски, а также усиливает ее замкнутость на числе четыре12. Эту символику разрушают как последующие вставки Одоевского, так и замена редакторами четвероточий на троеточия. Важно и то, что «Балъ» не обрывается мрачной картиной неистовой пляски в «сладострастномъ безуміи» под рыдающе-хохочущие звуки инфернального оркестра. Этой своего рода черной мессе противопоставляется служба в храме — мучительному шуму уступает место утренний благовест и тихий голос священника, который «произносилъ завѣтныя слова любви, вѣры, надежды; онъ возвѣщалъ таинство ис-купленія, онъ говорилъ о Томъ, кто соединилъ въ себѣ всѣ страданія человѣка» (Одоевский 1844: 84). Рассказчик пытается остановить разъезжающуюся толпу и привлечь хоть кого-нибудь в церковь, но тщетно: «всѣ проѣхали мимо церкви и никто не слыхалъ словъ священника......» (Одоевский 1844: 84). Так — шеститочием13 — завершается «Балъ». Логическое ударение, которое падает на концовку благодаря увеличенному многоточию, безусловно, имеет особое значение, предавая повествованию особую экспрессию и разрывая замкнутость четырех четвероточий: дурная бесконечность безумной пляски преодолевается величественностью церковной службы, дарующей временное облегчение измученной душе героя и указывающей спасительный путь.
По тексту романа рассыпаны небольшие дополнения или изменения, также зачастую предающие повествованию новые оттенки. Так, молитва священника в «Балѣ» дополнена словами «он молился об убиенных и убийцах» ( Одоевский 1975 : 47), продолжающими добавленную позднее «военную» тему. Сатирические краски сгущены и в другом «произведении» Эко номиста — «Н асмешке мертвеца» (см.: Одоевский 1975 : 51, 53).
В этой повести есть показательное изменение, на которое вскользь обратил внимание и П. Н. Сакулин. Фразу:
«Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы? Милостивые государи, вы потеряли значеніе сего слова» ( Одоевский 1844 : 95) —
Одоевский впоследствии заменил следующим образом:
«Где же сила любви, двигающей горы? Милостивые государи, вы задушили ее в ваших объятиях» ( Одоевский 1975 : 51).
Как справедливо заметил П. Н. Сакулин, «слово “молитва” прекрасно гармонируетъ съ мистицизмомъ Одоевскаго въ тридцатыхъ годахъ, а понятiе “любовь” чуждо этого специфи-ческаго оттѣнка» [Сакулинъ: 259]. Важно и то, что «молитва» отсылает читателя к финалу «Бала», вновь подчеркивая контраст между порочностью светской жизни, таящей в себе нечто инфернальное, и спасительным узким путем покаяния и молитвы. Характерно и изменение спиритуалистического «потеряли значеніе сего слова» на физиологическое «задушили ее в ваших объятиях». К позднему Одоевскому отсылает и пессимистическое дополнение, которого не было в редакции 1844 г.: «Где же великодушные люди, готовые на жертву для спасения ближнего? Милостивые государи, — вы втоптали их в землю, им уже не приподняться» ( Одоевский 1975 : 51). Одоевский времен создания «Русских ночей» все же свято верил в то, что «будетъ призванный изъ народа юнаго, свѣжаго <…> достойный взлелѣять въ душѣ своей высокую тайну и возставить свѣтильникъ на свѣшницу» ( Одоевский 1844 : 311), и будет скоро, ведь «Девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи!» ( Одоевский 1844 : 314).
Обратим внимание еще на одно последовательное изменение, характерное для всех советских изданий дореволюционных книг и никак не оговариваемое — замена прописных букв на строчные в написании наименований Бога и место-имений14, отсылающих к Нему. В. Н. Захаров так оценивает эту «коррекцию»: «…она меняла знаки культуры на противоположные — превращала христианских писателей в атеистов.
Идеологическая правка искажала смысл и дух творчества всех без исключения русских писателей» [Захаров, 2012: 205]. Верно это и по отношению к Одоевскому, причем и в его «мистические» 1830-е гг., и в более «рассудочные» 1860-е. В советских и постсоветских изданиях «Русских ночей» встречается и курьезное «умаление Бога перед сатаной» (А. В. Михайлов, цит. по: [Захаров, 2012: 211]) — Луцифер неизменно удостаивается наименования с заглавной буквы ( Одоевский 1975 : 143).
В заключении рецензии П. Н. Сакулин высказывает пожелание, «чтобы нашелся другой издатель, который не побоялся бы выпустить новое изданiе “Русскихъ Ночей”» [Сакулинъ: 260] — издание, аутентичное тексту 1844 г. Это пожелание актуально и ныне, когда «Русские ночи» переиздаются по версии, представленной в «Литературных памятниках». Нисколько не ставя под сомнение важность обширной работы, проведенной последующими издателями Одоевского, присоединимся к пожеланию П. Н. Сакулина, дополнив его предложением переиздать не только роман, но все три тома Сочинений 1844 г., которые до сих пор являются наиболее полным и репрезентативным изданием Одоевского. Другое его собрание сочинений, изданное в 1981 г.15 (сейчас и оно стало библиографической редкостью), организовано по иному принципу и содержит не все произведения, отобранные Одоевским для трех частей Сочинений. Будучи мастером циклизации, писатель вложил особый смысл в расположение произведений в Сочинениях, благодаря чему они дополняют одно другое, вступают в своеобразный диалог и друг с другом, и с разгадывающим их читателем (см., например: [Киселев]). Как уже говорилось, Одоевский подошел к оформлению Сочинений с особым тщанием и искусством, в связи с чем наиболее предпочтительным представляется репринтное переиздание собрания 1844 г., а в перспективе и научное издание канонического текста «Русских ночей», требующее сверки рукописи романа, печатного варианта 1844 г., поправок Одоевского той поры. В пользу такого издания говорит и необходимость иметь возможность прочесть классический текст на том языке, на котором он писался — в традиционной русской орфографии, поскольку «канонический текст исчезал уже в самом процессе перевода из старой в новую орфографию»16 [Захаров, 2012: 217].
Очевидно, что внесение позднейших поправок Одоевского в основной текст «Русских ночей», а также редакторская унификация авторской орфографии и пунктуации нарушают поэтический космос романа, создававшегося писателем именно как эстетическое творение, в котором важны малейшие нюансы авторской партитуры. Одоевский в поздние годы жизни отходит от присущего ему ранее мистицизма, чужда ему оказывается и романтическая стилистика, что наглядно показывает сравнительный анализ Предисловия к Сочинениям 1844 г. и чернового варианта Предисловия 1860-х гг. Позднейшие примечания и вставки придают «Русским ночам» определенную тенденциозность и жанровые черты философского трактата, «отрезвляя» и «расколдовывая» романтически-мистический мир произведения, внося дисгармонию в единство авторской позиции, и потому при переиздании книги их целесообразно помещать в затекстовые комментарии, в целом же руководствуясь «историческим принципом» («editio princeps»). Именно в своей первоначальной редакции роман стал важной репликой в литературном процессе, и это принципиально важно учитывать при переиздании «Русских ночей», не подменяя поздней, незавершенной редакцией их подлинную версию.
Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2010, vol. 9, pp. 673–706. (In Russ.)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРE / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Сытина Юлия Николаевна , кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы, Московский государственный областной университет (ул. Фридриха Энгельса, д. 21, стр. 3, г. Москва, Российская Федерация, 105005); ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6334-4722 ; e-mail: yulyasytina@ yandex.ru.
Список литературы «Русские ночи» В. Ф. Одоевского: два романа?
- Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. М.: Наследие, 1998. 416 с.
- Есауловъ И. А. О любви. Радикальныя интерпретацiи. Магаданъ: Новое время, 2020. 216 с. (а)
- Есауловъ И. А. Пасхальность русской словесности. 2-е изд., доп. Магаданъ: Новое Время, 2020. 480 с. (b)
- Захаров В. Н. «Бесы»: опыт реконструкции журнальной редакции романа // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: канонические тексты. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. Т. 9: Приложение: Бесы. С. 673–706.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с.
- Киселев В. С. Телеология «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» (1844): принципы составления, композиция, жанровое целое // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 2 (3). С. 45–62.
- Кореньков А. В. Пунктуация и слово-музыка в философском мифе В. Ф. Одоевского // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Литературоведение, журналистика. 2001. № 5. С. 19–24.
- Лихачев Д. С. Статьи ранних лет. Тверь: Тверское областное отделение Российского фонда культуры, 1993. 144 с.
- Маймин Е. А., Медовой M. И., Егоров Б. Ф. Примечания // Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 277–312.
- Сакулинъ П. Н. Рецензiи // Голосъ минувшаго. 1913. № 6. С. 257–260.
- Скулкинъ А. А. Перспективы, возможности и трудности созданiя цифрового Достоевскаго въ традицiонной русской орѳографiи // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 4. С. 7–20 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1639910158.pdf (16.12.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5781
- Спиридонова Л. А. Текстология: теория и практика. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 256 с.
- Сытина Ю. Н. Сочинения князя В. Ф. Одоевского в периодике 1830-х годов. М.: Индрик, 2019. 392 с.
- Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. М.: Искусство, 1959. 280 с.
- Труды по русскому правописанiю. Магаданъ: Новое время, 2019. Вып. 3. 408 с.
- Цвѣтковъ С. А. Предисловiе редактора // Одоевскiй В. Ѳ. Русскiя ночи. М.: Путь, 1913. С. III–VI.