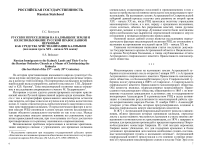Русские переселенцы на калмыцкие земли и их использование Русской Православной Церковью как средства христианизации калмыков (последняя треть XIX - начало XX веков)
Автор: Белоусов Сергей Степанович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 62, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе впервые использованных архивных документов показана роль русских переселенцев на калмыцкие земли в христианизации калмыков. Русская православная церковь стремилась использовать русских переселенцев в своей миссионерской деятельности в Калмыцкой степи. Со своей стороны, российское правительство поддерживало деятельность Русской православной церкви по христианизации нерусских народов, поскольку она соответствовала государственному курсу на интеграцию народов России в русское социокультурное пространство. Однако в Калмыкии эта политика вошла в противоречие с законодательством, которое запрещало поселение на калмыцких землях лиц некалмыцкого происхождения. Следуя закону, светские власти запрещали русским селиться в миссионерских станах, а тех, кто там уже поселился, стремились заставить выселиться за пределы калмыцких земель. Эффективность этих действий во многом зависела от личностных качеств руководителей губернской и калмыцкой администрации, и в первую очередь, от степени их религиозности. В большинстве случаев в губернском аппарате работали чиновники, равнодушные к православному миссионерству, которые в своей деятельности старались не выходить за рамки своих прямых служебных обязанностей. Руководство Русской православной церкви, наоборот, как могло, поддерживало русских переселенцев, рассчитывая с их помощью решить многие задачи православного миссионерства в Калмыцкой степи. Однако в начале 1910-х гг. отношение Русской православной церкви к русским переселенцам изменилось в худшую сторону. Причина состояла в том, что рост численности русского населения в миссионерских станах привел к уходу оттуда крещенных калмыков. Главная причина неудачи поселения крещеных калмыков в миссионерских станах и вообще христианизации калмыков заключалась в том, что светским и церковным властям не удалось создать в глазах калмыков привлекательный образ жизни в этих станах. Принятием христианства и переходом на оседлый образ жизни калмыки надеялись поправить свое материальное положение и зажить более обеспеченной жизнью, чем их сородичи-кочевники, однако эти ожидания не оправдались.
Калмыкия, калмыки, русская православная церковь, христианизация, православное миссионерство, переселенец, переселенческая политика, астраханская губерния, ставропольская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/149127381
IDR: 149127381 | DOI: 10.24411/2072-9286-2019-00025
Текст научной статьи Русские переселенцы на калмыцкие земли и их использование Русской Православной Церковью как средства христианизации калмыков (последняя треть XIX - начало XX веков)
Russian Immigrants to the Kalmyk Lands and Their Use by the Russian Orthodox Church as a Means of Christianizing the
Kalmyks
(the last third of the 19th - early 20th Centuries)
По истории христианизации калмыцкого народа существует богатая научная литература, в которой исследованы различные периоды и аспекты этой политики. Из современных калмыцких историков наибольший вклад в разработку данной темы внесли Г.Ш. Дорджи-ева1 и К.В. Орлова2. Тема миссионерской политики нашла отражение в исследовании американского ученого М. Ходарковского3.
Историкам в целом удалось реконструировать историю христианской миссии Русской православной церкви среди калмыков. Вместе с тем в историографии православного миссионерства остаются еще аспекты, которые совсем не изучены или изучены недостаточно полно. К таким относится роль переселенческого населения в политике христианизации калмыков. О переселенческом факторе в истории миссии РПЦ упоминали в своих трудах многие исследователи, однако объектом специального изучения он так и не стал. Между тем переселенцы оказали заметное влияние на становление и развитие православной миссии, при этом влияние это было достаточно противоречивым и по-разному оценивалось современниками.
Возникновение проблемы переселенцев в политике христианизации напрямую связано с учреждением для крещеных калмыков специальных стационарных поселений и проникновением в них с целью устройства на постоянное жительство лиц некалмыцкого происхождения. На калмыцких землях Астраханской и Ставропольской губерний данный процесс получил свое развитие во второй трети XIX - начале XX вв., когда РПЦ проводила политику учреждения миссионерских станов, и в них, наряду с крещеными калмыками, стали селиться, обычно без разрешения властей, также русские крестьяне, мещане и торговцы. Духовные власти были поставлены перед необходимостью выработки определенной позиции и мер по отношению к незваным ревнителям православия.
Основной целью данной статьи является исследование переселенческого фактора миссионерской политики РПЦ по отношению к калмыкам на протяжении последней трети XIX - начала XX вв.
Главными источниками написания статьи послужили документы Государственного архива Астраханской области и Национального архива Республики Калмыкия, а также опубликованные отчеты Астраханского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
* * *
Миссионерские станы на калмыцких землях Астраханской губернии стали возникать после открытия 3 января 1871 г. в Астрахани Астраханского епархиального комитета Православного миссионерского общества, а в Большедербетовском улусе Ставропольской губернии, после учреждения в 1889 г. в Ставрополе - Ставропольского епархиального комитета Православного миссионерского общества. Оба комитета являлись подразделениями всероссийского Православного миссионерского общества, образованного в 1865 г. по инициативе отдельных гражданских и духовных лиц и поддержанного императором Александром II и руководством РПЦ в целях активизации и повышения результативности миссионерской работы среди нехристианских народов России. 21 ноября 1869 г. Александр!! утвердил устав общества, которым предусматривалось создание в каждом епархиальном центре миссионерских комитетов.
В 1871 г. Астраханский епархиальный комитет разослал священникам, вблизи приходов которых проживали калмыки, опросные листы с целью выявить численность калмыков и узнать мнение священников о возможностях их христианизации, а в 1876 г. направил в кочевья для проведения проповедей и крещения иеромонаха Покро-во-Болдинского монастыря Гавриила. Из этой поездки иеромонах Гавриил вынес убеждение, что для поддержки крещеных и более успешного продвижения дела миссии необходимо создать постоянные миссионерские пункты в калмыцких кочевьях4. Астраханский епархиальный комитет прислушался к его мнению и принял решение об учреждении миссионерских станов в поселке Улан Эрге и на урочище Наин-Шиирвюжной части Малодербетовского улуса. Оба миссионерских стана открылись в 1877 г, в них были построены церкви и туда были направлены миссионеры.
Улан Эргинский миссионерский стан предназначался для религиозного обслуживания крещеных калмыков и ведения миссионерской работы среди калмыков Икицохуровского улуса. Этот улус располагался в центральной части Калмыцкой степи и не имел стационарных поселений с постоянным составом населения. Миссионерский стан решили разместить в небольшом поселке Улан Эрге (64 душ мужского пола в 1876 г), который находился в окружении земель икицохуровских калмыков, хотя административно он принадлежал к Черноярскому уезду Астраханской губернии. Поселок был основан русскими крестьянами за 12 лет до открытия стана. Русские жители поселка Улан-Эрге охотно согласились разместить у них миссионерский стан, надеясь использовать подвернувшийся случай для того, чтобы построить храм и открыть православный приход. Они обязались за свой счет выстроить дом для миссионера и снабдить его топливом, приготовить и перевезти камень под фундамент церкви, а также перевезти купленный в Астрахани храм5.
Вблизи поселка Улан Эрге кочевали 65 человек крещеных калмыков, принадлежавших к разным родам. Отношение к ним со стороны калмыков-буддистов было неприязненным, и их сильно стесняли в землепользовании. В конце 1884 г. крещеные калмыки обратились в Астраханский епархиальный комитет с просьбой принять их в ула-нэргинское общество, а также прирезать к наделу поселка калмыцкие земли на урочище Баии Доржи6. Астраханский епархиальный комитет попросил крестьян приписать калмыков в свое общество, и те согласились, но при условии исправного несения новоселами повинностей, уплаты податей и без круговой поруки за калмыков. Предложенные крестьянами условия не соответствовали закону, поэтому гражданские власти их отклонили. Астраханский епархиальный комитет в отчете за 1884 г. с сожалением отмечал: «Нет сомнения, что законное основание для воспрепятствования крещеным калмыкам сделаться оседлыми членами крестьянского общества есть. Но эта законность слишком неблагоприятна для миссионерского дела, для улучшения быта калмыков вообще и для крещеных в особенности»7.
Трудности, возникшие при попытке приписать крещеных калмыков к обществу крестьян поселка Улан Эрге, заставили руководство миссии задуматься о создании для крещеных икицохуровских калмыков отдельного поселения. Для него было выбрано урочище Чилгир, где проживали 26 крещеных в 1876 г. иеромонахом Гавриилом кибиток и несколько поселившихся по приглашению калмыков русских семей. Последние обосновались на урочище без разрешения властей и, согласно закону, подлежали высылке за пределы Калмыцкой степи, но за них вступились крещеные калмыки, которые 8
уговорили Главного попечителя калмыцкого народа, действительного статского советника Н.О. Осипова оставить их в Чилгире. Свою просьбу калмыки обосновывали полезностью для них русских, обучавших их строительству домов, земледелию и вообще навыкам оседлой жизни. В 1882 г. Управление калмыцким народом дало согласие на проживание в поселке Чилгир семи русским семьям, но при условии, что больше русские поселенцы допускаться к поселению не будут. С русских взяли подписку о том, что они будут исправно и наравне с калмыками уплачивать налоги и нести повинности, и, кроме того, дополнительно возьмут на себя перевозку почты8.
Интерес к Чилгиру проявили торговцы города Черный Яр, которые много лет торговали с калмыками и хотели закрепиться в Калмыцкой степи на постоянное жительство. 24 декабря 1876 г. в Астраханский епархиальный комитет поступила докладная записка от черноярских торговцев В.И. и М.А. Якуниных, М.Г. и Я.Г. Субботиных и П.А. Стороженкова, в которой они просили разрешить им поселиться в поселке Чилгир. Они готовы были за свой счет построить церковь, дом для миссионера, землянки для крещеных калмыков и уверяли, что могут быть полезны миссии, поскольку владели калмыцким языком и хорошо знали калмыков9. Торговцам отказали в поселении, но свою лепту в дело православной миссии они внесли. Они добились разрешения и построили на свои деньги в 1893 г. часовню в ставке Икицохуровского улуса, на урочище Яшкуль, где вскоре был открыт миссионерский пункт. В 1908 г. черноярские и астраханские торговцы инициировали строительство часовни в ставке Утта Харахусовского улуса и выделили на это большие суммы. Яшкульская и Уттинская часовни обслуживали православных русских и калмыков и находились в ведении чилгирского миссионера.
В налаживании миссии среди калмыков поучаствовал известный в Астраханской губернии купец-меценат И.И. Губин. Когда он узнал, что на урочище Алцын Хута Астраханский епархиальный комитет намерен возвести часовню для крещеных калмыков, он сразу же обратился к епископу Астраханскому и Енотаевскому Евгению (Н. Шерешилов) с просьбой разрешить ему взять на себя расходы по ее строительству и транспортировке на место. Церковь построили в короткие сроки, однако к этому времени епископ Евгений отменил решение об устройстве храма на Алцын Хуте. Тогда Губин предложил установить церковь в деревне Барановке Черноярского уезда, где в имении К.Ф. Полиеэктовой размещался приют для детей крещеных калмыков10. На деньги Губина была также построена церковь в посселке Калмыцкий Базар, в котором находился миссионерский пункт.
Одновременно с уланэргинским в Калмыцкой степи возник миссионерский стан на урочище Наин-Шиир, предназначенный проводить христианизацию среди калмыков южной части Малодербетов- ского улуса. В 1876-1877 г. иеромонахи Гавриил и Антоний крестили 90 кибиток (273 человек) Ульдючиновского рода, кочевавших на урочище Наин-Шиир. Новообращенные выразили желание перейти к оседлости, при этом многие из них вполне сносно говорили по-русски, а некоторые даже занимались земледелием11.
Астраханский епархиальный комитет пошел им навстречу и в 1877 г. открыл на урочище Наин-Шиир миссионерский стан, выделив на нем для крещеных калмыков место под поселение, названное «Бислюртой». Как только об этом стало известно крестьянам соседних с Наин-Шиирским урочищем сел, они принялись донимать Главного попечителя калмыцкого народа статского советника А.Г Кандибу просьбами поселиться в стане. Свое желание водвориться среди крещеных калмыков почти все они объясняли стремлением помочь делу христианизации, однако на самом деле крестьянами двигали экономические мотивы: им нужна была земля. Просителями в основном выступали не получившие прописку в сельских обществах, так называемые иногородние крестьяне. Они принадлежали к числу поздних переселенцев, прибывших в приграничные с Калмыцкой степью селения после завершения их землеустройства. Старожильческое население не приняло их в свои общества, поэтому эти люди остались без земельного надела, и, следовательно, без главного источника существования. Образование в Калмыцкой степи поселения, естественно, породило у них надежды получить землю и подтолкнуло к активным действиям.
Количество русских, желающих водвориться, исчислялось сотнями семей, причем большинство из них имели приговоры от крещеных калмыков о принятии их в поселок и в общество. Калмыки знали их лично, так как крестьяне арендовали у них земли, вели с ними совместную хозяйственную деятельность, а некоторые при крещении были крестными отцами. Общие дела с калмыками облегчали крестьянам возможность получать от них положительные приговоры.
Поскольку законодательство запрещало поселение на калмыцких землях лиц некалмыцкой национальности, улусные власти и Управление калмыцким народом отклонили ходатайства крестьян и взяли с крещеных калмыков расписки о том, что впредь они не будут давать крестьянам приемных приговоров. Запрет властей селиться отрезвляюще подействовал не на всех иногородних: наиболее смелые и активные среди них решили все же попытать счастья и начали небольшими группами, по несколько семей, переезжать в стан и под предлогом оказания помощи крещеным калмыкам в строительстве жилья и приучения к занятию земледелием, постепенно там обустраиваться на постоянное жительство.
Самовольных переселенцев поддержал возглавлявший Наин-Шиирский стан иеромонах Андрей. В донесении епископу Астраханскому и Енотаевскому Герасиму (Г.И. Добросердов) от 18 апреля ю
1879 г. он откровенно описал трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после его назначения в стан. К ним он относил незнание калмыками русского языка, тяжелое материальное положение новокрещеных, недостаточное финансирование стана, невосприимчивость калмыков к оседлому образу жизни и отсутствие поддержки и даже противодействие православной миссии со стороны светских властей, поверхностное усвоение калмыками основ христианства. Общий его вывод был таков: «Калмыков крестили, но вере их еще не научили»12. Изменить ситуацию в лучшую сторону, по его мнению, можно было только допустив к поселению в стане русских крестьян, которых он назвал «наиполезнейшими помощниками миссионера»13. Он предупреждал епископа Герасима, что если этого сделать, то крещеные просто «разбредутся по степи и церковь останется пустой»14.
В донесении 14 июля 1879 г. в Астраханский епархиальный комитет иеромонах Андрей уже в ультимативной форме потребовал выполнить свою просьбу: «Если не будет разрешено вместе с нарезкою земли селиться и русским с калмыками, то я не только не пойду проповедовать калмыкам христианскую веру, но и не стану крестить более ни одного калмыка, как бы убедительно кто не просил меня об этом»15.
Выступить со столь жестким заявлением, недопустимым в церковной субординации, у миссионера Андрея были серьезные основания. Первые месяцы пребывания его в стане показали, что его подопечные, хотя и приняли крещение и на словах изъявили желание перейти к оседлости, на самом деле не прониклись новой верой и продолжали вести кочевой образ жизни. По существу, миссионер был поставлен перед выбором: или оставить все по-старому и тем самым потерять стан, или же сознательно нарушить закон, пригласив на жительство крестьян, которые обеспечат устойчивое развитие поселения и помогут калмыкам лучше усвоить азы христианства и перейти к оседлости. Иеромонах выбрал второй путь.
Не только здравый смысл, но и мотивы другого характера, лежащие в области культуры и человеческой психологии, двигали миссионером, когда он делал упомянутые выше заявления. Очевидно, что выросшему в русской культурно-бытовой среде миссионеру было непросто свыкнуться с жизнью среди чуждого ему кочевого народа, поэтому он, чтобы скрасить свое духовное одиночество, решил пригласить в стан духовно близких ему русских крестьян. Подобный дискомфорт в той или иной степени испытывали русские миссионеры и в других станах. В годовых отчетах Астраханского епархиального комитета последней трети XIX в. не раз констатировалось, что зачастую миссионеры, вместо того чтобы всецело заниматься калмыками, «охотнее обращались с русскими переселенцами ближайших селений»16. Большинство миссионеров к тому же не владели калмыцким языком, а калмыки - русским, что, конечно же, осложня- ло налаживание контактов между ними и понижало действенность проповеди. Но даже знание миссионером калмыцкого языка не сближало его с калмыками, ибо для того, чтобы это произошло, ему необходимо было понять культурно-бытовую среду и национальный характер калмыков, а это было достижимо только в том случае, если человек происходил из их среды или прожил среди них многие годы. Миссионеры обычно свое назначение в миссионерский стан рассматривали как тяжелую ношу и временное явление, поэтому долго в нем не задерживались, стараясь при первом подвернувшемся случае перевестись в русский приход на должность священника.
Астраханский епархиальный комитет пытался привлечь к миссионерской деятельности православных священников и церковнослужителей из числа калмыков, однако результаты оказались весьма скромными. Православных священников-калмыков было очень мало, и, они, за редкими исключениями, не проявляли желания возвращаться к своим сородичам в степь.
Епархиальные власти сочувствовали русским поселенцам в станах и старались по мере возможности помочь им прописаться в общества крещеных калмыков, понимая, что без них миссионерские станы и построенные в них храмы быстро придут в запустение. «Недопущение русских и крещеных людей селиться среди калмыков весьма неблагоприятно влияет на дело христианизации», - говорилось в отчете Астраханского епархиального комитета за 1884 г.17.
Однако законодательство Российской империи однозначно запрещало поселение на калмыцких землях лиц некалмыцкого происхождения, и, чтобы исправить ситуацию, необходимо было или вносить изменения в законы, или в каждом конкретном случае принимать специальные акты.
До того, как это произойдет, губернские власти и Управление калмыцким народом обязаны были следовать букве закона, то есть бороться с самовольными поселенцами. Чтобы заставить их уйти из станов, светские власти действовали не только методом уговоров и угроз: в отношении наиболее упорных поселенцев возбуждались судебные дела, в отдельных случаях к ним применяли силу. Все эти действия чиновников раздражали руководителей епархии и православных миссионеров, считавших, что они противоречат поддерживаемой на государственном уровне политике христианизации калмыков. Духовные лица много раз высказывали Астраханским губернаторам тайному советнику Н.Н. Биппену (1868-1880 гг), генерал-лейтенанту Н. А. Протасову-Бахметьеву (1880-1882 гг), генерал-майору Е.О. Янковскому (1882-1883 гг.) и генерал-майору Н.М. Е[еймерну (1884-1888 гг), как и Главным попечителям калмыцкого народа статскому советнику А.Г. Кандибе (1875-1881 гг), действительному статскому советнику Н.О. Осипову (1882-1886 гг.) и действительному статскому советнику И.С. Картелю (1887-1892 гг.) свое недовольство политикой местных гражданских властей, жало- 12
вались на равнодушное отношение губернских чиновников к делу миссии, большинство из которых по вероисповеданию были православными.
Астраханских губернаторов и Главных попечителей калмыцкого народа обращения православных миссионеров ставили в весьма щекотливое положение: легализовать самовольных поселенцев стана, как о том просили миссионеры, они не имели права, отказ же помочь миссии мог быть расценен как несогласие с политикой христианизации. В 1883 г. Главный попечитель калмыцкого народа, действительный статский советник Осипов подготовил попечителям улусов циркуляр, который был представлен на рассмотрение епископу Астраханскому и Енотаевскому Евгению (Н. Шерешилов) и Астраханскому епархиальному комитету. В нем говорилось, что улусные попечители должны более внимательно относиться к ходатайствам крещеных калмыков о поселении с ними русских людей, и что «прежде чем отказывать им в просьбе, надо изыскивать пути другие для осуществления их просьб»18.
Русские поселенцы получили право проживать в миссионерском стане Наин-Шиир после того, как император Александр III 17 апреля 1892 г. утвердил положение Комитета министров о легализации всех самовольных переселенцев и поселков в Калмыцкой степи. Это решение, однако, не распространялось на тех переселенцев, которые незаконно поселились на калмыцких землях после 17 апреля 1892 г. В Наин-Шиирском стане под действие положения попали 29 русских семей (280 человек), несколько позже крещеные калмыки согласились принять еще четыре крестьянские семьи, и общее количество легализованных возросло до 33 семей19.
Приток самовольных переселенцев происходил и в миссионерском стане Калмыцкой степи Астраханской губернии - Кегульте. Его основали, принявшие в 1895-1903 гг. крещение 200 калмыков, для которых, согласно их просьбе, в 1901 г. отвели землю, а в 1907 г. открыли миссионерский стан. Иногородние крестьяне появились в нем после отвода земли крещеным калмыкам и, очевидно, по их приглашению. Русские помогали калмыкам наладить оседлый быт, обучали их земледельческим занятиям и постепенно обустраивались, в надежде прописаться в калмыцкое общество. В 1909 г. их насчитывалось в стане уже 211 человек, в то время как калмыков -129 человек20.
В Ставропольской губернии христианизацией калмыков занималось Братство им. Андрея Первозванного. 13-14 мая 1889 г. епископ Ставропольский и Екатеринодарский Владимир (И.П. Петров) лично крестил в Большедербетовском улусе 14 калмыцких семей (52 человек), для которых по его инициативе в следующем году отвели место под поселение, назвав его в честь святого князя Михаила Тверского - «Князе-Михайловским»21. По словам православного миссионера и ученого-этнографа, прослужившего в Большедербе- товском улусе более пяти лет (1889-1894 гг.; вначале в должности псаломщика Князя-Михайловского стана, затем учителя церковноприходской школы и помощника попечителя улуса) Я.П. Дубровы, весть о создании поселения вызвала «настоящее волнение» среди крестьян, которые сотнями, а в 1891 г. и тысячами, начали прибывать в Большедербетовский улус и осаждать местную администрацию просьбами поселиться в стане22. Чтобы получить разрешение на поселение в стане, они предлагали самые разные услуги. «Иные из пришельцев, - пишет Дуброва, - просили принять их за обязательство всю жизнь служить даром сторожами при церкви; другие - церковными старостами; те - безвозмездно обучать калмыков огородничеству, земледелию, мастерствам... были и такие, что соглашались даром кормить вдов, сирот; хотели жениться на калмычках или же отдавать своих дочерей за выкрестов»23.
Улусной администрации и губернским властям удавалось сдерживать массовый натиск переселенцев, однако некоторым из них все же удалось просочиться в стан. В 1904 г. из 191его жителей 152 человек являлись крещеными калмыками и 39 русскими24. По видимому, появление русских в стане не обошлось без помощи иеромонаха Мефодия, возглавлявшего Князе-Михайловский миссионерский стан в 1893-1896 гг. На его причастность к этому событию, во всяком случае, намекает в своей книге Дуброва: «И пусть извинит меня миссионер Князе-Михайловского поселка иеромонах Мефодий за невольный с моей стороны упрек по его адресу за то, что он, не имея на то ни малейшего права и основания, решился смутить некоторых крестьян, подав им надежду, даже уверенность в осуществлении несбыточной мечты о причислении их к Князе-Михайлов-скому поселку»25.
Для русского населения миссионерских станов перелом в положительную сторону наступил в начале XX в. В его первое десятилетие численность русских, несмотря на запрещение селиться в миссионерских станах, продолжала возрастать и вскоре превысила численность крещеных калмыков. На рубеже 1900-х - 1910-х гг. в трех миссионерских станах Астраханской губернии (Наин-Шиир, Чилгир, Кегульта) проживали 874 человек русских и 700 человек крещеных калмыков, при этом во всех из них русские составляли более половины населения26. В Улан-Эргинском стане насчитывалось 939 жителей; из них 927 русских и 12 крещеных калмыков, но здесь надо учитывать тот факт, что этот стан создавался на базе изначально не предназначенного для миссионерских целей русского поселения и русские в нем всегда доминировали и в абсолютных и в относительных цифрах.
Русское население преобладало также в Князе-Михайловском миссионерском стане Ставропольской губернии: в 1912 г. из 366 его жителей 160 человек были крещеными калмыками и 266 русскими27. В 1913 г. ставропольские губернские власти разрешили рус- 14
ским остаться в стане, однако к обществу крещеных калмыков их так и не приписали. Тем не менее, русские из стана не ушли, надеясь когда-нибудь получить в нем прописку
Во втором десятилетии XX в. русское население миссионерских станов продолжало увеличиваться за счет притока новых поселенцев и высокой рождаемости. В апреле 1910 г. министр внутренних дел П.А. Столыпин распространил на калмыков действие циркуляра № 24 МВД от 17 марта 1910 г. о праве инородцев самостоятельно решать вопросы о приеме в свои общества посторонних лиц28. После этого процедура принятия русских в станы облегчилась, хотя крещеные калмыки все чаще стали задумываться об отрицательных последствиях приема большого количества русских крестьян и более избирательно подходить к выдаче им положительных приговоров.
В период с 1909 по 1915 гг. численность русских в миссионерских станах Калмыцкой степи Астраханской губернии (Наин-Шиир, Чилгир, Кегульта) возросла с 847 до 1 067 человек, а калмыков - с 700 до 707 человек29, то есть почти не изменилась, несмотря на то, что у крещеных калмыков все это время сохранялся естественный прирост и имели место случаи принятия христианства. В Князе-Михайловском миссионерском стане Ставропольской губернии численность русских за период 1911-1914 гг. увеличилась со 142 до 298 человек, в то время как калмыков сократилась со 166 до 133 человек30.
Получив равные с крещеными калмыками права и став доминирующей по численности группой, переселенцы быстро заняли господствующие позиции в экономике, а крещеные калмыки попали в зависимость от них. «Результатом преобладания русских явилось стеснение инородцев - явление столь обычное для многих православных миссий»,31 - отмечал в 1915 г. миссионер Иринарх (Маслов). В отчете Астраханского епархиального комитета за 1914 г. говорилось, что в Наин-Шиирском миссионерском стане «население, независимо от прироста, увеличивается путем самовольного наплыва русских, и все попытки к предотвращению такового, ни к чему не привели и они продолжают селиться, кто где хочет, покупая турлуш-ки у крещеных калмыков за дорогие цены, так как для иногородних Наин-Шиир является заманчивым уголком», и, что положение крещеных калмыков изменилось в худшую сторону, поскольку «из господствующего положения теперь они занимают угнетенное положение, и, как менее культурные... подпали под влияние русских»32.
Переселенцы не оправдали возлагавшихся на них православной миссией надежд: крещеные калмыки не перешли к земледелию, оставшись в массе своей скотоводами, более того, сами крестьяне основной отраслью своих хозяйств сделали скотоводство. Очень трудно давалось калмыкам усвоение навыков оседлого образа жизни, они не смогли и улучшить свое материальное положение, которое было хуже, чем у кочующих калмыков-буддистов. Наплыв переселенцев привел также к сокращению земельного фонда станов: в середине второго десятилетия XX в. калмыки Чилгирского и Наин-Шиирского станов имели на 1 мужскую душу по 30-33 дес., в то время как их кочующие сородичи - по 116-118 дес. Русские не оказали сколько-нибудь заметного влияния на процесс усвоения калмыками православной веры, восприятие которой, как и раньше оставалось поверхностным. В целом, наверное, можно согласиться с мнением миссионера Иринарха, что «допущенный администрацией прирост населения в среду крещеных калмыков, с надеждою культивирования их, привел к результатам, идущим вразрез интересов миссии»33. К 1917 г. миссионерские станы вследствие резкого увеличения численности русского населения и оттока крещеных калмыков в значительной степени утратили свой миссионерских облик, и постепенно превращались в обычные приходы РПЦ.
* * *
Исторический опыт христианизации калмыков показывает, что губернским властям и РПЦ не удалось при помощи миссионерских станов создать из крещеных калмыков устойчивую и способную к саморазвитию этно-конфессиональную группу. Учреждением миссионерских станов светские и духовные власти намеревались решить несколько задач: укрепить новообращенных в православной вере и установить над ними более действенный надзор, изолировать их от влияния буддизма, приучить к оседлому образу жизни и занятию земледелием, создать непосредственно на территории калмыцких кочевий сеть миссионерских станов, которые призваны были стать форпостами христианизации калмыков.
Поселение русских в миссионерских станах не планировалось, однако оно оказалось востребовано самой жизнью. Будучи носителями стационарной поселенческой культуры, русские оказались тем цементирующим ядром, благодаря которому стало возможным не только существование, но и поступательное развитие миссионерских станов как населенных пунктов.
Вместе с тем русские поселенцы не оправдали надежд православного миссионерства в плане приобщения калмыков к христианству, оседлой жизни и занятию земледелием. Более того, они, став преобладающей по численности этнической группой и утвердившись в станах, заняли в них ключевые позиции в экономике и общественной жизни, что в значительной степени спровоцировало исход калмыков из миссионерских станов, который начался в начале XX в.
Таким образом, поселение русских в миссионерских станах, в конечном счете, не принесло положительных результатов в деле христианизации калмыков.
Российское правительство поддерживало деятельность РПЦ по христианизации нерусских народов, поскольку она соответствовала государственному курсу на интеграцию народов России в русское 16
социокультурное пространство, однако в Калмыкии данная политика вошла в противоречие с действовавшим в то время законодательством, которое запрещало поселение на калмыцких землях лиц некалмыцкого происхождения. Следуя закону, светские власти запрещали русским селиться в миссионерских станах, а тех, кто там уже поселился, стремились заставить выселиться за пределы калмыцких земель. Эффективность этих действий во многом зависела от личностных качеств руководителей губернской и калмыцкой администрации, и в первую очередь, от степени их религиозности. В большинстве случаев в губернском аппарате работали чиновники, равнодушные к православному миссионерству, которые в своей деятельности старались не выходить за рамки своих прямых служебных обязанностей.
Руководство РПЦ, наоборот, как могло, поддерживало русских поселенцев, рассчитывая с их помощью решить многие задачи православного миссионерства. Отношение к ним изменилось в худшую сторону в начале 1910-х гг, когда интересы христианизации вошли в противоречие с процессом резкого увеличения численности русского населения, приведшем в итоге к уходу крещеных калмыков из станов.
Русский фактор был важным фактором, но не причиной оттока крещеных калмыков из станов и возвращения многих из них в лоно буддизма
На наш взгляд, главная причина неудачи поселения крещеных калмыков и вообще христианизации заключалась в том, что властям не удалось создать в глазах калмыков привлекательный образ жизни в станах. Принятием христианства и переходом на оседлый образ жизни калмыки надеялись поправить свое материальное положение и зажить более обеспеченной жизнью, чем их сородичи-кочевники, однако эти ожидания не оправдались. Необходимо также учитывать и тот факт, что предоставляемые крещеным калмыкам льготы по налогообложению и повинностям носили в основном временный характер. После завершения переходного периода крещеные калмыки должны были поступить в разряд крестьян и принять на себя все положенные данному сословию налоги и повинности, которые были тяжелее по сравнению с кочевниками. Для примера укажем, что на кочевников не распространялась воинская повинность, они не платили поземельный и подушный налоги и прочие.
В числе причин неуспеха православного миссионерства среди калмыков назовем также недостаточное финансирование православных миссий и отсутствие системности в действиях властей по христианизации. Государственная власть, хотя и поддерживала политику христианизации, но необходимых денег на ее проведение не выделяло, основную часть материальных средств на поддержку миссии РПЦ должна была изыскивать из своих источников. Отметим также то, что ни у светских, ни у духовных властей не было ни продуманного плана, ни отработанной системы по проведению политики христианизации в Калмыцкой степи.
Список литературы Русские переселенцы на калмыцкие земли и их использование Русской Православной Церковью как средства христианизации калмыков (последняя треть XIX - начало XX веков)
- Дорджиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии: Опыт анализа религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII - начало XX вв.). Элиста, 1995.
- Орлова К.В. История христианизации калмыков: Середина XVII - начало XX в. Москва, 2006.
- Khodarkovsky M. "Not by Word Alone": Missionary Policies and Religious Conversion in Early Modern Russia // Comparative Studies in Society and History. 1996. Vol. 38. № 2. P. 267-293.
- Орлова К.В. История христианизации калмыков: Середина XVII - начало XX в. Москва, 2006. С. 100.
- Государственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 597. Оп. 1. Д. 61.Л. 12.
- Отчет Астраханского православного епархиального миссионерского общества за 1884 г. // Астраханские епархиальные ведомости. 1885. № 7. С.113.
- Там же. С. 114.
- Национальный архив Республики Калмыкия (НАРК). Ф. И-9. Оп. 5. Д. 615.Л. 147-148.
- ГААО. Ф. 597. Оп. 1. Д. 61. Л. 13об.
- ГААО. Ф. 597. Оп. 1. Д. 213. Л. 3.
- Извлечение из путевого журнала миссионера, иеромонаха Гавриила // Астраханские епархиальные ведомости. 1877. № 32. С. 14.
- ГААО. Ф. 597. Оп. 1. Д. 94. Л. 3.
- Там же. Л. 3об.
- Там же. Л. 4.
- Саввинский И.И. О деятельности Астраханского епархиального комитета по распространению христианства среди калмыков и киргизов за все время его существования (1871 - 1909 гг.) // Астраханские епархиальные ведомости. 1910. № 19. С. 696.
- Отчет Астраханского православного епархиального миссионерского общества за 1885 год. Астрахань, 1886. С. 3.
- Отчет Астраханского православного епархиального миссионерского общества за 1884 г. // Астраханские епархиальные ведомости. 1885. № 7. С. 114.
- Отчет Астраханского православного епархиального миссионерского общества за 1883 г. // Астраханские епархиальные ведомости. 1884. № 8. С. 135.
- Белоусов С.С. Поселение начиналось с церкви: Село Воробьевка (Бислюрта), 1877 - 1917. Москва, 1998. С. 19.
- Саввинский И.И. О деятельности Астраханского епархиального комитета по распространению христианства среди калмыков и киргизов за все время его существования (1871 - 1909 гг.) // Астраханские епархиальные ведомости. 1910. № 20. С. 724.
- Мефодий (Львовский Н.В.) Князе-Михайловский миссионерский стан Ставропольской епархии. Казань, 1906. С. 4.
- 22ДуброваЯ.П. Быт калмыков Ставропольской губернии. Элиста, 1998. С. 35.
- Там же. С. 38.
- НАРК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 186. Л. 204.
- Дуброва Я.П. Указ. соч. С. 38.
- Саввинский И.И. О деятельности Астраханского епархиального комитета по распространению христианства среди калмыков и киргизов за все время его существования (1871 - 1909 гг.) // Астраханские епархиальные ведомости. 1910. № 19. С. 682, 691; № 20. С. 724.
- НАРК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 314. Л. 24.
- НАРК. Ф. И-9. Оп. 4. Д. 1771. Л. 98
- Иринарх. Несколько слов о рациональной постановке инородческой миссии среди калмыков-ламаитов Астраханской губернии // Астраханские епархиальные ведомости. 1915. № 35-36. С. 809.
- НАРК. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 282. Л. 196.
- Иринарх. Несколько слов о рациональной постановке инородческой миссии среди калмыков-ламаитов Астраханской губернии // Астраханские епархиальные ведомости. 1915. № 35-36. С. 809.
- Отчет о деятельности Астраханского епархиального комитета Православного миссионерского комитета за 1914 год. Астрахань, 1915. С. 9.
- Иринарх. Несколько слов о рациональной постановке инородческой миссии среди калмыков-ламаитов Астраханской губернии // Астраханские епархиальные ведомости. 1915. № 35-36. С. 810.