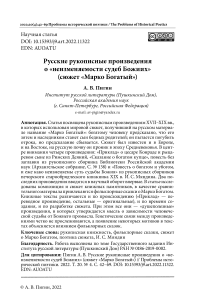Русские рукописные произведения о "неизменяемости судеб Божиих" (сюжет "Марко Богатый")
Автор: Пигин Александр Валерьевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рукописным произведениям XVII-XIX вв., в которых использован мировой сюжет, получивший на русском материале название «Марко Богатый»: богатому человеку предсказано, что его зятем и наследником станет сын бедных родителей; он пытается погубить отрока, но предсказание сбывается. Сюжет был известен и в Европе, и на Востоке, на русскую почву он проник в эпоху Средневековья. В центре внимания четыре произведения: «Приклад» о цесаре Конраде и рыцаревом сыне из Римских Деяний, «Сказание о богатом купце», повесть без заглавия из рукописного сборника Библиотеки Российской академии наук (Архангельское собрание, С. № 138) и «Повесть о богатом и убогом, и еже како неизменяемы суть судьбы Божия» из рукописных сборников печорского старообрядческого книжника XIX в. И. С. Мяндина. Два последних произведения вводятся в научный оборот впервые. В статье исследованы композиция и сюжет книжных памятников, в качестве сравнительного материала привлекаются фольклорные сказки о Марко Богатом. Книжные тексты различаются и по происхождению («Приклад» - переводное произведение, остальные - оригинальные), и по времени создания, и по разработке сюжета. При этом все они - «душеполезные» произведения, в которых утверждается мысль о зависимости человеческой судьбы от Божиего промысла. Генетические связи между произведениями четко не прослеживаются, а появление некоторых мотивов в текстах объясняется влиянием фольклорных сказок.
Рукописная книжность, фольклорные сказки, сюжет о марко богатом, поэтика сюжета, и. с. мяндин
Короткий адрес: https://sciup.org/147238886
IDR: 147238886 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11322
Текст научной статьи Русские рукописные произведения о "неизменяемости судеб Божиих" (сюжет "Марко Богатый")
В широко распространенном у многих народов легендарно-сказочном сюжете «Марко Богатый»1 (ATU 461, 930;
СУС 461=930) разрабатывается популярная в мировой словесности тема предопределения человеческой судьбы. Богатому человеку Марко (Онике, безымянному купцу, барину, царю и т. д.) предсказано, что сын нищих родителей женится на его дочери и завладеет всем его имуществом; Марко пытается погубить ребенка и тем самым перехитрить судьбу, но предсказание сбывается, а сам Марко погибает или становится вечным перевозчиком на реке. Известный как в устных, так и литературных вариантах на Востоке и на Западе сюжет еще в эпоху Cредневековья проник на русскую почву, где получил сугубо христианское осмысление, суть которого в том, что невозможно противиться «неизменяемым судьбам Божиим».
Изучение сюжета о Марко Богатом заключалось главным образом в обзоре и сравнении его вариантов в словесности разных народов и попытках определить его генезис и пути миграции. Один из первых российских исследователей сюжета Н. Ф. Сумцов указал на древнейшую его фиксацию в индийской повести VI в., которая «получила популярность на мусульманском Востоке, была даже приурочена к личности Магомета и затем с Востока многими путями пошла в Европу, где получила самостоятельную разработку, в западной Европе — в виде чрезвычайно популярной легенды, в восточной — преимущественно в виде народной сказки» [Сумцов, № 1 (кн. 20): 25]. А. Н. Веселовский рассмотрел русскую сказку о Марко Богатом в ряду европейских и восточных «фаталистических рассказов», восходящих к византийским преданиям об императоре Константине [Веселовский: 96–141]. Г. Н. Потанин исследовал монгольскую и тибетскую легенды в сопоставлении с русской сказкой о Марко [Потанин, 1895, 1899: 466–508].
На материале собственно славянских фольклорных сказок (восточнославя нских, в том числе сибирских, и южнославянских)
сюжет о Марко Богатом изучала В. С. Кузнецова [Кузнецова, 2016, 2017, 2019a, 2019b]. Она выделила два типа начального эпизода сказки: 1) Марко изгоняет Христа, пришедшего к нему в образе нищего, и затем узнает о своей судьбе; 2) Марко слышит то же предсказание от Христа или от кого-то из небожителей, находясь на ночлеге в чужом доме. Основная часть сюжета также представлена двумя разновидностями: 1) «от судьбы не уйдешь» — ряд попыток Марко извести своего наследника (оставить на смерть в лесу, в море, дать соответствующее поручение в письме, сжечь на заводе, в яме и т. д.), заканчивающихся гибелью самого Марко; 2) путешествие юноши по повелению Марко к Змею (Идолищу, людоеду и т. п.) за данью, во время которого происходят чудесные встречи и опросы — в финале Марко навсегда остается перевозчиком через реку. Причем для южнославянских вариантов сюжета зачин «Марко изгоняет Христа» и рассказ о путешествии к Змею не характерны, они встречаются только в записях, сделанных у восточных славян, и являются «поздними наращениями» [Кузнецова, 2019b: 110]2. Более ранней формой славянских повествований о Марко Богатом В. С. Кузнецова считает сочетание начального эпизода «Марко на ночлеге» и набора эпизодов сюжетной разновидности «от судьбы не уйдешь».
В русской традиции этот сюжет известен не только по фольклорным сказкам, но и по литературным произведениям.
Из этого ряда следует сразу исключить произведения, которые совпадают с анализируемым сюжетом лишь в некоторых мотивах. Так, Н. Ф. Сумцов склонен был, по-видимому, считать полноценным литературным воплощением сюжета древнерусское «Слово от Патерика, яко не достоит от церкви идти, егда поют», кот орое читается в Прологе (30 апреля) и Измарагде3.
Некий благочестивый юноша служил у знатного вельможи и однажды увидел, как жена хозяина изменяла ему со слугой. Чтобы скрыть свой грех, госпожа решила погубить юношу и оговорила его перед мужем. Юноше дали «убрус» (полотенце) и отправили к «мечнику», которому повелели отсечь голову тому, кто придет с «убрусом». Однако по пути юноша зашел в церковь и отстоял всю службу. В итоге «убрус» отнес любовник госпожи, который и был казнен, праведный же юноша «соблюденъ <…> бысть от смерти»4. С сюжетом «Марко Богатый» этот рассказ роднит мотив чудесного избавления от смерти; встречается в некоторых вариантах и рассказ о спасении героя благодаря посещению церкви. Сходство этих текстов (произведений на сюжет «Марко Богатый» и легенды из Измарагда и Пролога), как увидим в дальнейшем, осознавалось древнерусскими книжниками. Однако в «Слове…» отсутствуют мотивы предсказания судьбы и попыток его преодоления — то, что составляет основу сюжета о Марко. Сказка о Марко Богатом относится к древним «бродячим» сюжетам, она разошлась во множестве вариантов, поэтому нет ничего удивительного в том, что отдельные ее мотивы находят параллели в других произведениях («Слово о некоем игумене, егоже искуси Христос во образе нищаго» из Пролога (18 октября), сочинения о царе Соломоне, песни о гневе Ивана Грозного на сына и т. д.).
К настоящему времени исследованы и опубликованы два рукописных произведения, в которых использован данный сюжет: одно из них переводное — «Приклад, яко прозрению Божию никто противитися может» (о цесаре Конраде и ры-царевом сыне) из Римских Деяний, другое русское — «Сказание о богатом купце».
Латинский сборник повестей Римские Деяния (Gesta Ro-manorum) был переведен на русский язык с польского в последней трети XVII в. (после 1663 г., когда увидело свет не дошедшее до нас краковское издание памятника, послужившее основой для перевода). Составленный в Англии на латинском языке, по-видимому, не позднее XIII в., он включает переработки античных сюжетов, жития святых, псевдоисторические рассказы о римских императорах (этим объясняется название сборника), легендарные и сказочные повести (в русском переводе — около 40 текстов) [Ромодановская, 1998]. Наличие «выкладов» (толкований), завершающих тексты и трактующих их в религиозно-дидактическом ключе, придает сборнику «душеполезный» характер. Текстологическое исследование древнерусского сборника было осуществлено Е. К. Ромодановской [Ромодановская, 2009], однако различия между редакциями для нашей темы не имеют большого значения, поскольку текст «Приклада» о цесаре Конраде достаточно стабилен5. В Gesta Ro-manorum текст был включен из хроники Готфрида фон Витербо (XII в.) [Веселовский: 133–135], [Ромодановская, 2009: 184–185].
«Приклад» о цесаре Конраде содержит все основные мотивы сюжета «Марко Богатый», на что уже обращали внимание исследователи: «1) Граф Леопольд, боясь гнева императора Конрада, бежит в лес и живет там в шалаше. 2) После охоты император случайно попадает к нему в дом. 3) Жена Леопольда рожает сына (Генрика. — А. П.), а император трижды слышит глас с неба, что этот ребенок будет его зятем и наследником престола. 4) Император приказывает убить младенца и принести его сердце. 5) Слуги, пожалев, уносят ребенка в лес, а императору приносят сердце зайца. 6) Проходящий мимо герцог находит мальчика и усыновляет. 7) Узнавший мальчика император посылает его к жене с письмом и приказом убить. 8) По пути мальчик ночует в доме священника, который подменяет письмо. 9) Дочь короля отдана замуж за юношу» [Ромодановская, 2009: 184–185]. Уникальность этой версии сюжета заключается в том, что «Марко» (цесарь Конрад) не погибает в конце повести, но смиряется с Божией волей: «…послал по онаго юношу и подтвердил его быть зятем своим и потом уставил, чтобы по нем и на цесарство его посажен был и все государствовал» [Ромодановская, 2009: 344]. Соответственно, и пророчество в начале текста не содержит известия о его гибели: «Утекай, утекай, ибо сие первородное будет зять тебе» [Ромодановская, 2009: 343]. Так выражается нравоучительный смысл этой повести, поскольку главная ее цель — в доказательстве мысли, «яко прозрению Божию никто противи-тися может».
«Сказание о богатом купце» — русское сочинение, введенное в научный оборот О. А. Белобровой [Белоброва]. Оно известно сейчас в единственном списке, который входит в состав рукописного сборника второй четверти — середины XVIII в., включающего разнообразный литературный материал (апокрифы, повести, обработки былин и т. д.) (РГБ, собр. Тихонравова (ф. 299), № 361)6. В роли Марко здесь выступает богатый купец Бендер из «града Вавилона», которому изгнанный из его дома Христос предрекает страшную участь: дочь купца выйдет замуж за некоего Фиврана, сына нищих родителей из «града Фантифона», к которому перейдет все богатство Бендера, а сам купец «зле погибнет». Как и в «Слове…» из Измарагда и Пролога (30 апреля), во время последнего испытания юноша спасается благодаря тому, что слушает в церкви литургию. Но в отличие от большинства вариантов сюжета о Марко Богатом, на дочери купца он женится уже после гибели последнего. Эта перестановка объясняется тем, что в «Сказании» оказался опущен фрагмент с письмом купца жене. Получается, что об исполнении предсказаний Христа купец так и не узнает, что несколько ослабляет нравственный смысл текста. О. А. Белоброва датировала это произведение концом XVII — началом XVIII в. и сделала основной акцент на сопоставлении его текста с различными вариантами сказки о Марко Богатом, отметив их сходства и различия. К числу последних относится, по ее наблюдению, заморская экзотика «Сказания» — в сказках же отчетливо проступают реалии российской действительности. «Приклад» о цесаре Конраде О. А. Белоброва не привлекала к анализу и генезис «Сказания» выводила из фольклорносказочного материала, но отметила при этом некоторые общие черты текста с другими повестями петровского времени.
Позднее проблема взаимосвязи «Приклада» из Римских Деяний, «Сказания», фольклорных сказок и легенд из Пролога привлекла внимание Е. К. Ромодановской. Исследовательница предположила, что одним из источников «Сказания» являлся «Приклад» и что «Сказание» могло сыграть «роль своеобразного промежуточного этапа между переводной повестью ("Прикладом". — А. П. ) и ее фольклорным устным переложением. В таком случае не Сказание создавалось на основе русских сказок, а сказки типа "Марко Богатого" имели своим источником книжную повесть» [Ромодановская, 1979: 172]. При этом, по утверждению Е. К. Ромодановской, «это предположение в настоящий момент надо считать лишь чисто рабочей гипотезой, поскольку окончательно решить этот вопрос, как и вопрос о взаимоотношении русского Сказания и переводной повести, невозможно без привлечения всех сходных памятников и специальной текстологической работы» [Ромодановская, 1979: 172]7.
К этой интересной проблеме соотношения устных и книжных вариантов сюжета мы еще вернемся. Но прежде представим новые источники — две рукописные повести, которые до сих пор не становились объектом изучения в связи с сюжетом «Марко Богатый».
Одна из них, более ранняя, входит в состав объемного сборника рубежа XVII–XVIII вв. из библиотеки архиепископа Афанасия Холмогорского (БАН, Архангельское собрание, С. № 138, л. 327 об. — 328 об., всего 428 листов, формат «в лист»). Составители описания сборника отметили, что «рукопись предполагалось сформировать как собрание расположенных по алфавиту выписок из памятников нравоучительных, церков ных, церковно исторических, исторических и литературных»8.
Под буквой «Ц» в сборнике, между «Повестью о видении некоему мужу духовну» и статьями о «чаровниках», находится небольшая повесть без заглавия, начинающаяся словами: «Бѣ нѣкий купецъ богатъ сый велми…» (далее — Повесть-1). Размещение этой повести под буквой «Ц» и в таком окружении не вполне ясно. Очевидно, это один из отмеченных в описании сборника случаев нарушения алфавитного порядка, когда под той или иной буквой содержатся тексты, не относящиеся к ней (по первому слову, по именам и т. д.)9.
В Повести-1 воспроизводятся все основные эпизоды сюжета «Марко Богатый»: купец узнает о предсказании, находясь на ночлеге в доме убогого человека, у которого появляется на свет сын, он трижды пытается убить отрока, но сам погибает в яме с огнем, которая была приготовлена для его зятя. Герои не имеют имен, отсутствуют в повести и географические названия. Действие разворачивается как исполнение Божией воли: предсказание купец получает от Бога, письмо с приказом погубить юношу заменяет ангел, в финале приводится цитата из Священного Писания: «И збыстся Писание: "Ровъ изры и ископа другу, и самъ впаде"» (ср.: Пс. 7:16; 56:7; Прит. 26:27; Еккл. 10:8). В повести содержится отсылка к «Слову от Патерика, яко не достоит от церкви идти, егда поют» из Пролога (30 апреля) и Измарагда: «Богу же милую-щу раба сего: якоже и благочестиваго сына от мечника избави , сице и сего незлобиваго». При этом ключевой мотив «Слова…», на который ссылается автор повести, — юноша слушает в храме литургию, и это спасает его от руки «мечника», — здесь отсутствует. Это обстоятельство не позволяет рассматривать «Слово…» как источник повести, но свидетельствует о том, что автор прекрасно осознавал близость двух историй.
Еще одно литературное произведение на интересующий нас сюжет является наиболее поздним из известных сегодня в русской рукописной книжности — «Повѣсть о богатом и убогом, и еже како неизмѣняемы суть судьбы Божия» (далее — Повесть-2) (вторая половина XIX в.). Эта повесть входит в состав двух сборников известного печорского старообрядческого книжника Ивана Степановича Мяндина (1823–1894): ИРЛИ, Усть-Цилемско е собрание, № 67 и № 70 (далее: УЦ-67 и УЦ-70).
Творчество И. С. Мяндина хорошо изучено, его перу принадлежат многочисленные переработки древнерусских произведений; некоторые из них исследованы и опубликованы10. Более ранним является список УЦ-67 (сборник составлен до 1875 г.) — его мы и будем рассматривать в дальнейшем. УЦ-70 датируется 1882 г. и содержит более позднюю переработку текста из УЦ-67, но сравнение этих двух списков не входит в задачи настоящей статьи11.
В описании усть-цилемских рукописных сборников В. И. Малышев ошибочно отметил, что эта повесть входит в состав Великого Зерцала, причем для двух списков он указал разные тексты из этого сборника (№ 56 и 61 из Приложения 3 в книге П. В. Владимирова [Владимиров. Приложение 3: 63])12 (см.: [Малышев: 117, 120]). В действительности в Великом Зерцале нет этого произведения, а под указанными В. И. Малышевым номерами в нем находятся совсем другие повести. Ошибку В. И. Малышева заметила Е. К. Ромодановская, которая к тому же верно определила, что эта повесть имеет «сходный сюжет» со «Сказанием о богатом купце» и «Прикладом» из Римских Деяний, но специально рассматривать повесть она не стала [Ромодановская, 1979: 172 (примеч. 37)]. Повесть упомянула и Н. А. Карманова, изучавшая мяндинские редакции повестей из Великого Зерцала; она отнесла ее к Великому Зерцалу «гипотетически», не найдя в самом сборнике Великое Зерцало, но и не решившись при этом поставить под сомнение ссылку В. И. Малышева [Карманова: 91]. Поскольку обнаружить повесть в Великом Зерцале исследовательница не смогла, в дальнейшем она это произведение не рассматривала.
Повесть-2 передает сюжет «Марко Богатый» в целом по той же схеме, что и Повесть-1. Безымянный купец, находясь на ночлеге в доме убогого человека, подслушивает диалог Христа и некоего небожителя, из которого узнает об уготованной ему участи, три раза он пытается погубить отрока: оставляет младенца в снегу, посылает письмо жене и начальнику солеваренного завода (письмо подменяется), приказывает бросить юношу в печь на заводе, но оказывается в ней сам.
Более подробно, по сравнению с ранее рассмотренными произведениями, в этой повести разработан образ жены купца. Если в других текстах ее человеческие качества скрыты, то здесь она изображается «нищелюбивой» и «смиренномудрой»: «…всегда творяше милостыню и помогаше бѣднымъ, обаче втай от мужа своего». В повести использован агиографический мотив: жена была «неплодной», молилась Богу, и «услыша Богъ молитву благочестивой жены, и абие зачатъ и бѣ непразд-на»13. Соответственно, и дочь, родившаяся, подобно святым, после молитв «неплодной» матери, не уступает ей в благочестии. Именно она спасает своего мужа от гибели, призывая его «по-молитися святымъ иконам для того, что Господь избавилъ его в той день от смерти»: по этой причине юноша не приходит вовремя к месту своей казни (трансформация мотива «пребывание в церкви во время литургии»). Соответственно, и известие о спасении юноши и о возмездии нечестивому купцу мать и дочь воспринимают с радостью: «И они, слыша сие с радостию, Бога благодарили, что ихъ Господь избавилъ от такого лукаваго и немилостиваго господина, а добраго и милостиваго зятя далъ имъ наслѣдником». Отрок также наделяется исключительно положительными качествами («отроча красно и премудро зѣло», «зряще отрока благовидна, красна и разумна» и т. д.); на том месте, куда его — новорожденного — бросает в снег купец, возгорается «огнь, яко от пещи». Психологически убедительной является следующая деталь: жена купца «не смѣюще ослушатися» своего мужа, «вѣдяще его нравъ». Эмоции персонажей — удивление, радость, страх — описаны и в других случаях («Купецъ <…> абие бысть яко изумленъ и надолзѣ стоя забывся» и др.). Убогий человек обнищал, как уточняется в повести, не из-за лености, а из-за большого числа детей. Этот психологизм, разработку характеров (конечно, в эмбриональной форме) и включение бытовых подробностей заманчиво приписать творческой инициативе И. С. Мяндина14, но, к сожалению, мы не знаем, какой текст послужил для него источником.
Содержание всех четырех рассмотренных произведений для удобства сравнения можно представить в таблице:
|
Памятники Содержание |
«Приклад» из Римских Деяний15 |
«Сказание» (Тихонр.-361) |
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
|
Заглавие |
«Приклад, яко прозрению Божию никто про-тивитися может» |
«Сказание о богатом купце» |
Нет |
«Повѣсть о богатом и убогом, и еже како неизмѣняемы суть судьбы Божия» |
|
Персонажи: «Марко» игонимый юноша. |
Цесарь Конрад и сын рыцаря Леопольда Генрик. |
Купец Бендер в Вавилоне и сын нищих родителей Фивран в городе Фантифоне. |
Купец и сын земледельца (имен нет). |
Купец и сын убогого (имен нет). |
|
«Марко» узнает о своей судьбе. |
На ночлеге в лесном доме после охоты цесарь слышит «глас» во сне. |
Купец изгоняет из своего дома Христа, приняв его за нищего, после этого узнает освоей судьбе из разговора Христа с ангелом. |
На ночлеге у земледельца купец слышит «глас от Бога». |
На ночлеге в доме убогого купец узнает освоей судьбе из разговора Христа, пришедшего в этот же дом, с неким небожителем. |
|
Памятники Содержание |
«Приклад» из Римских Деяний |
«Сказание» (Тихонр.-361) |
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
|
Первая попытка погубить юношу (младенца). |
Цесарь приказывает слугам забрать ребенка у матери и принести его сердце. Слуги приносят сердце зайца, а ребенка оставляют на дереве. Некий рыцарь находит ребенка и воспитывает его как сына. |
Купец покупает ребенка у родителей. Во время путешествия по морю приплывает к монастырю, приказывает поварам вынуть сердце ребенка и приготовить из него еду. Повара приносят сердце щенка, а ребенка отдают «искусной жене для бережения» в монастыре. |
Купец покупает ребенка у его отца-земледельца, приказывает слуге отнести ребенка в лес и отрезать ему голову. Слуга оставляет ребенка на дереве, а сам обрезает себе руку «ради знаку кроваваго», «бутто за-рѣзалъ» младенца. Охотники находят младенца и приносят к царю, который приказывает его воспитать. |
Купец покупает ребенка у его отца и бросает его в снег, «мразу зѣло люту бывшу». Ребенка находит игумен, привозит его в свой монастырь и обучает книгам. |
|
Памятники Содержание |
«Приклад» из Римских Деяний |
«Сказание» (Тихонр.-361) |
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
|
Вторая попытка погубить юношу: письмо «Марко» жене. |
Цесарь забирает юношу к себе во двор, посылает его с письмом ксвоей жене. В письме— приказ погубить юношу. По пути юноша ночует возле церкви (костела), священник читает письмо и переписывает его: юношу должны женить на дочери цесаря. Жена цесаря исполняет этот приказ. |
Нет |
Купец узнает историю спасения юноши, уговаривает царя отдать юношу ему. Он отправляет юношу к своей жене с письмом. В письме — приказ погубить юношу. Ангел заменяет письмо другим, согласно которому за юношу нужно выдать дочь купца. Жена купца исполняет этот приказ. |
Купец уговаривает игумена отдать ему юношу на службу, отправляет юношу в свой дом с двумя письмами: одно — начальнику солеваренного завода, чтобы бросили юношу в котел, другое — жене с приказом отправить юношу на завод. Второе письмо по Божией воле заменяется приказом женить юношу на дочери купца. Приказ исполняется. |
|
Памятники Содержание |
«Приклад» из Римских Деяний |
«Сказание» (Тихонр.-361) |
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
|
Третья попытка погубить юношу. «Марко» сбрасывают в яму (печь) с огнем. «Кто яму другому копал, сам в нее попал». |
Нет |
Через 12 лет купец возвращается в монастырь, узнает историю спасения отрока и покупает его у монахов. Он нанимает работников, в облике которых являются ангелы, приказывает им вырыть яму и сжечь в ней юношу; отправляет юношу к работникам. По пути юноша останавливается в церкви. Купец отправляется проверить выполнение приказа, работники (ангелы) бросают его в яму с огнем. |
Купец возвращается домой и узнает, что юноша стал его зятем. Он повелевает слугам вырыть в лесу яму, разжечь в ней огонь и бросить в него юношу. Отрока опаивают вином и сонного отправляют в колеснице к яме. Слуги долго не могут разжечь огонь, юноша просыпается и убегает. Купец идет в лес проверить выполнение приказа, садится в колесницу, слуги принимают его за его зятя и сбрасывают в яму вместе с колесницей. |
Купец возвращается домой и узнает, что юноша стал его зятем. Он сговаривается сначальником завода, чтобы бросить юношу в печь, и отправляет юношу на завод. Но юноша задерживается в молении перед святыми иконами по настоянию своей жены. Купец отправляется на завод проверить выполнение приказа. Рабочие в темноте принимают его за юношу и бросают его в печь. |
|
Памятники Содержание |
«Приклад» из Римских Деяний |
«Сказание» (Тихонр.-361) |
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
|
Финал |
Кесарь постигает, что «прозрению Божию ничто может противиться», признает юношу своим зятем и наследником. |
Юноша женится на дочери купца и становится его наследником. |
Юноша становится наследником купца и благодарит за это Бога. |
Жена и дочь купца принимают известие о его гибели с радостью, потому что Господь избавил их от «неми-лостиваго господина, адобраго и милостиваго зятя далъ имъ наслѣдником». |
Сравнение произведений позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, можно гипотетически реконструировать инвариант сюжета о Марко Богатом, каким он представлен в русской рукописной книжности (левый столбец). Гипотетически — поскольку число найденных книжных вариантов все же невелико и нельзя исключить вероятности обнаружения других произведений. Вполне ожидаемо, что в нем нет сказочного путешествия героя к Змею с чудесными встречами и опросами. Все произведения представляют собой «душеполезные» тексты, в которых человеческая судьба поставлена в зависимость от Божиего промысла. Если принять, что этот инвариант включает три испытания — три попытки погубить юношу, то полный набор эпизодов содержат Повесть-1 и Повесть-2, а «Приклад» и «Сказание» передают сюжет в усеченном виде. Важно отметить, что все три испытания известны и фольклорным сказкам на этот сюжет, хотя комбинация их подвижна16. Отсутствие в «Прикладе» третьего испытания (кстати, хорошо известного европейской традиции) легко объяснить: нравственный смысл этого текста не в наказании грешника, а в его исправлении и смирении перед Божией волей. По этой причине третье испытание, заканчивающееся гибелью «Марко», здесь лишнее.
В «Сказании о богатом купце» отсутствует второе испытание — письмо купца жене, которое подменяется, после чего юноша женится на его дочери. В результате свадьба юноши и дочери купца происходит, как уже было отмечено, после гибели последнего, и об исполнении важной части пророчества купец так и не узнает. Эта особенность текста может свидетельствовать о «выпадении» на каком-то этапе его истории этого звена.
Существование некоего общего для анализируемых произведений инварианта сюжета не позволяет тем не менее установить взаимоотношения между ними. Сомнительной представляется гипотеза Е. К. Ромодановской о зависимости «Сказания» от «Приклада»: каждый из этих текстов содержит такие фрагменты, которые отсутствуют во втором, но зато известны по другим вариантам. Разными в «Прикладе» и «Сказании» являются зачины: «Марко на ночлеге» и «Христос в гостях у Марко». Радикально отличается и финальная часть текстов: смирение героя перед Богом в одном случае и возмездие — в другом. Следует отметить, что «оптимистическая» версия «Приклада» совершенно не характерна и для фольклорных вариантов сказки о Марко Богатом. Общий мотив двух сочинений содержится в первом испытании: преследователь приказывает вынуть сердце младенца, но ему приносят сердце зайца («Приклад») или щенка («Сказание»). Но этот мотив не является уникальным, он встречается, например, в Повести о рождении и похождениях царя Соломона17 и в сказках о царе Соломо-не18, откуда мог попасть в «Сказание» минуя «Приклад».
Совершенно по-разному разработан сюжет и в близких по времени создания «Сказании» и Повести-1: различаются и тип зачина («Христос в гостях у Марко», «Марко на ночлеге»), и сами испытания, и их количество (два в «Сказании», три в Повести-1). Примечательно, что даже функционально близ кие мотивы и меют существенные отличия: так, в Повести-1
слуги бросают купца в яму по ошибке, приняв его за юношу, — в «Сказании» же «работники» (ангелы) хорошо осознают, что перед ними купец Бендер («И работники, ухватиша за руки, поведоша во огнь, и купец возмолися им: "Братия, не сотворите ми зла и не умертвите мя, аз я хозяин, а не слуга". И работники ему сказали: "Твое уготованое место". И въвергоша его во огнь, и купец зле погип…» [Белоброва: 265]).
Наиболее близки между собой Повесть-1 и Повесть-2, однако и между ними обнаруживаются различия, которые не позволяют безоговорочно считать первый текст источником второго. Причем отличающиеся от Повести-1 мотивы в Повести-2, как правило, находят аналогию в устной традиции:
|
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
Фольклорные сказки о Марко Богатом |
|
Глас от Бога купцу «И бысть гласъ от Бога купцу тому сицевъ, яко "в сию нощъ родится у земледѣлца мла-денецъ и будетъ обладати всѣмъ сокровищемъ твоимъ и богат-ствомъ"». |
Разговор Христа и ангелов «В полунощи же под окномъ убогаго онаго нѣкий гласъ вопроси на столѣ почивающаго, глаголя: "Господи Владыко, Сыне Божий! Благослови и надѣли щасти-емъ сего господина сына, сей ночи родившагося, у котораго изволилъ еси почивати, и богатаго оного немилостиваго сей же нощи родившейся дщери". И абие отозвася на столѣ лежащий: "Святии ангели! Идите и служитѣ обоимъ родившимся. И да будетъ сынъ убогаго онаго богатому немилостивому зять и наслѣдникъ его богатьства"». |
Разговор Христа и ангела «В эту ночь в той деревне ночевали два странника; когда родился сын у крестьянина и дочь у купца, один странник (он был Ангел) и спрашивает у другого (Бога): "Чем наделить двух новорожденных младенцев?". Старший странник говорит: "Пусть сын бедного крестьянина женится на дочери богатого купца"»19. |
|
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
Фольклорные сказки о Марко Богатом |
|
Купец повелевает отрезать младенцу голову «И в пути идущу, рабу своему ве-лѣлъ рабу ( так! ), отнесщи в дебрь, главу отрѣзати младенцу». |
Купец бросает младенца в снег «…и абие поверже младенца в глубокий снѣгъ, бѣ бо зима и мразу зѣло люту бывшу <…> И егда возвращающуся ему (игумену. — А. П .) от богатаго, узрѣ на дес-нѣй странѣ огнь, яко от пещи. <…> И абие зритъ младенца повержена, жива и весела играюща». |
Марко бросает младенца в снег «Дело было зимою. Проехав несколько верст, Марко Богатый велел остановиться, отдал крестника своему приказчику <…>. Приказчик взял и бросил его в крутой овраг. <…> …поравня-лись купцы против оврага, и послышался им детский плач. <…> …там зеленый луг, а на том лугу сидит ребенок и играет цветами»20. «Выехал середи волоку, загреб его в снег. Уехал от этого мальчишка. Ехали торговые и видят, над этим мальчиком отцвел цвет лазоревый. <…> Разгребли снег, сидит мальчик, играет цветами»21. |
|
Повесть-1 (Арханг. С. № 138) |
Повесть-2 (УЦ-67) |
Фольклорные сказки о Марко Богатом |
|
Купец повелевает слугам вырыть в лесу яму, разжечь в ней огонь и бросить в него юношу «Диаволимъ же навѣтомъ умысли дву рабъ своихъ, и посла ихъ в лѣсъ выкопати яму, и возложиша огня вели вь ямѣ той. И приказалъ имъ: "Какъ я к вамъ пришлю раба сего, и вы сожгите его"». |
Купец повелевает бросить юношу в печь на заводе «По нѣкоемъ же времени совѣщася оный господинъ с приставником работ, еже бы зятя воврещи в пещь огненую» (на солеваренном заводе). |
Марко повелевает бросить юношу в печь (котел, смолу) на заводе «…отправься с этим посланным на мыльный завод и как пойдешь возле большого кипучего котла, толкни его туда»22. «…есь у нас смолопив-ны заводы (смолу варят), а я напишу письмо, штобы смоловар, как он придет, письмо подаст, так этого… штобы оны в смолу его и бросили»23. |
Если основой для Повести-2 послужил текст типа Повести-1, то в этом случае автор Повести-2 осуществлял замену мотивов с оглядкой на фольклорную сказку. Но с таким же основанием можно предположить, что Повесть-2 представляет собой литературную обработку фольклорной сказки без обращения к литературному произведению24.
Вернемся к предположению Е. К. Ромодановской о том, что литературные сочинения на сюжет «Марко Богатый» являлись источниками для фольклорной сказки, а не наоборот. Исследовательница сделала этот вывод («рабочую гипотезу») на основе двух произведений, одно из которых пришло в русскую литературу в составе переводного сборника, а к фольклорной традиции она не обращалась. Привлечение двух новых произведений (Повести-1 и Повести-2) и сравнение всех известных литературных текстов с фольклорными сказками убеждает в том, что картина была сложнее. Генетические связи между произведениями не очевидны, а использование при их создании мотивов из устных версий сюжета «Марко Богатый» не подлежит сомнению. В рукописной книжности «Сказание», Повесть-1 и Повесть-2, являющаяся к тому же поздним произведением, представлены единичными списками и вряд ли могли оказать существенное влияние на богатую фольклорную традицию сюжета, а «оптимистическая» версия «Приклада», как уже было сказано, не находит параллели в устных вариантах. Не исключено, что у русских рукописных произведений существовал какой-то не дошедший до нас или не обнаруженный пока литературный текст-архетип. Но порожденные им произведения, несомненно, подпитывались устной традицией. В свою очередь и этот предполагаемый литературный текст-архетип мог быть создан на основе фольклора. Нам приходится, таким образом, вернуться к старой идее В. Я. Проппа: «Сюжет может совершить круговорот, идя из устной традиции к письменной повести и оттуда, иногда у другого народа и в другие века, он может, именно в силу своей внутренней фольклорности, вернуться обратно в фольклор» [Пропп: 281].
По этой причине изучение «бродячих» сюжетов должно осуществляться по возможности с привлечением всей совокупности устных и литературных текстов. Исследование фольклорной или литературной традиции таких сюжетов отдельно представляется занятием малопродуктивным.
В приложении к статье публикуем текст повести из сборника БАН, Архангельское собрание, С. № 138.
ПРИЛОЖЕНИЕ
// (л. 327 об.) Бѣ нѣкий купецъ богатъ сый велми, и в пути ему бывшу, и прилучися ему преночевати у земледѣлца нѣкоего. И бысть гласъ от Бога купцу тому сицевъ, яко «в сию нощъ родится у земледѣлца младенецъ и будетъ обладати всѣмъ сокровищемъ твоимъ и богатствомъ». Онъ же воставъ от сна. И се родися в нощи той сынъ у земледѣлца того. Вложи же диаволъ мысль купцу по имѣнии своемъ жалость, еже бы имъ не обладалъ той младенецъ, егда приидетъ в возрастъ. И купи его у земледѣлца, далъ ему за младенца пятьдесятъ златникъ и взя с собою. И в пути идущу, рабу своему велѣлъ рабу ( так! ), отнесщи в дебрь, главу отрѣзати младенцу. Рабъ же той, убояся Страшнаго суда, положилъ его на древѣ живаго, обвита суща, а самъ себѣ ради знаку кроваваго обрѣза руку ради знаку. И прииде к господину своему, что бутто зарѣзалъ в крови младенца. Радъ же бысть о семъ купецъ.
На той часъ посланы быша от царя ловцы звѣрей в дебрь тую, идѣже младенецъ, и обрѣтоша младенца плачюща, и взяша его, и принесоша к царю. И царь воспитати повелѣ его. И егда же уже в возрасть прииде и служити начатъ пред царемъ той младенецъ, и видѣ той купецъ, нѣкогда бывъ пред царем, того младенца в совершенномъ возрастѣ, служаща ему. И позна по сказанию многихъ, яко в дебри обрѣтенной есть. И позна, яко той есть младенецъ, купленный имъ. И самъ царь сказалъ купцу, како обрѣтоша его. И начатъ просити купецъ у царя того юноши себѣ. Понеже царь велми любилъ купца, и вдал // (л. 328) ему того юношу.
Тогда паки обрадовался купецъ и послалъ его в домъ к супруги своей. И написалъ рукописание с нимъ: какъ приидет сей новый рабъ, и она бы потребила вскорѣ. Благий же Богъ, вѣдый вся тайная наша и милуя незлобивыхъ, и посла аггела своего во стрѣчю юноши тому на пути. И вопроси юноши: что онъ камо грядетъ. И онъ вся ему поряду сказалъ и грамоту по-казалъ. Аггелъ же Господень, подержавъ грамоту в руку, паки отдалъ юноши и велѣлъ итти безпечално. И пришед в домъ, и подастъ грамоту госпожи. И бѣ написано в ней Божиимъ повелѣниемъ: «Какъ приидетъ рабъ сей, и ты вдай единородную дщерь нашу в жену, не дожидаяся мене». Она же, не мѣшкавъ, и вдаде дщерь за него по писму тому.
По времени же купечества своего возвратися купецъ той в домъ и обрѣте юношу во умѣ своемъ, уже зять ему, и дѣтищъ уже родися ему. Тогда разтерза ризы своя, яко егоже повелѣ убить, аножно и дщерию облада. Диаволимъ же навѣтомъ умысли дву рабъ своихъ и посла ихъ в лѣсъ выкопати яму и возложиша огня вели вь ямѣ той. И приказалъ имъ: «Какъ я к вамъ пришлю раба сего, и вы сожгите его». И напоилъ его и послалъ к нимъ. Богу же милующу раба сего: якоже и благо-честиваго сына от мечника избави, сице и сего незлобиваго.
Привезоша сего юношу на колесницы ко ямѣ огню, напоиша пьяна аки мертва. И раби тии спаша, яже разжигати посланы огнь, а огнь еще за ихъ сномъ не разгорѣ велми. Воспрянувъ же юноша той от сна и пиянства, на колесницѣ везомый на смерть. И видѣвъ огнь той велий палящъ вь ямѣ, и разумѣв, яко его ради огнь той сотворенъ, избѣг с колесницы от огня в дебрь.
Господинъ же поиде досмотритися кь ямѣ дѣла сего и помысли, // (л. 328 об.) яко уже згорѣ рабъ той вь ямѣ, понеже не обрѣтеся на колесницѣ. Радостенъ бысть о семъ, что «Уже не обладаетъ сокровищемъ, рече, моимъ». И выде от руда шедшаго ( так! ) на колесницу, и успе зѣло. Раби же тии соннии оснувшеся, и видѣша уже огнь велми разгорѣся, и вземше колесницу со всѣмъ, мняще ту юношу того спяща, и ввергоша з господиномъ колесницу вь яму огненную, и згорѣ.
Юноша же пришедъ в домъ и облада домомъ и сокровищемъ всѣмъ, во всемъ ходя и благодаря Бога. И збыстся Писание: «Ровъ изры и ископа другу, и самъ впаде».
Список сокращений
БАН — Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург).
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).
СУС — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979.
ATU — Uther H.-J. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. 2004. Parts I–III. Helsinki. 2004.
Список литературы Русские рукописные произведения о "неизменяемости судеб Божиих" (сюжет "Марко Богатый")
- Белоброва О. А. Сказание о богатом купце // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Наука, Изд-во АН СССР, 1965. Т. 21. С. 259–265.
- Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства: в 2 т. СПб.: Тип. тов-ва «Общественная польза», 1861. Т. 1. [8], IV, 643 с.
- Веселовский А. Н. Konstantinische Sagen. 1875 // Веселовский А. Н. Работы о фольклоре на немецком языке (1873–1894). Тексты. Опыт параллельного перевода. Комментарии. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 96–151.
- Владимиров П. В. «Великое Зерцало» (Из истории русской переводной литературы XVII века). М.: В Универ. тип., 1884. [2], XIV, 106, 79 с.
- Волкова Т. Ф. Иван Степанович Мяндин — редактор древнерусских повестей (Некоторые итоги изучения литературного наследия печорского книжника) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 839–890.
- Волкова Т. Ф. Фольклорные темы и образы в литературных переработках древнерусских сюжетов И. С. Мяндина // Рябининские чтения — 2015: мат-лы VII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2015. С. 463–465.
- Георгиевский Г. П. Собрание Н. С. Тихонравова. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1913. Вып. 1: Рукописи. 127 с.
- Державина О. А. «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. М.: Наука, 1965. 440 с.
- Карманова Н. А. Печорский крестьянин-старообрядец И. С. Мяндин — переписчик и редактор новелл «Великого Зерцала» // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2006. Вып. 11. С. 90–110.
- Кузнецова В. С. О сюжетных разновидностях сказки о Марко Богатом (AaTh 461) в русских сибирских записях // I Сибирский форум фольклористов: тезисы докладов. Новосибирск: Академиздат, 2016. С. 56–58. (Сер.: Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока.)
- Кузнецова В. С. Легенда о Христе в составе сказки о Марко Богатом: устные и книжные источники славянских повествований // Вестник славянских культур. 2017. Т. 46. С. 122–134.
- Кузнецова В. С. Восточнославянские разновидности сюжета о Марко Богатом (AaTh 930) в сибирском бытовании // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 60. С. 168–182. DOI: 10.17223/19986645/60/11 (a)
- Кузнецова В. С. Разновидности сюжета о Марко Богатом (AaTh 930) в восточно- и южнославянских записях // Вестник славянских культур. 2019. Т. 52. С. 104–116. (b)
- Лобакова И. А. Историческая повесть о митрополите Филиппе. Литературные источники и их интерпретация конца XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. Т. 55. С. 301–312.
- Малышев В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1960. 215 с.
- Пигин А. В. Древнерусская Повесть о Христовом крестнике: проблема жанра // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 4. С. 42–67 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1571047274.pdf (01.07.2022). DOI 10.15393/j9.art.2019.5781
- Потанин Г. Н. К сказке о Марке Богатом // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Казань, 1895. Т. 13. Вып. 2. С. 61–69.
- Потанин Г. Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М.: Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и Кº, 1899. 893 с.
- Пропп В. Я. Поэтика фольклора / сост., предисл. и коммент. А. Н. Мартыновой. М.: Лабиринт, 1998. 352 с.
- Ромодановская Е. К. Западные сборники и оригинальная русская повесть (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в литературе XVII — начала XVIII в.) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1979. Т. 33. С. 164–174.
- Ромодановская Е. К. Русская литература на пороге нового времени: пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск: Наука, 1994. 232 с.
- Ромодановская Е. К. «Римские деяния» // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3: П–С. С. 304–307.
- Ромодановская Е. К. Римские Деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации: исследование и издание текстов. М.: Индрик, 2009. 968 с.
- Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII в. Материалы для истории русской литературы XVIII в. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 268 с.
- Сумцов Н. Ф. Сказки и легенды о Марке Богатом // Этнографическое обозрение. М., 1894. № 1 (кн. 20). С. 9–29; Дополнения к статье о Марке Богатом. № 2 (кн. 21). С. 176–177.