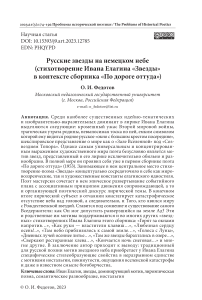Русские звезды на немецком небе (стихотворение Ивана Елагина «Звезды» в контексте сборника «По дороге оттуда»)
Автор: Федотов О.И.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Среди наиболее существенных идейно-тематических и изобразительно-выразительных доминант в лирике Ивана Елагина выделяются следующие: кромешный ужас Второй мировой войны, трагическая утрата родины, невыносимая тоска по ней, емким символом которой ему видится родное русское «окно с большим крестом посередине», шекспировское представление о мире как о «Зале Вселенной» под «Созвездием Топора». Однако самым универсальным и концентрированным выражением художественного мира поэта безусловно является мотив звезд, представленный в его лирике исключительно обильно и разнообразно. В полной мере он проявил себя уже в первом сборнике поэта «По дороге оттуда» (1953). Занимающее в нем центральное место стихотворение-поэма «Звезды» концептуально сосредоточило в себе как мировоззренческие, так и художественные константы елагинского идиостиля. Поэт мастерски сочетает в нем эпическое развертывание событийного плана с ассоциативным принципом движения сопровождающей, а то и организующей поэтический дискурс лирической темы. В конечном итоге лирический субъект в отчаянии констатирует катастрофическое отсутствие неба над головой, а следовательно, и Того, кто явился миру с Рождественской звездой. Ставится под сомнение и существование самого Вседержителя: как Он мог допустить разверзшийся на земле Ад? Эти и родственные им мотивы поддерживаются и во многих других «звездных» стихотворениях Ивана Елагина этого сборника: «Горят за окнами напротив...», «Как руки - властители клавиш...», «Любезная сердцу осень!..», «Там небо приблизилось к самой земле...», «Голоса с Луны», «Дневных лучей осеннее литье...», «Там же звезды барахтались в озере...», «Сверкают ресторанные хлева...», «Кончается ночь снеговая...». В заключение автор приходит к выводу: традиционный для русской поэзии мотив звездного неба приобретает у Ивана Елагина специфические стилеобразующие свойства в неразрывном единстве с мотивами ностальгии, покинутости, ощущения вселенской катастрофы и даже в известном смысле богоборчества.
Иван елагин, звезды, доминирующий мотив, лироэпическая поэма, семантическое разнообразие, ностальгия
Короткий адрес: https://sciup.org/147241440
IDR: 147241440 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12785
Текст научной статьи Русские звезды на немецком небе (стихотворение Ивана Елагина «Звезды» в контексте сборника «По дороге оттуда»)
Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 23-29-00545, https://www.rscf.ru/project/23-28-00545/ . For citation: Fedotov O. I. Russian Stars in the German Sky (Ivan Elagin’s Poem “Stars” in the Context of the Collection “On the Road from There”). In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2023, vol. 21, no. 3, pp. 174–192. DOI: 10.15393/j9.art.2023.12785. EDN: PHQYPD (In Russ.)
Ф инальный, по сути предсмертный, сборник стихов Ивана Елагина «Тяжелые звезды» открывается итоговым стихотворением «Нынче я больше уже не надеюсь на чудо…», в шести строфах которого прописными буквами начертаны названия всех его основных предшествующих книг: «По дороге оттуда» (1953), «Отсветы ночные» (1963), «Косой полет» (1969), «Дракон на крыше» (1973), «Под созвездием топора» (1976) и «В зале Вселенной» (1982). В совокупности они символически обыгрывают этапы жизненного и творческого пути поэта, яркого представителя второй волны русской эмиграции.
Заслуженная слава обошла И. Елагина стороной, хотя его талант, драматические перипетии судьбы и творчества должны были бы обеспечить ему достойное место среди самых ярких поэтических звезд ХХ в. Нас в первую очередь и более всего интересует заголовок стартового сборника поэта как лапидарная формула его трагического жизненного пути. Он, кстати говоря, упоминается в стихотворении дважды, в двух контрастных проекциях, в трех катренах, первых двух и заключительном:
«Нынче я больше уже не надеюсь на чудо, Бога прошу, чтоб меня не сломила беда. Все, что я мог, я сказал ПО ДОРОГЕ ОТТУДА, Только теперь я уже по дороге туда.
Книги названье — для домыслов острая пища. Только названье мое говорило о том, Как продолжается жизнь по дороге с кладбища, Смыслы другие пристали к названью потом.
Все мы живем, приближаясь к прощальному мигу, Все мы боимся уйти, не оставив следа.
Что же, — пора написать мне последнюю книгу, Книгу о том, что сбылось ПО ДОРОГЕ ТУДА»1.
Друзья, издавшие вскладчину последний стихотворный сборник поэта, не решились присвоить ему этот напрашивавшийся заголовок как результат непререкаемой образной логики, предпочтя вариант, перекликавшийся с программным стихотворением «Звезды», которое он посвятил своему репрессированному отцу, благословившему его на творчество. С другой стороны, елагинские «Тяжелые звезды» закономерно рифмуются и с «Кометой» А. А. Блока, а через нее с одноименным сонетом Аполлона Григорьева и, еще глубже, с хрестоматийным пушкинским сравнением Аграфены Закревской с «беззаконной кометой / В кругу расчисленных светил»2, и с «Тяжелой лирой» Владислава Ходасевича [Федотов, 2017: 114–117, 319–322, 325], и со «Звездным ужасом» Н. С. Гумилева [Федотов, 2006: 52–70], и с двумя десятками стихотворений, составляющих Рождественский цикл Иосифа Бродского [Федотов, 2022b: 108–148].
Образный мотив «Звезд», отраженный в заголовке стихотворения, опубликованного в дебютном сборнике поэта, отчетливо доминирует во всем его творчестве. Елагин прошел серьезную поэтическую школу, прежде чем стал одним из самых крупных поэтов русского зарубежья второй волны. Литература сопровождала его на протяжении всей жизни. Поэтами были его дед и отец, затем, как выяснилось, двоюродная сестра, сохранившая их общую родовую фамилию, Новелла Матвеева. Даже жениться ему в первый раз довелось на Ольге Анстей, которая, надо ли удивляться, тоже обладала незаурядным поэтическим даром. Среди его учителей, можно сказать, наивысшего базисного уровня — непременно Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и Фета — были кумиры Серебряного века: Блок, Пастернак, Маяковский, Цветаева, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич [Толстоброва], [Хадынская, 2020, 2021, 2022], [Федотов, 2021, 2022a].
Судьба не слишком баловала поэта, родившегося 1 декабря 1918 г. во Владивостоке не в самое благоприятное время, в разгар гражданской войны. 10-летним мальчишкой он был обнаружен Федором Панферовым среди московских беспризорников и отправлен под Саратов к отцу — поэту Венедикту Марту, который был репрессирован в 1937 г. и, как выяснилось, расстрелян летом того же года. Елагин узнал об этом лишь через год, продолжая аккуратно носить отцу передачи.
Война застигла его в Киеве. Молодой человек поступил в открытый немцами мединститут в надежде избежать отправки в Германию. Однако в 1943 г. он уехал туда по собственной инициативе как беженец с беременной женой, родившей их первую дочку прямо в поезде по дороге в Лодзь. Сохранить ребенка не удалось. Потрясшую его до глубины души утрату Елагин оплакал в стихотворении «Так ненужно, нелепо, случайно…» с посвящением « Памяти дочери », включенном в его первый поэтический сборник «По дороге оттуда». Это знаменательное название родилось в небольшом городишке тогда еще с немецким именем Алленштайн, а впоследствии переименованном поляками в Ольштын:
«Так ненужно, нелепо, случайно Разлетаются дни, как пыльца. Детский гроб и снега Алленштайна — Вот чему не бывает конца» (1: 114).
В финале стихотворения, обращаясь то ли к трактирщику, с которым они совершали горькие поминки по дочери, то ли к этому забытому богом городишку, лирический герой обещает «пробиться» к нему «по дороге оттуда » через все грядущие невзгоды и, «сидя» в тепле, поведать о том,
«Как мы наше короткое чудо Незнакомой отдали земле» (1: 114).
Загадочное наречие «оттуда» при этом получает весьма многоплановое семантическое расширение: конечно, имеется в виду не просто «с кладбища», но как бы и с того света, из потустороннего мира, одной из граней которого обернулась ставшая для беженцев смертельно опасной отчизна. Трагическое раздвоение души не оставляет выбора между инфернальной, до боли любимой утраченной родиной и столь же, если не еще более, неприемлемой чужбиной:
«Топчемся, чужую грязь меся, Тошно под луною человеку. Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!» (1: 104).
Затем некоторое время они прожили в Германии как DP (перемещенные лица), после чего оказались в США.
Но вернемся к «Звездам» — своеобразному экзистенциальному разговору сына с покойным отцом. Не столько лирическое стихотворение, сколько небольшая лироэпическая поэма, «Звезды» расчленены на 11 нетождественных строф: 12+12+1 2+12+(4+8)+12+(8+4)+12+4. С учетом двух сопредельных групп (4+8) и (8+4) их строфическая структура в целом может интерпретироваться как совокупность восьми 12-стиший и одного катрена 5-стопного хорея перекрестной рифмовки (AbAbCdCdEfEf)x8+AbAb.
Поэт мастерски сочетает эпическое развертывание событийного плана с ассоциативным принципом движения сопровождающей, а то и организующей его лирической темы.
В экспозиционной строфе сразу же с первого стиха актуализируются характерные образные доминанты елагинского идиостиля: «колышутся» одушевленные «звездные кочевья». Под ними у костра прислушиваются к говору «шумных тяжелых деревьев» (1: 132) отец с сыном. Вернее, это сын много лет спустя вспоминает свой давний ночной разговор с «седым и нищим поэтом», «распахнувшим» над его головой звездное небо. По ассоциации, благодаря неожиданному сравнению, всплывает типологическая ситуация неразрывного духовного родства, некогда воссозданная А. С. Пушкиным в «Сказке о царе Салтане», на фоне головокружительного единства Земли и Неба, каким оно однажды увиделось кенигсберскому мыслителю Канту:
«Точно сразу кто-то выбил днище
Топором из бочки вековой!
И в дыру обваливался космос,
Грузно опускался млечный мост, Насмерть перепуганные сосны Заблудились в сутолоке звезд» (1: 132).
Во 2-й строфе загодя угадывается завязка будущей трагедии. Слова отца оказываются завещанием и одновременно роковым пророчеством. Как поэт он, можно сказать, реализует метафору, предлагая сыну «навеки запомнить» раскрывшуюся перед ним величественную панораму и понять ее сокровенный смысл: «То Господь бросает якоря!». А чтобы над его душой не кричали «земные горести, как выпи», он приглашает его выпить «льющуюся вечность» «из ковша Медведицы Большой», припоминая откровение Ф. И. Тютчева, различившего в речи Цицерона закат «кровавой звезды» «римской славы»:
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир»3.
Елагин перифразирует эти бессмертные строки на свой лад: «Как бы ты ни маялся и где бы / Ни был — ты у Бога на пиру…» — и добавляет от себя, по контрасту: «Ангелы завидовали с неба / Нашему косматому костру» (1: 132).
Ангелы, созданные в отличие от людей не по образцу и подобию Бога, обладают способностью перейти в свою противоположность. Скорее всего, следуя именно этой логике, перипетии основного событийного плана начинаются в 3-й строфе с того, что судьба, споткнувшись «на каком-то чертовом ухабе», сворачивает не в ту сторону. Зловещие детали ареста («брау нинг направл енный у лба», «рукописи, брошенные на пол»,
«часового каменный сапог», «забитая как попало комната» и «старый грузовой автомобиль» в функции «воронка») помогают вообразить и домыслить типичную картину катастрофического изымания из жизни творческого человека, попавшего в дьявольскую безжалостную мясорубку демагогической идеологии. Финальный стих: «Увезли куда-то навсегда» — напоминает надпись на вратах Дантова Ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!», но уже в совершенном, а точнее свершившемся виде.
Продолжение перипетий сюжета в 4-й строфе аспектологически иное, через восприятие оставшихся на воле близких:
«Ждем еще, но все нервнее курим, Реже спим, и радуемся злей. Это город тополей и тюрем, Это город слез и тополей» (1: 133).
Речь идет о Киеве, где оставался в ту пору Елагин, томясь в неизвестности и тщетной надежде вызволить из неволи арестованного отца. Знаменательны вариативные повторы в эмблематическом определении города. Дважды прозвучавшее в разных позициях слово «тополей» уравнивает их в едином ряду с «тюрьмами» и «слезами». Столь же многозначительно сравнение пепельницы с ежом, не говоря уже о небогатом ассортименте предположений о судьбе заключенного и риторическом вопросе, обращенном к нему:
«Может быть, с последнего допроса
Под стеной последнею встаешь?
Или спишь, а поезд топчет версты
И тебя уносит в темноту…
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам Голову поднять невмоготу» (1: 133).
Первое предположение, к несчастью, оказалось самым точным.
Временная лакуна между 1937-м — фактически или 1938-м, как ошибочно считал на самом деле автор-повествователь, и 1941 г. сигнализирует о себе укороченной до четверостишия следующей строфой, в которой повествовательный дискурс уступил эмоциональной реакции на начало войны, прямому обращению к ней и упоминанию о невозмутимо длящемся временном потоке:
«Хлынь, война! Швырни под зубья танку, Жерла орудийные таращь!
Истаскало время наизнанку
Вечности принадлежащий плащ!» (1: 132).
Межстрофическая пауза, разделяющая катрен и следующее за ним 8-стишие, отчасти дезавуируется причинно-временной связанностью обеих графически обособленных частей синтетического 12-стишия (4+8). Тем не менее на биографическом уровне временной зазор от начала войны до вынужденной эвакуации Елагина и его молодой жены на запад очевиден. Описывается тот самый шальной поезд, «крадущийся вором» и увозящий чету поэтов в неизвестность также неуверенно и тревожно, «как к постели тянется больной» (1: 134).
От судьбы, однако, никуда не денешься. Крадущийся поезд привозит лирических персонажей от огня прямехонько в полымя, поскольку смерть нависает над ними не где-нибудь, а «в небе», и «след ее запутан». Беззвездное небо исхлестано «шпицрутенами» прожекторов со всех четырех сторон. Бесчинствует смерть, как ей и положено на войне: с одной стороны, «свистит над головой», с другой — «от лопасти крылатой / Падает на землю по кривой», как метеор или комета. Величественная путеводная звезда, «примерзавшая к рельсам», не способна никуда привести.
Далее следуют еще две укороченных (8+4) строфы, в сумме составляющие очередное 12-стишие. Зачин первого 8-стишия: «Мы живем, зажатые стенами / В черные берлинские дворы. / Вечерами дьяволы над нами / Выбивают пыльные ковры» — чуть ли не дословно вторит знаменитому фрагменту из стихотворения В. Маяковского «Товарищу Нетте…»: «Мы живем, зажатые железной клятвой…», а также — даже в еще большей мере — нескольким берлинским и парижским стихотворениям В. Ходасевича из книги «Европейская ночь»4. Причем, однако, тут дьяволы, взявшиеся некстати выбивать какие-то пыльные ковры? Ответ напрашивается из контекста: это предикат сравнения раздающейся на берлинских улицах артиллерийской канонады или взрывов тех самых «голодных бомб», которые «проторенной легкой параболой звезд / Летели на город…»5, в восприятии людей, укрывшихся в бомбоубежище. Именно оттуда, «из глубины подвала», автор-повествователь или, точнее, лироэпический герой в отчаянии взывает к Господу: «…услышим ли отбой?» — и тут же, без паузы, к покойному отцу: «Как тогда мне их недоставало, / Этих звезд, завещанных тобой!». В недостающем катрене речь, обращенная к нему, находит столь же эмоциональное продолжение:
«Сколько раз я звал тебя на помощь — Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь? Мертвые не помнят ни о чем» (1: 134).
Кульминационного напряжения экстатическая речь лирического субъекта в резонансном содружестве практически всех уровней плана выражения достигает в предпоследнем 12-стишии. Снова он переходит к стержневому мотиву звезд, обращаясь с риторическим вопросом к покойному отцу — предположительно обитателю неба, помнит ли он о тех прежних звездах, которые они вместе рассматривали в незапамятные времена? Нынешнее небо почернело, стало недоступным для человека, вынужденного спасаться в погребах. Что произошло с ним теперь? Мертвый отец не внемлет его вопросу. Приходится отвечать самому:
|
«Ну, а звезды. Наши звезды помнишь? |
ПХХХХ |
оаоо |
|
Нас от звезд загнали в погреба. |
ХХХПХ |
аоа-а |
|
Нас судьба ударила наотмашь, |
ХХХПХ |
ааа-о |
|
Нас с тобою сбила с ног судьба! |
ХХХХХ |
аоиоа |
|
Наше небо стало небом черным, |
ХХХХХ |
аеаео |
Берлин (Ходасевич В. Собр. соч.: в 8 т. М.: Русский путь, 2009. Т. 1. Полн. собр. стихотворений. С. 165, 170); «Окна на двор», 16–21 мая 1924, Париж. См.: [Федотов, 2017: 49, 53–55, 166–167, 345–346].
|
Наше небо разорвал снаряд. |
ХХПХХ |
ае-аа |
|
Наши звезды выдернуты с корнем, |
ХХХПХ |
аоы-о |
|
Наши звезды больше не горят. |
ХХХПХ |
аоо-а |
|
В наше небо били из орудий, |
ХХХПХ |
аеи-у |
|
Наше небо гаснет, покорясь, |
ХХХПХ |
аеа-а |
|
В наше небо выплеснули люди |
ХХХПХ |
аеы-у |
|
Мира металлическую грязь!» |
ХПХПХ |
и-и-а. (1: 134–135) |
На риторический вопрос следует исступленный риторический ответ — не расстрелянному отцу, нет, всему миру, — отчаянные стенания об отсутствии мирного, достойного человеческой жизни неба, а следовательно, и звезд над головой. Местоимение «наши» в сочетании со «звездами» и «небом», а также связанное с ним «нас» — со страдательными глаголами «загнали», «ударила» и «сбила», анафорически с неумолимой настойчивостью повторяются с 1-го по 11-й стих. Нагнетанию эмоционального напряжения при, казалось бы, бесстрастной констатации непрерывных ударов судьбы способствуют и обилие нетронутых пиррихием хореических стоп, и тотальный интонационно-синтаксический параллелизм, и распространение анафорических цепей как на ритмическом (шесть последних стихов подряд с неукоснительным пиррихием на предпоследней стопе), так и на фонетическом уровне (вертикальный ассонанс на «а» во всех стихах, кроме 1-го и последнего, подкрепленный в подавляющем большинстве случаев опорным согласным «н»). Типологически этот вопрос сопоставим если не с трагическим вопрошанием Иисуса Христа во время казни: «около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46), — то с вопросом Остапа Бульбы в момент, когда в невыносимых муках иссякли его физические силы: «Батько! где ты! Слышишь ли ты?».
Окончательный итог подводит заключительное четверостишие, с которого мы и начали анализ этого ключевого в жизни и творчестве Елагина стихотворения: нет неба, значит, и нет явившегося миру с Рождественской звездой Богочеловека, ставится под сомнение и существование самого Вседержителя: как Он мог допустить разверзшийся на земле Ад?
Тот же самый богоборческий мотив в виде укора изверившегося человека самому Господу и запоздалой молитвы о такой малости, как хотя бы «дня для земли без крови и огня», прямо и недвусмысленно прозвучал в стихотворении «Дневных лучей осеннее литье…»:
«И слушают дорога и трава Моей молитвы тихие слова.
Ты, Господи, оставил нас в огне, Ты два тысячелетья — в стороне,
А мы от века до конца — плати За неисповедимые пути.
Немногого прошу я — только дня, Дня для земли без крови и огня,
Дня отдыха. Но только в этот день Своей рукою солнце нам воздень,
И, может быть, тогда припомним мы О Солнце Рая…» (1: 165).
* * *
Всего в дебютном сборнике поэта 117 стихотворений. Из них мотив звезд присутствует в 21 тексте, что составляет 17,95 %, т. е. он так или иначе встречается без малого в каждом пятом стихотворении. В самой первой двухкатренной зарисовке «Усталый город пал в ночное лоно…» (1: 43) обозначен безрадостный дуализм внешнего мира и несвободной, заключенной в «застенок сна» души. Взгляд лирического героя обращен вверх, туда, где «над головой в горбатых ветвях клена запуталась луна», а весь «темный купол» небесного свода заполнен «жемчужным дымом», надо полагать, бессчетного числа звезд Галактики. Плавая в этом «дыму», «сонмы бездомных духов», в свою очередь, с тоской взирают гораздо выше, в сферу еще одного уровня несвободы — «надзвездную тюрьму».
Своеобразным продолжением данной лирической экспозиции является миниатюра, открывающаяся катреном: «Горят за окнами напротив / Алмазы звездного ковша. / Над лирой, брови озаботив, / Склонилась Муза, не дыша» (1: 55). И на этот раз перед нами осуществляется воображаемый диалог между созвездиями Большой либо Малой Медведицы и умозрительной Музой, озаботившей свои брови над «лирой», тоже, кстати сказать, имеющей небесного двойника — созвездие Лиры со второй по яркости звездой Вегой в своем составе. В другом случае та же Муза обретает свои пристанища «у гор, океанов и звезд» (1: 75).
Звезды в поэтическом мире Елагина могут фигурировать и в демонстративно условной проекции, скажем, среди театральных декораций рядом с «раскрашенным кустом на подставке, / Пожухлым и пыльным», обнаруживаются «сбитые в кучу куски полотняных небес, / Алых и синих, / Высоких и низких, / С прибитой у края звездой». При этом, конечно же, на изображаемом театре жизни, как на фронтоне шекспировского «Глобуса», читается цитата из Петрония: «Mundus uni-versus exercet histrionam» («Весь мир лицедействует»), поскольку «Любезную сердцу осень», с другой стороны, адекватно замещают «Рыжий парик на каштане. / Жалкие слезы / Жалких актеров / По лицам размазали грим» (1: 84).
Звездные метаморфозы с необычайной яркостью передают самые разнообразные природные и общественные явления, например:
«А в августе звезды летели за мост. Успей! Пожелай!‥ Загадай! Но о чем бы? Проторенной легкой параболой звезд Летели на город голодные бомбы!» (1, 99).
Наоборот, минус-приемом оборачивается их значимое отсутствие, когда речь заходит о «беззвездной», а следовательно, бездуховной Европе (1: 107).
Мощным символическим обобщением предстает потухшая «последняя звезда» как знак глобального и в то же время индивидуального Апокалипсиса в душе отверженного всем миром человека, каким ощущал себя Елагин — человек без родины с бесполезным «нансеновским» паспортом DP (ср.: [Бондаренко], [Wynan]):
«Когда земля, вся в судорогах, ухнет Последней ночью в свой последний век, Когда звезда последняя потухнет — Останется последний человек.
Он будет полудухом-полупрахом Бежать сквозь одиночество и страх… Таким же одиночеством и страхом Я сжат сегодня в четырех стенах» (1: 157).
Скорее всего, на роковом финише цивилизации поэт воспроизводит загадочные «Голоса с луны» — надо полагать, обитателей своеобразного апокалипсического ковчега, плывущего по обмелевшему небу; они обращаются к таинственному «одноглазому товарищу», или Полярной звезде, или Ориону, или небесному Циклопу, или Вселенскому Маяку, с просьбой указать место, «где бы / Перейти это небо вброд?». Для чего? Для того, чтобы «пройти по горящим весям, по земной золотой пыли» и «на звездах веселых развесить изумрудную шкуру земли»:
«Пусть засохнет! Пускай не грабит Оскудевшего Солнца лучи.
Слишком сочны земные хляби
Для двуногой земной саранчи» (1: 163).
В большинстве елагинских стихотворений звезды упоминаются эпизодически как деталь вне какой-либо целостной образной картины, например: Петербург Достоевского связан с «вереницей звезд промозглых», который «волочит за собой туман» (1: 70), или, вспоминая о зимнем родном доме в России, поэт видит над ним заветную звезду (1: 73) и «поблескивающее звездной сединой» «торжественное небо» над собой (1: 165); оставив дом, т. е., видимо, оказавшись на чужбине, он стучится в «сотни чужих дверей», рискуя «где-то в самой грязной подворотне» кощунственно «споткнуться о звезду» (1: 139); или, вспоминая первые любовные переживания, обратить внимание на то, что все повторяется:
«Так же звезды барахтались в озере, Был и месяц — такой же точь-в-точь. Разметала последние козыри
Перед нами любовная ночь» (1: 147).
Подобную же любовную ночь, но не вместе, а врозь со своей любимой, переживает лирический герой в одном из заключительных стихотворений «Сверкают ресторанные хлева…» рассматриваемого нами сборника . Привычная каждому из нас звездная родственница Медведица оказывается уже не на немецком, а на американском небе:
«И я, в моей кромешной маете, И ты, в своем скитании бессонном — Медведицу отыщем в высоте, Заломленную гневно над Гудзоном» (1: 167).
Исключительный интерес в связи с поставленной нами проблемой, вызывает уже упомянутое стихотворение «Кончается ночь снеговая…», в котором не какая-нибудь, а Вифлеемская Звезда снизошла до трамвайной дуги:
«Кончается ночь снеговая
И крыши всплывают грядой. Звезда над дугою трамвая Дрожит Вифлеемской звездой.
Ночь канула, с места не тронув Двухтысячелетней канвы, И где-то с вокзальных перронов Выходят седые волхвы,
И елка в окне магазина
В плену золотого дождя… Но старые три господина Ушли, никого не найдя» (1: 111).
Двухтысячелетняя канва остается нетронутой, девственно чистой. Все течет, все изменяется. Новый Мессия больше не является на цивилизованную землю. И волхвам приходится удалиться, так никому и не вручив своих многозначительных даров.
Продолжая модернизацию мифологических осмыслений современности, по соседству с этим стихотворением разыгрывается соответствующий ноктюрн в ритме 5-стопного хорея, который в классической статье К. Тарановского прочно ассоциируется с дихотомией динамической темы пути и статической темы рефлексии по поводу жизни и смерти [Тарановский]. Как выходил в свое время, «серебряными шпорами звеня»6, на «кремнистый путь» Кавказа юный Лермонтов, так лирический герой Елагина опускает «млечный путь <…> на колею», остановившись «у столба дорожного» «за колючей проволокой ночи», и эффектно завершает свои грустные раздумья:
«Кто мы? Для чего мы и откуда —
Проволокой звезд обнесены?
Говорят, Тебе мы снимся, Будда, Скверные Тебя тревожат сны» (1: 112).
Удивительным образом мотив звезд в обоих случаях ассоциируется не с ожидаемой свободой или, вернее, освобождением , как у того же Ходасевича («И небом невозбранно дышит / Почти свободная душа…»)7, а с глобальной несвободой, обнесенной колючей «проволокой звезд». Отчасти в той же функции выступает образ «звездного пунктира» — маршрута чуждого «земных орбит».
Итак, как мы могли многократно убедиться, доминирующий мотив звезд в поэтической Вселенной Елагина представлен исключительно широко, интенсивно и разнообразно. В полной мере он проявил свои стилеобразующие свойства в первом же сборнике поэта, но и не менее ярко представлен во всех остальных. Центральное место в сборнике «По дороге оттуда» занимает стихотворение-поэма исповедально-балладного типа «Звезды», концептуально сосредоточившее в себе как мировоззренческие, так и художественные константы елагинского идиостиля.
Обращая взор к кантовскому небу, лирический герой не видит его над собой: «Нас со всех сторон обдало дымом, / Дымом погибающих планет. / И глаза мы к небу не подымем, / Потому что знаем: неба нет» (1: 135). Речь, понятно, идет не только о вселенской катастрофе космического масштаба, но и о духовной трагедии, ибо когда «звезда над дугою трамвая / Дрожит Вифлеемской з вездой / <…> И где-то с вокзальных перронов /
Выходят седые волхвы», им приходится уйти, не выполнив своей величественной миссии: Рождественские ясли оказываются пустыми, «но старые три господина / Ушли, никого не найдя» (1: 111).
[Электронный ресурс]. URL: https://wordtextcontext.ru/index.php/wtc/ article/view/166 (22.05.2023). DOI: https://doi.org/10.26105/PBSSPU.2022.87.96.011
Список литературы Русские звезды на немецком небе (стихотворение Ивана Елагина «Звезды» в контексте сборника «По дороге оттуда»)
- Бондаренко В. Архипелаг «Ди-Пи» // Русский рубеж. 1991. № 11. С. 175–190.
- Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2010. С. 372–403.
- Толстоброва Л. В. Интертекстуальные мотивы и образы в лирике И. В. Елагина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. Филология. № 4. С. 122–126 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnye-motivy-i-obrazy-v-lirike-i-v-elagina/viewer (22.08.2023).
- Федотов О. И. Земные цветы и небесные звезды в неоромантической лирике Николая Гумилева // Studiawschodniosłowiańskie. Białystok. 2006. T. 6. С. 49–70.
- Федотов О. И. Стихопоэтика Ходасевича. М.: Азбуковник, 2017. 432 с.
- Федотов О. И. О двух сонетах Елагина // Проблемы поэтики и стиховедения: мат-лы Междунар. науч.-теор. конф., посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 90-летию выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева (20–21 мая 2021 г.). Алматы: «Ұлағат», КазНПУ им. Абая, 2021. С. 59–63.
- Федотов О. И. Ностальгия как отрицание отрицания. Марина Цветаева и Иван Елагин (стихопоэтический этюд) // Южное сияние. Одесский литературно-художественный журнал. Philadelphia:AriellaPublishing. 2022. № 4 (44).С. 187–197. (a)
- Федотов О. И. Стихопоэтика Иосифа Бродского. М.: Директ-Медиа, 2022. 596 с. (b)
- Хадынская А. А. Петербург Ивана Елагина // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2020. Вып. 3 (209). С. 45–52 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/2020_3.pdf (22.08.2023).DOI: 10.23951/1609-624X-2020-3-45-52
- Хадынская А. А. «Надо мною небес многоплановость»: интертекст в лирике Ивана Елагина // Гуманитарный вектор. 2021. Т. 16. № 1. С. 65–73 [Электронный ресурс]. URL: https://zabvektor.com/wp-content/plugins/zv-magazine-manager/article-information-page.php?article=1485&locale=ru (22.08.2023). DOI: 10.21209/1996-7853-2021-16-1-65-73
- Хадынская А. А. Поэтический язык Ивана Елагина: через традицию к «неоновому веку» // Филологический вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2022. № 4 (12). С. 78–86 [Электронный ресурс]. URL: https://wordtextcontext.ru/index.php/wtc/article/view/166 (22.08.2023). DOI: https://doi.org/10.26105/PBSSPU.2022.87.96.011
- Wynan M. DPs: Europe’s Displased Persons, 1945–1951. Ithaca: Cornell University Press, 1998. 272 p.