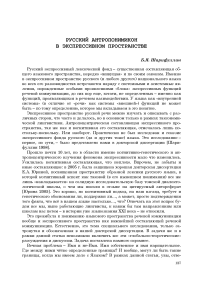Русский антропонимикон в экспрессивном пространстве
Автор: Шарифуллин Борис Яхиевич
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Статья в выпуске: 3 (6), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены когнитивно-этимологические параметры включения русских антропонимов (личных имен) в экспрессивное пространство русского языка, в котором происходили и происходят различного рода формально-семантические корреляции между ономастической и апеллятивной природой слов.
Русский язык, антропонимика русского языка, экспрессивный лексический фонд
Короткий адрес: https://sciup.org/144152881
IDR: 144152881
Текст научной статьи Русский антропонимикон в экспрессивном пространстве
Русский экспрессивный лексический фонд – существенная составляющая общего языкового пространства, нередко «живущая» и по своим законам. Именно в экспрессивном пространстве русского (и любого другого) национального языка во всех его разновидностях встречаются наряду с системными и асистемные явления, порожденные особыми проявлениями «блока» экспрессивных функций речевой коммуникации, до сих пор еще, кстати, не определенных – именно как функций, проявляющихся в речевом взаимодействии. У языка как «внутренней системы» (в отличие от «речи» как системы «внешней») функций не может быть – по тому определению, которое мы вкладываем в это понятие.
Экспрессивное пространство русской речи можно изучать и описывать с различных сторон, что часто и делалось, но в основном только в рамках таксономической лингвистики. Антропоцентрическая составляющая экспрессивного пространства, так же как и когнитивная его составляющая, отмечалась лишь по-стольку-поскольку. Или наоборот. Практически не был исследован и генезис экспрессивного фонда русского (да и других тоже) языка. Это исследование – первое, по сути, – было представлено нами в докторской диссертации [Шарифуллин 1998].
Прошло почти 10 лет, но в области именно когнитивно-генетического и антропоцентрического изучения феномена экспрессивности мало что изменилось. Усилилась когнитивная составляющая, что неплохо. Впрочем, не забыты и иные составляющие: в 2005 г. была защищена хорошая докторская диссертация Е.А. Юриной, посвященная пространству образной лексики русского языка, в которой когнитивный аспект как таковой (в его нынешнем понимании) все же лишь «накладывается» на солидную исследовательскую базу томской диалектологической школы, о чем мы писали в отзыве на цитируемый автореферат [Юрина 2005]. Это хорошо, но когнитивный подход, на наш взгляд, требует и генетического обоснования ли, поддержки ли…, а может, просто подтверждения того факта, что всё в нашем языке настолько…, что? Отвечать на этот вопрос будем все мы, ныне работающие лингвисты, к каким бы там направлениям или школам нас потом – в истории уже языкознания XXI века – не относили.
Это преамбула к пониманию языкового пространства речевой коммуникации вообще и экспрессивного пространства как важнейшей составляющей речевой коммуникации. Естественно, это тема специального исследования, только затронутая и обозначенная в нашей докторской диссертации. В задачи же и в рамки данной статьи невозможно включить все эти «глобально-теоретические» рассуждения и дискуссии. Задача поставлена намного скромнее.
Вечная проблема – Имя и не-Имя. Имя собственное и имя нарицательное. Где между ними чётко определенные границы? И вообще, могут ли быть такие границы, когда мы имеем дело с Языком? В рамках данной статьи, увы, отве- тить на эти вопросы не можем, да и не имеем возможности и пока особого желания. Должна быть «кристаллизация» каких-то новых идей. Наверно, «кристаллы» лучше всего передать молодым лингвистам…
Повторяем – задача статьи намного скромнее этих рассуждений. Но может и помочь им. Здесь представлен только один фрагмент русского экспрессивного пространства: русские антропонимы, личные имена, мужские и женские, различной генетической природы, «втянутые» и «переработанные» данным пространством. Впрочем, по порядку.
Экспрессивное пространство – на то оно и пространство, недискретное и континуальное, что описывать его вне антропоцентрических, когнитивных, функциональных и генетических параметров просто бесполезно и не нужно.
Экспрессивный лексический фонд русского языка (не путать с экспрессивным пространством!) исторически изменчив. В нашем понимании экспрессивный фонд русского языка как внутрисистемная и иерархически устроенная лексическая организация русского экспрессивного пространства включает всё, что есть, было и будет во всех разновидностях русского национального языка, территориальных, социальных и пр. (вопреки мнению Н.А. Лукьяновой, что было отмечено при защите нашей докторской диссертации). Потому и возможно постоянное «перетекание» экспрессивных речений из одной формы русского языка в другую, например, из арго в сленг, из жаргона в политический дискурс и т. п. В чем мы убеждаемся, анализируя особенности современной речевой коммуникации в различных сферах речевого взаимодействия (от СМИ и до бытового общения).
В когнитивно-генетическом же аспекте описания русского экспрессивного фонда особый интерес, причем основанный не только на внешних и очевидных данных, но и на возможностях внутреннего, «глубинного» истолкования, представляет такое средство пополнения русского экспрессивного фонда, как деони-мизация имен собственных (ИС) при их экспрессивном переосмыслении.
Не желая погружаться в рамках данной статьи в философскую, семиотическую и лингвистическую теории ИС (по данной проблеме можно уже составлять многотомную энциклопедию), просто отметим, что ИС действительно обладают скрытым (имплицитным) ассоциативным фоном [Горбаневский 1984 : 4], и в случае их перенесения в контекст экспрессивного пространства в их «пустое» (по мнению многих философов-лингвистов) значение включается «семантика отражения», наполняя его (значение ИС) какими-то коннотативными смыслами, прежде всего образными, а потом уже – параллельно – экспрессивными.
Это речевая реальность. С этим можно согласиться, поскольку это очевидно. Но не так всё просто.
Один пример. Перечисляя приемы создания адгерентной («наведенной») экспрессивности у слов, первоначально «нейтральных», В.Н. Цоллер называет и использование экспрессивного потенциала онимов [Цоллер 1995 : 67]. Однако можно ли считать эту экспрессивность ИС всегда адгерентной, иначе говоря, эксплицитной, проявляющейся лишь в определенных ситуациях? Если речь идет об автономазии (применении ИС для обозначения лица, наделенного свойствами первичного носителя данного имени), то с этим можно согласиться: ср. Дон - Жуан, Плюшкин и т. п. Примеры широко известны.
Другое дело - речевые (в широком диапазоне: разговорные, просторечные, диалектные, жаргонные) формы типа ванька, жорик, машка, петя, фаля, федя, фофан, хавронья, харя и пр., коннотативный потенциал которых имплицитно содержится в фонетической (и, возможно, смысловой — но не по типу «лексического значения») структуре соответствующих квалитативах личных имен (ЛИ) и никак не связан со свойствами каких-то реальных их носителей (уж лучше сказать, «виртуальных»): неких Фалилея, Феофана, Февронии, Харитона и пр. (по традиционным этимологическим версиям, отмеченным, например, в словаре М. Фасмера).
И еще один вопрос — сохраняет ли ИС свой статус «онима» при «наведенной» (вторичной) экспрессивности и при реальной экспрессивации? Например, своеобразный казус: дон - жуан vs. хавронья - кто кого более «экспрессивен» и «оно-мастичен»? — очевидно, экспрессивнее тот «персонаж», чей семантический объем в восприятии носителя русской речи более обширен и разнообразен. И наоборот. Наверняка, дон - жуан в этом «виртуальном» поединке проиграет хавронье: народная традиция «насыщения» экспрессивного пространства различными дополнительными смыслами опирается и продолжает всё же неосознанную, но лингвистически просчитываемую ориентацию на форму — и на традицию, восходящую еще к периоду освоения и о-своения «чужих» христианских имен. Дон -жуан в эту картину «не вписывается».
Таким образом, как это особенно очевидно для русской антропонимики, исходный элемент коннотации ИС, способствующий его экспрессивации, — образность, порождаемая не только скрытым смыслом онима, но и его звуковой формой. Образность ИС развертывается при его деонимизации в экспрессивном пространстве в открытую коннотативную структуру значения, наполняемую иными экспрессивными смыслами (эмотивность, оценочность и пр.) при его взаимодействии с другими единицами экспрессивного фонда. Это то характерное для экспрессивного пространства языка явление, которое еще в нашей докторской диссертации мы определили как «формально-семантическую корреляцию» [Шарифуллин 2000].
Из всех классов ИС русский антропонимикон особенно активно взаимодействует с экспрессивным пространством языка, так как это наиболее «интимный» для человека класс онимов и потому часто транспонируемый в другие сферы его бытия для номинации или экспрессивации иных лиц, объектов, явлений. Пример, хорошо описанный в специальной литературе: изначальная сакральность ЛИ, обусловленная мифологическими мотивами (древнеславянские имена-обереги и т. п.), а с принятием христианства — и мотивами протектората со стороны носителя того же «святого имени», часто снижается в текстах, связанных с «низовыми» формами культуры [Топоров 1977; Успенский 1982], в чем можно видеть диалектическую антиномию славянского язычества и христианского православия. Вероятно, именно этим можно объяснить распространенность в русских говорах номинации растений, грибов, насекомых, реже животных различными формами канонических ЛИ: например, авдотки 'растение купальница', матренка 'тысячелистник', иванчики 'название некоторых грибов', федорко, сидорко, марьянка 'божья коровка', хавронья 'свинья' и др. (см.
подробнее в диссертации Ф.В. Степановой, выполненной под нашим руководством [Степанова 2006]).
В народной языковой картине мира понимание особой связи между ЛИ и человеком обусловило использование антропонимов как одного из источников пополнения экспрессивного фонда русского языка, их транспонирование из ономастического в экспрессивное пространство с последующими или параллельными модификациями как формы, так и смысла. При этом кодирующий, мотивирующий фактор - это прежде всего фонетическая форма ЛИ, вызывающая различные ассоциативные, семантически осознаваемые и семантически значимые связи с апеллятивами, а также, естественно, смысловая (в мифопоэтическом, культурном и историческом планах) «нагруженность» многих русских ЛИ.
Русские канонические христианские антропонимы, имена древнееврейского, греческого или латинского происхождения, т. е. имена «чужие», «осваивались» и «присваивались» прежде всего в привычных для славянского «именника» квалитативных формах (уменьшительных, «увеличительных» — типа Иванище и т. п.) и через них. Тем самым такие имена уже включали или начинали включать — в языковом сознании и видении их носителей и их «воспринимателей» в той древнерусской речевой коммуникации — в свою смысловую структуру определенный набор коннотативных компонентов (уменьшительно-ласкательных или уничижительно-пренебрежительных) и естественным образом переходили и ту грань, которая разделяет онимы и апеллятивы.
Этому способствовала — и способствует до сих пор — общая особенность иноязычных, «чужих» слов: их эзотерическая, чуждая русскому звуковому строю форма, что влечет за собой стремление и даже желание «о-своить» и «присвоить» её, увидеть в чужой структуре элементы «своего». Отражается это, в частности, в практически вневременной и устойчивой тенденции сразу же переделать «чужое» (по фонетическим и просодическим мотивам, прежде всего) имя в «свое». Примеры классические — как в русской литературе (Барклай де Толли у Л.Н. Толстого в речи простых русских солдат — Болтай - да - и только), так и в современной речевой практике (зовут на самом деле Джамиля - стала Женей, Рамиль - стал Романом; классический пример из истории советского, «революционного» антропонимикона — Лейба Бернштейн стал Львом Троцким и т. п.).
Поэтому, на наш взгляд, неслучайно, что почти все канонические ЛИ или их квалитативы с начальным Ф коррелируют (по разным генетическим причинам) с пейоративными экспрессивами: фаля 'дурак, простофиля' (ЛИ Фалалей, ср. фалалей 'повеса' у В. Даля); федул 'разиня, простофиля', фефёла 'то же' (ЛИ Феофил), филя, простофиля (ЛИ Филипп, Филарет и пр.), фофан 'простак, дурак' (ЛИ Феофан) и т. п. Можно с точки зрения концепции формальносемантической корреляции предположить формирование в системе ЛИ «минисистемы» с начальным Ф, единицы которой при их экспрессивации включаются в соответствующее экспрессивное «гнездо» с инвариантным смыслом 'дурак, простофиля, разиня'.
Наполнение данного экспрессивного гнезда продолжалось и дальше, в результате чего русский экспрессивный фонд обогатился, например, такими образованиями, как фифа (возможно, связано опять же с квалитативами какого-то уже европейского женского имени типа Фифина; впрочем, ср. квалитатив Мими от имени Маргарита - возможности фонетического преобразования бесконечны и подчиняются, наверно, только логике женских моделей имяобразований), фря (об этом слове, в том числе в связи с возможностями антропонимической интерпретации, см.: [Шарифуллин 2001]), фуфло, флюшка (рифмованный синоним к шлюшка) и др.
«Экспрессивно говорящими» с позиции русского восприятия «звуковой картины мира» и потому часто – в различных своих формах – «внедряющимися» в русское экспрессивное пространство являются, понятно, и греческие ЛИ с начальным Х-, учитывая известное «качество» русского согласного [X] в целой «серии» исконно славянских экспрессивных образований, в народном видении «звуковой картины мира» связанного и с согласным [Ф] (своего рода нейтрализация оппозиции «своё [X] - чужое [Ф]»): Харитон, Харлампий, Хаврония (из Феврония - пример той самой «нейтрализации»), Хома (из Фома) и пр. Ср. такие экспресси-вы, опять же традиционно считающиеся связанными с данными ЛИ: харя, хав-ронья, хомка и т. д.
На самом деле взаимодействие «чужих» (а иногда и «своих» – ср. весьма сложное формально-семантическое «переплетение» славянского языческого имени Мара и христианского имени Мария [Степанова 2006], в довольно заметной степени отразившееся и на формировании русского экспрессивного фонда) антропонимов с формально и семантически (через вторичные ассоциативные адидеации культурного, мифопоэтического, религиозного и пр. плана) близкими или «приближенными» экспрессивными образованиями намного сложнее.
Естественно предполагать, учитывая феномен «обратного отражения» (еще мы бы назвали его «зеркалом» – имея в виду, что экспрессивное и антропонимическое пространства нашего языка не только «смотрятся» друг в друга, но являются «зеркалами» и для иных, смежных явлений языкового пространства вообще), что немало народных форм или квалитативов ЛИ возникли не только по фонетическим мотивам (замена «чужого» Ф на X или П, подстановка «удобных» звуков вместо Г или К в препалатальной позиции и т. п.), но и под влиянием близких по форме апеллятивов или их основ.
Тем самым устанавливаются вторичные формально-семантические корреляции, втягивающие затем данные онимы-квалитативы в соответствующую экспрессивную микросистему. Ср., например, канонические ЛИ Кирилл, Кир, Ки-приан и народные формы Чурило, Чур, Чупреян, Чупря, возникшие, вероятно, не без влияния экспрессивной базы чу-, сформировавшей еще до включения в русский антропонимикон указанных ЛИ экспрессивное гнездо с данной иници-алью: чур, чурка, чупря, чумаза, чуварза и пр. с общим смыслом 'грязный, плохой, глупый' (о таких словах см.: [Попов 1957: 34]).
Подробный анализ – этимолого-когнитивный (о принципах которого следует написать специальную работу, учитывая, что с написания докторской диссертации прошло уже почти 10 лет, а для современной нашей лингвистики – это очень большой срок!) — имени Кирилл и связанных с ним экспрессивов с начальной базой кур - опубликован в сборнике, посвященном 90-летию нашего Учителя Кирилла Алексеевича Тимофеева [Шарифуллин 2004]. Кстати, он когда-то и обратил наше внимание на феномен экспрессивности: тема нашей дипломной работы была «Лексемы с семантикой 'bonus' в славянских языках и их индоевропейские истоки», иначе говоря - хороший, прекрасный, великолепный, клёвый, железный... и аналогичные соответствия в славянских и иных индоевропейских языках. К сожалению, текст той нашей дипломной работы не сохранился, там были некоторые интересные наблюдения…
Ибо – неофициальным, но единственным – консультантом нашей дипломной работы был Игорь Александрович Мельчук. «Экспрессивность» с позиций формально-семантико-прагматических мы с ним тогда, до его «отъезда from the USSR» в 1975 г., «разбирали» – на большом, как говорится, фактическом материале разных форм и вариантов русского языка, а также и других языков. Большая часть этого материала по понятным причинам в текст дипломной работы не вошла. Но понимание экспрессивности осталось…
Поэтому можем только подтвердить, что явление экспрессивной деономиза-ции антропонимов широко представлено в различных вариантах русского языка, для которых особенно характерна экспрессивная функция речевого общения. Одни из них соотносятся с полной (канонической или народной) формой ЛИ - ср. в русском арго: фёкла 'картошка', макар 'неизвестный преступник', прасковья 'параша (также, кстати, экспрессивный квалитатив того же ЛИ)'. Другие представляют результаты экспрессивации квалитативов или внешне подобны им: аргот. лёха 'бестолковый; мужик, лох', аноха 'слабоумный', машка 'уголовница; сожительница', диал. алёха, алеша (ср. рассказ В.М. Шукшина «Алёша Бесконвойный»), афоня 'о бестолковом и безобидном человеке', сленг, наташка, дашка, машка 'девушка, обычно легкого поведения' и т. п. В случае жаргонизмов следует иметь в виду и возможность реализации в экспрессивном пространстве языка механизмов фонетической мимикрии и языковой игры.
Общий вывод? Он достаточно прост, но и сложен: экспрессивное пространство русской речи многомерно, и его довольно значимым компонентом является русская антропонимика, сама по себе тоже весьма неоднозначная. Что же делать – таково это самое пространство русского речевого взаимодействия вообще. В которое и мы, лингвисты, тоже «погружены». Со всеми «вытекающими» отсюда.