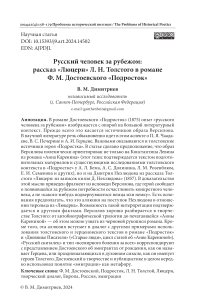Русский человек за рубежом: рассказ «Люцерн» Л. Н. Толстого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
Автор: Димитриев В.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В романе Достоевского «Подросток» (1875) опыт «русского человека за рубежом» изображается с опорой на большой литературный контекст. Прежде всего это касается источников образа Версилова. В научной литературе речь обыкновенно идет в этом аспекте о П. Я. Чаадаеве, В. С. Печерине и А. И. Герцене. Важными оказываются и толстовские источники героя «Подростка». В статье сделано предположение, что образ Версилова полемически ориентирован не только на Константина Левина из романа «Анна Каренина» (этот тезис подтверждается текстом подготовительных материалов и существующими исследованиями толстовского контекста в «Подростке» у А. Л. Бема, А. С. Долинина, Л. М. Розенблюм, Е. И. Семенова и других), но и на Дмитрия Нехлюдова из рассказа Толстого «Люцерн: из записок князя Д. Нехлюдова» (1857). В доказательство этой мысли приведен фрагмент из исповеди Версилова, где герой сообщает о появившейся за рубежом потребности осчастливить конкретного человека, а не «какого-нибудь подвернувшегося немца или немку». Есть основания предполагать, что это аллюзия на поступок Нехлюдова в отношении тирольца из «Люцерна». Возможность такой интерпретации подтверждается и другими фактами. Версилов хорошо разбирается в творчестве Толстого: от автобиографической трилогии до печатавшейся «Анны Карениной», об этом можно узнать в черновой рукописи романа. Кроме того, эта аллюзия вступает в диалог с другими примерами использования толстовского и герценовского текста в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» («Старые люди», цикл статей об «Анне Карениной»). «Русский скиталец» и тип «всемирного боления за всех» корреспондируют с представлением Достоевского об эмигрантах от рождения, как он называет Герцена, или праздношатающихся в духовном смысле, как он именует героев Толстого. Достоевский в творчестве и публицистике в целом нередко использовал понятие «эмиграции» как метафору.
Ф. м. достоевский, подросток, л. н. толстой, люцерн, творческий диалог, европа, Россия, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/147245765
IDR: 147245765 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14502
Текст научной статьи Русский человек за рубежом: рассказ «Люцерн» Л. Н. Толстого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-18-00762, , ИРЛИ РАН).
Т ема «русский человек за рубежом» в творчестве Достоевского открывает несколько перспектив. Можно рассмотреть, как его зарубежные поездки — в 1862 и 1863 гг., длительное пребывание в 1867–1871 гг. и краткие визиты в 1870-х — повлияли на взгляды и произведения писателя. Эти путешествия формируют отношение Достоевского к Европе, знакомят его с жизнью русской диаспоры и дают материал для публицистики и художественных текстов, что уже хорошо изучено ([Брусова-ни, Гальперина], [Захаров], [Аствацатурова], [Соловьев], [Достоевский, 2013–2022; т. 5: 416–438] и др.). Отдельный сюжет представляют отношения писателя с представителями русской эмиграции, нашедшие отражение в его творчестве ([Волгин], [Кибальник, 2022]). Наконец, эта тема относится к геополитическим и постколониальным исследованиям символической географии в русской классике XIX в. ([Пономарев], [Геополитическая карта]). Эти крупные сюжеты связаны и с рядом конкретных вопросов. Например, для понимания того, как изображали русских за границей, важно учитывать общественные и политические споры об отъезде дворян за рубеж [Гуськов]. А в изучении описания эмигрантского опыта полезно проанализировать социальные и литературные модели, которые повлияли на становление изгнаннической и эмигрантской политической риторики [Шёнле].
В этом исследовании рассмотрено, как складывались принципы изображения зарубежного опыта в творчестве Достоевского. Отдельное внимание сосредоточено на литературном контексте образа Версилова из романа «Подросток».
В письмах из-за рубежа 1867–1871 гг. Достоевский не единожды предпринимает попытку охарактеризовать жизнь русских в Европе: политических эмигрантов, путешественников-энтузиастов, да и просто заезжих аристократов, коротающих время на водах или за игровым столом. Эта тема — русские за рубежом, — волнующая его в качестве сюжета начиная с первого путешествия по Европе в 1862 г. и не оставляющая до конца жизни, становится в тяжелые и плодотворные для писателя годы одним из центральных объектов для наблюдения и изучения. Помимо описания жизни этих людей, он пытается охарактеризовать и свое состояние за границей, где, вопреки открывающемуся культурному богатству, переживает острую тоску и нехватку русской жизни. Тема финансового неблагополучия в письмах соединяется с темой ненормальности жизни за границей, перерастая в жалобах писателя в своеобразный синтез. Социальная беззащитность сливается с душевным расстройством.
В письме Аполлону Майкову от 26 октября (7 ноября) 1868 г. Достоевский настаивал:
«Переехав в Россию, я бы знал чем заняться и добыть денег; я таки добывал их в свое время. А здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю. Русского воздуха нет и людей нет. Я не понимаю, наконец, совсем русских эмигрантов. Это — сумасшедшие!» [Достоевский, 1972–1990; т. 28 2 : 322].
В определении эмигрантов как сумасшедших нет намека на буквальную психопатологию. Но разные формы эмиграции и болезнь часто оказываются слиты в творческом мышлении писателя.
Достоевский использовал слово «эмиграция» или «эмигрант» не только в прямом, но и в переносном значении. В статье «Старые люди» из «Дневника Писателя» за 1873 г. он писал про Герцена:
«Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde <русский дворянин и гражданин мира (франц.)> прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России» [Достоевский, 1972–1990; т. 21: 8–9].
Эмигрант в ценностной картине Достоевского был противопоставлен тому «химическому соединению человеческого духа с родной землей» [Достоевский, 1972–1990; т. 5: 52], о возможном существовании которого вопрошает рассказчик «Зимних заметок о летних впечатлениях». Эмигрант оказывается изгнан со своей земли в первую очередь в духовном смысле. Метафорический комплекс «оторванности от почвы», столь волнующий писателя начиная с его публицистических работ 1860-х гг., прекрасно иллюстрируется физическим отрывом эмигранта от родной земли. Приведем в пример анализ одной записи из рукописей Достоевского 1864–1866 гг., сделанный Н. А. Тарасовой. В новой расшифровке запись, где речь идет о русском образованном слое, выглядит так:
«Это остатки прежняго либерализма, имѣвшаго свой историчес-к складъ, но совершенно отжившаго и присутствующаго еще въ огромной массѣ отжившихъ людей, ходячихъ труповъ, Абадоннъ , отъ земли отставшихъ и никуда не приставшихъ, которые представляютъ изъ себя вялое, пошлое поколѣнiе нашихъ шатающихся даромъ лишнихъ людей. Теперь наступаютъ совсѣмъ другiя идеи. Идеи почвы и земства, неразрывности съ цѣлымъ, единства съ нар<одомъ>» [Тарасова: 369–370].
Исследовательница показывает связь этой записи с комплексом почвеннических идей Достоевского, формирующихся в период работы над журналом «Время». Важно отдельно подчеркнуть вскрываемую в статье романтическую генеалогию образа «Абадонн, от земли отставших». Эмигрантская тоска и «праздношатание» в публицистике и прозе Достоевского изображаются с опорой на романтические модели изгнания.
На страницах публицистики и художественной прозы, в особенности начиная с романа «Игрок», Достоевский исследует разные способы изображения литературной судьбы своих героев-изгнанников или заграничных путешественников. Мир эмигрантов у Достоевского имеет нередко отношение к французам и полякам и изображен сатирически. Вспомним, к примеру, бедного эмигранта, увивающегося перед «бабушкой» в «Игроке» [Достоевский, 1972–1990; т. 5: 266], или польского графа-эмигранта, увезшего Аглаю в «Идиоте», о котором затем стало известно, что «граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какой-то темною и двусмысленною историей» [Достоевский, 1972–1990; т. 8: 509].
Важно при этом, какое событие становится узловым моментом сюжета — отъезд героя за рубеж или его возвращение в Россию. Согласно подготовительным материалам к «Идиоту», Ганя Иволгин должен был стать эмигрантом, и это одна из его характеристик в замысле писателя: «…слабость, добрые наклон-н<ости>, ум, стыд, стал эмигрантом» [Достоевский, 1972–1990; т. 9: 280]. Возвратившимися эмигрантами были Кириллов и Шатов. Известно, какое значение имел случай «раскаявшегося» апатрида В. И. Кельсиева для генезиса Шатова и для его героизации в «Бесах» [Достоевский, 1972–1990; т. 12: 233]. Обратная ситуация — с планируемым бегством за рубеж другого героя романа, Липутина:
«У него давно уже был припасен паспорт на чужое имя <…> чтобы с помощью его улизнуть за границу, если … допускал же он возможность этого если ! хотя, конечно, он и сам никогда не мог формулировать, что именно могло бы обозначать это если …».
Ему пришла в голову «отчаянная идея» «бросить все и экспатриироваться за границу! Кто не поверит, что такие фантастические вещи случаются в нашей обыденной действительности и теперь, тот пусть справится с биографией всех русских настоящих эмигрантов за границей. Ни один не убежал умнее и реальнее. Всё то же необузданное царство призраков и более ничего» [Достоевский, 1972–1990; т. 10: 430].
Эмиграция — это поступок фантастический в мире Достоевского. Связь эмигрантского опыта и болезни в текстах писателя всякий раз обнаруживает также и свою литературную генеалогию. Обыгрывание зарубежного опыта так или иначе оказывается связано с романтическим сюжетом изгнания или самой жизни как изгнания. Этот образный ряд запускается, скажем, в «Идиоте», в уже упоминаемом фрагменте, когда Мышкин узнает в словах Ипполита Терентьева о мушке на пире жизни свои собственные мысли в первый год лечения в Швейцарии. В исследовательской литературе ([Террас], [Бочаров], [Жи-лякова]) эти приступы беспокойства героев возводятся к богатой литературной традиции: стихотворению Н. Жильбера и элегической традиции, включающей в себя тексты А. Шенье, его переложения В. А. Жуковским, а также стихи Ф. И. Тютчева и Е. А. Боратынского [Достоевский, 2013–2022; т. 9: 798–799].
Эмигрантами во второй половине XIX в. называли себя политические изгнанники, находящиеся в оппозиции к государственному режиму в России. Нарушение установленных норм пребывания за границей, включая проживание за пределами страны более пяти лет без веских на то оснований, влекло за собой утрату гражданских прав для выехавшего ([Гуськов: 180–181]; см. литературу там же). Для людей, временно находящихся за рубежом, живущих наездами, в русской публицистике были другие наименования. Мягкие или нейтральные, вроде туристы и путешественники. Или оценочные — например, «русские "гулящие люди"» — понятие, принадлежащее юридическому словарю допетровской Руси, но появившееся в критическом воззвании И. С. Аксакова 1863 г. «Из Парижа» («День», 1863, 12, 16, 23 марта, 20 апреля). Оно адресовалось русским дворянам за рубежом и требовало от них возвращения в сложный пореформенный период российской жизни. Понятие из статьи Аксакова было использовано в очерке «Русские гулящие люди за границей» Салтыкова-Щедрина («Современник», 1863, № 5). В отношении русских за рубежом могло употребляться также и слово «праздношатающиеся». Это название применяет для рассказов «Людоедка» (1874) и «Перекатов» (1875) Н. И. Утина, опубликовавшая их под псевдонимом А. Урбан. Рассказам дан подзаголовок «Очерки из жизни праздношатающихся за границей». «Книгой о праздношатающихся» сперва хотел назвать Салтыков-Щедрин своих «Культурных людей» — впечатления о первой заграничной поездке, опубликованные в 1876 г.
Сатирический потенциал образа «русского человека за рубежом», который находится там без всякой цели, «праздно» и «гуляя», был не в последнюю очередь связан с одной из констант изгнаннического мышления XIX в.: эффектом двойного изгнания. Об этом пишет Андреас Шёнле как об одной из ключевых особенностей эмигрантской риторики и эмигрантского существования. Для русского интеллектуала XIX в. даже просто длительное пребывание за рубежом становится вторичным изгнанием, поскольку и до жизни за границей будущие изгнанники не воспринимали Россию как свой дом. Шёнле рассуждает об этом на примере одного из первых политических эмигрантов — Н. И. Тургенева:
«Отличительная черта тургеневского изгнания состояла в том, что у него никогда не было "подлинного дома" <…> Тургенев нигде не чувствовал себя полностью своим. Как Гоголь и многие другие, Тургенев только из своего далека, с безопасного расстояния мог воображать Россию чем-то вроде родного дома. Но стоило ему вернуться, и его тотчас охватывало желание снова сбежать» [Шёнле: 73].
Эта цитата корреспондирует с тем, как Достоевский склонен был характеризовать Герцена в статье «Старые люди», говоря о его «врожденном» эмигрантстве.
Вместе с тем для литературного освоения европейского опыта характерна и другая особенность — движение в познании зарубежного мира от воображения к реальности.
Вера Аствацатурова сравнивает Европу Толстого и Достоевского на материале их первых зарубежных путешествий и первых художественных впечатлений от них — то есть рассказа «Люцерн. Из записок князя Д. Нехлюдова» (1857) и «Зимних заметок о летних впечатлениях» (1863). Исследовательница отмечает, что в обоих случаях мы наблюдаем переход от виртуального образа Европы, полученного из образования, книг и газет — к реальным впечатлениям от путешествия: «…оба писателя — и Толстой и Достоевский, еще не увидав Европы, уже впитали в себя европейскую культуру, ставшую частью их мировосприятия. Они ехали в Европу, уже будучи в каком-то смысле "европейцами", во всяком случае европейски воспитанными. Первое личное знакомство обоих писателей с реальной Европой относится примерно к одному и тому же времени. Толстой впервые оказывается в Европе в 1857 году, Достоевский — в 1862-м» [Аствацатурова: 319].
Для характеристики символического перемещения от воображения к реальности, характерного для этих поездок, хорошо подходит цитата из «Былого и дум» Герцена, главы, опубликованной в 1856 г. «Мы вообще знаем, — пишет Герцен, — Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим à livre ouvert, по книжкам и картинкам так, как дети судят по "Orbis pictus" о настоящем мире, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами и что где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами. Наше классическое незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения»3.
Классическим незнанием или книжным знанием обладают все путешествующие за рубеж русские интеллектуалы. Более того, это прямо рефлексируется на страницах текстов состоявшихся или несостоявшихся путешественников [Соловьев: 105–110 и далее].
Салтыков-Щедрин пишет в 1863 г.:
«Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как "Русские за границей" <…> Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть»4.
И правда, писатель отправится впервые за границу более чем через десять лет.
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» читаем:
«Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз» [Достоевский, 1972–1990; т. 5: 46].
В «Люцерне» Толстого говорится о рассказанной истории следующее:
«Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, за писываемые в газетах и историях»5.
Все три примера, а их могло быть и больше, показывают, что книжность и иллюзорность, условность образа Европы в воображении русского образованного читателя была отреф-лексирована и в прозе.
Толстой и Достоевский проделывают путь с Востока на Запад. От воображаемой Европы к реальным впечатлениям, порождающим новый ее образ. Их будущие герои, варианты «положительно прекрасного» человека, Пьер Безухов и князь Мышкин, проделают обратный путь — с Запада на Восток, от воображаемой России, о которой они думали за границей, к реальным впечатлениям от нее. Еще Л. М. Лотман обращала внимание не только на близость двух этих героев, но и на пересечения сюжетных деталей, сопровождающих их ввод в повествование: отпрыски знатного рода, внезапное наследство, инаковость в отношении остальных героев: «Оба героя после длительного пребывания и воспитания за границей приезжают на родину и оказываются перед необходимостью выбирать себе сферу деятельности. Получив большое наследство, каждый из них "освобождается" от необходимости вести борьбу за существование и, отказавшись от намерения найти себе практическое занятие — службу, труд ради заработка, — решает совершить поездку по России, ближе узнать свою родину» [Лотман: 278]. В определенном смысле эти герои могут восприниматься и как иностранцы, чужаки, только узнающие Россию.
Неслучайно потому, что иностранец мистер Астлей из романа «Игрок», как показывает С. А. Кибальник, может считаться одним из ранних вариантов разработки «положительно прекрасного» человека и парадоксальным образом «открывает череду героев Достоевского, которые оказываются как бы нравственным камертоном, осуждающим русское "скитальни-чество" по Европе, — таких, как, например, Лизавета Прокофьевна Епанчина» [Кибальник, 2017: 290].
Один из наиболее полно реализованных у Достоевского подходов к изображению русского человека за рубежом можно найти в фигуре Версилова из романа «Подросток».
Система прототипов, связанных с этим героем, отсылает не в последнюю очередь к истории эмиграции, физическому или духовному скитальничеству XIX в. Персонаж Грибоедова
Чацкий и тургеневский Рудин, реальные личности П. Я. Чаадаев, В. С. Печерин и А. И. Герцен подготовляют отдельные черты в характере и биографии Версилова. Связи Версилова с этими прототипами посвящена большая исследовательская литература (основные выводы с указанием авторства гипотез см.: [Достоевский, 1972–1990; т. 17: 288–292]).
Мы же позволим себе попробовать дополнить ряд прототипов расширением толстовского интертекста. Обратимся к одному фрагменту из так называемой «исповеди» Версилова, то есть пространного разговора с Аркадием Долгоруким в завершающей части романа, где появляются рассуждения героя об идее «всемирного боления» за всех, миссии русского скитальца, изгнанника и эмигранта. Версилов рассказывает Подростку, что в какой-то момент их гражданской семейной жизни с Софьей Андреевной, матерью Аркадия, он решает оставить ее. Как он говорит, «разжениться». Он уезжает за рубеж: «Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал». Аркадий вопрошает: «К Герцену?». В ответ слышит: «Дворянская тоска и ничего больше» [Достоевский, 1972–1990; т. 13: 373–374]. Дворянская тоска и связывает нас с толстовским интертекстом.
Роман «Подросток», как известно, был в том числе мотивирован желанием Достоевского вступить в художественную полемику с Толстым. Эти темы не один раз становились предметом исследования, начиная с классических работ А. Л. Бема, А. С. Долинина, Л. М. Розенблюм, Е. И. Семенова и других ([Бем], [Долинин], [Розенблюм], [Семенов]). Это касается полемики с автобиографической трилогией, семейного вопроса [По-рошенков], роли Толстого как изобразителя дворянства [Ша-варинская], генетической связи «Пьер Безухов — Аркадий Долгорукий», мотива «благообразия» и споров о современном романе.
Версилов противопоставлен и одновременно наследует героям Толстого, и в том числе Левину из «Анны Карениной». В героях двух разных авторов воплощены представления о судьбе дворянства в современной России. В черновом варианте исповеди Версилова появляется прямая аллюзия на Левина:
«В последних произведениях своих художник берет уже время новейшее, современное. Мальчик, которого он описывал в детстве, уже вырос, он — современный помещик без крестьян, но с хозяйством. Он не любит земских собраний и не ездит на них. Он, как Иаков, идет к Лавану за женой из своего рода, но… но он как будто еще не готов к чему-то, он как-то вдруг стал задумчив… какая-то как бы тихая и недоумевающая меланхолия лежит на его действии и на его мировоззрении…» [Достоевский, 1972–1990; т. 17: 143].
Это суждение Версилова о Левине делается пока лишь на основании первых частей романа Толстого. Однако в подготовительных материалах встречаются и другие характеристики героев Толстого — Николеньки, Пьера Безухова, Левина — как героев «мелкого самолюбия», из планируемого, но не осуществленного «предисловия» к роману. Версилов входит в их число, и вместе с тем он герой современный, знающий постоянный духовный разлад и потому противопоставленный толстовским «гармоничным» героям ([Долинин: 193–195], [Достоевский, 1972–1990; т. 17: 343]). Достоевский вернется к критике Левина в «Дневнике Писателя» за 1877 г. Завершение левинской линии в романе Толстого, и конкретно безразличное и неблагожелательное отношение героя к началу войны с Турцией 1877–1878 гг., только усилило недоверие Достоевского. В Левине он видит теперь «оттенок чего-то, что можно назвать праздношатайством — тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое как он ни крепись, а всё же досталось ему по наследству и которое, уж конечно, видит во всяком барине народ, благо не нашими глазами смотрит» [Достоевский, 1972–1990; т. 25: 205].
Это «праздношатайство» и «недоумевающая меланхолия», несмотря на всю кажущуюся вовлеченность героя в жизнь своих крестьян, делает и его, и самого Версилова похожими на человека, который «так уж и родился эмигрантом», если вновь воспользоваться формулой из «Старых людей».
Версилов задумывался Достоевским не только с оглядкой на творчество Толстого, но и как его преданный читатель. В черновой рукописи он признается Аркадию:
«У меня, мой милый, есть один любимый русский писатель. Он романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства» [Достоевский, 1972–1990; т. 17: 142].
Непрозрачные намеки и другие фрагменты указывают, что этот романист — Толстой. Реплики Версилова демонстрируют, что он хорошо знает тексты своего «любимого русского писателя», вплоть до самых последних публикаций еще создаваемого романа «Анна Каренина».
В свете такой осведомленности Версилова-читателя кажется, что один из фрагментов в исповеди находит еще один контекст.
Мы снова возвращаемся к словам Версилова о своем решении навсегда эмигрировать. Он уезжает за границу без Софьи Андреевны. Однако там «заочно, то есть в мыслях», снова полюбил ее и «послал за нею», «вспомнив, как он говорит, ее бледные щеки». Из этой затеи не вышло, конечно же, никакого счастливого воссоединения. Между отцом и сыном происходит следующий диалог:
«— Друг мой, — вырвалось у него (Версилова. — В. Д .), между прочим, — я вдруг сознал, что мое служение идее вовсе не освобождает меня, как нравственно-разумное существо, от обязанности сделать в продолжение моей жизни хоть одного человека счастливым практически.
— Неужели такая книжная мысль была всему причиной? — спросил я с недоумением.
— Это — не книжная мысль. А впрочем, — пожалуй. Тут всё, однако же, вместе: ведь я же любил твою маму в самом деле, искренно, не книжно. Не любил бы так — не послал бы за нею, а "осчастливил" бы какого-нибудь подвернувшегося немца или немку, если уж выдумал эту идею» [Достоевский, 1972–1990; т. 13: 381].
Есть основания предполагать, что этот фрагмент представляет собой аллюзию на знаменитый рассказ Толстого «Люцерн» (1857). В этом рассказе автобиографический герой, князь Дмитрий Нехлюдов, в порыве гнева и руководствуясь чувством справедливости, решает угостить самым дорогим вином уличного музыканта-тирольца в швейцарском городе Швейцер-гоф. Нехлюдов возмущен безразличием отельных богатых постояльцев. Музыкант играл полчаса, его слушала собравшаяся толпа, но ни один из слушающих музыканту не заплатил. Оказывается, утонченность образования и богатство культуры не способствуют проявлению простой благодарности. Толстовский герой разражается инвективой в адрес всей европейской цивилизации.
В рассказе Толстого последовательно развенчиваются две иллюзии: иллюзия блага цивилизационного развития и иллюзия того, что Нехлюдов оказывает подлинную помощь. Прямое действие, благодетельство Нехлюдова в отношении певца, его желание «осчастливить» подвернувшегося тирольца, который чувствует неудобство от приема, оказываемого ему, мало чем отличается от сытого безразличия постояльцев отеля и пренебрежения жителей Швейцергофа. На место одной иллюзии, где воображаемая реальность книжной Европы скрывает ее подлинную жизнь, встает другая — иллюзия благодеяния, за которым скрывается необходимость выплеснуть гнев, доказать свою правоту и превратить в дар свое желание убить обидчиков; здесь герой вспоминает также и личный военный опыт. Впрочем, и Версилов чувствует тягу к Софье и к воплощаемой ей России только на расстоянии и в воображении.
Версилова и Нехлюдова роднит и «праздношатание», культурная тоска русского за границей, толкающая героев на вмешательство в существующий порядок вещей, и — пусть очень разное, но — представление о миссии русского за границей. Еще в 1862 г. Ап. Григорьев для журнала «Время» на примере произведений Толстого рассуждал о различии между «хищными» и «смирными» типами в русской литературе и культуре. О толстовском, по его мнению, предпочтении «смирного» — «хищному» он пишет так: «…этот анализ, дошедший до любви к смирному типу преимущественно по неверию в блестящий и хищный тип, в конце концов, не опираясь на почву, дающую оба типа, ведет к какому-то пантеистическому отчаянию, очевидному в "Люцерне", "Альберте" и выразившемуся еще прежде в "Записках маркера"»6. Возникает своего рода парадокс: защита чести «смирного» тирольца происходит за счет нрава экзальтированного Нехлюдова, чей характер представляет из себя, согласно Григорьеву, «жизненное последствие той особенной обстановки так называемого аристократического мирка, в которой он заключен, как в раковине…»7. Кажется, что этот анализ толстовского Нехлюдова в статье Григорьева в свете его теории «хищного» и «смирного» типов — добавляет еще один контекст для возможной генетической связи «Нехлюдов — Версилов». Известно, что Достоевский рассуждал о «хищном» типе, когда работал над образом Версилова. Об этом есть соответствующие записи в подготовительных материалах, и это становилось предметом исследовательского внимания [Достоевский, 1972–1990; т. 17: 267–269]. Способность сочетать «хищное» и «смирное» начала характеризует гармоническое развитие личности и отвечает почвенническим идеям Григорьева. Но также эта тема связывает нас с двойничеством «хищного» и «смирного» Версилова в «Подростке» Достоевского и историософскими рассуждениями писателя о русском национальном характере8.
«Праздношатание» ведет линию и от Нехлюдова к Левину, между которыми как между автобиографическими героями есть генетическая связь. Но Версилов подчеркивает, что желание сделать хотя бы одного человека счастливым невозможно удовлетворить отвлеченным благодеянием незнакомцу. Он противопоставлен Нехлюдову и наследующим ему другим героям Толстого. Фраза Версилова, что если уж он выдумал эту идею, то мог бы осчастливить «какого-нибудь подвернувшегося немца или немку», позволяет продолжить линию толстовского интертекста в творчество 1850-х гг. — не только к автобиографической трилогии, но и к рассказу «Люцерн», первому художественному высказыванию Толстого о своем заграничном путешествии.
Список литературы Русский человек за рубежом: рассказ «Люцерн» Л. Н. Толстого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»
- Аствацатурова В. В. Европа Толстого и Европа Достоевского: опыт сравнительного анализа // Фридрих Гёльдерлин и идея Европы: коллективная монография по материалам IV Междунар. конф. по компаративным исследованиям национальных языков и культур / под ред. С. Л. Фокина. СПб., 2017. С. 317–334. EDN: YPSMIE
- Бем А. Л. Художественная полемика с Толстым: к пониманию «Подростка» // Вокруг Достоевского: в 2 т. М.: Русский путь, 2007. Т. 1: О Достоевском: сб. ст. / под ред. А. Л. Бема. С. 535–552.
- Бочаров С. Г. «О бессмысленная вечность!». От «Недоноска» к «Идиоту» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М.: Наследие, 2001. С. 111–136.
- Брусовани М. И., Гальперина Р. Г. Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1988. Т. 8. С. 572–591.
- Волгин И. Л. Достоевский как турист (1862): открытие Европы или тайный визит к Искандеру? // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 3. С. 31–71 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1633769667.pdf (11.08.2024). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5541
- Геополитическая карта и картина мира Ф. М. Достоевского / Е. Г. Новикова, А. И. Щербинин, С. В. Вировец и др.; под ред. Е. Г. Новиковой, А. И. Щербинина. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2021. 288 с.
- Гуськов С. Н. Зачем «Северная почта» в 1863 году призывала русских дворян вернуться на родину? (Еще раз о деятельности И. А. Гончарова на посту главного редактора правительственной газеты). Приложение. И. П. Письмо в редакцию «Северной почты» // Русская литература.
- 2023. № 4. С. 180–191 [Электронный ресурс]. URL: http://pushkinskijdom.ru/wp-content/uploads/2023/10/15_Guskov_180-191.pdf (11.08.2024). DOI: 10.31860/0131-6095-2023-4-180-191
- Димитриев В. М. Сопротивление памяти в «Исповеди» Ставрогина //
- Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2021. № 1 (13). С. 82–105 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/2021-1/02_Dimitriev_82-105.pdf (11.08.2024). DOI: 10.22455/2619-0311-2021-1-82-105
- Долинин А. С. Последние романы Достоевского: как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л.: Сов. писатель, 1963. 342 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. СПб.: Наука, 2013–2022. Т. 1–11.–
- Жилякова Э. М. Поэтика «невыразимого» в романе «Идиот» (Ф. М. Достоевский и В. А. Жуковский) // Роман Достоевского «Идиот»: раздумья, проблемы: межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 1999. С. 47–59. EDN: YFJSGR
- Захаров В. Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 180–201 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516399.pdf (11.08.2024). EDN: RTXNDJ
- Кибальник С. А. «Положительно прекрасный» герой-европеец (образ Европы в творчестве Ф. М. Достоевского 1860-х годов) // Фридрих Гёльдерлин и идея Европы: коллективная монография по материалам IV Междунар конф. по компаративным исследованиям национальных языков и культур / под ред. С. Л. Фокина. СПб., 2017. С. 286–299.
- Кибальник С. А. «Молодая эмиграция» в романе «Идиот» // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2022. № 4. С. 164–174 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.philol.msu.ru/issues/VMU_9_Philol__2022_4.pdf (11.08.2024).
- Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: истоки и эстетическое своеобразие. Л.: Наука, 1974. 348 с.
- Пономарев Е. Р. Русский имперский травелог // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. С. 33–44 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/144_nlo_2_2017/article/12412/ (11.08.2024). EDN: ZEKJQP
- Порошенков Е. П. Тема «случайного семейства» в романах Л. Толстого «Анна Каренина» и Ф. Достоевского «Подросток» // Доклады и сообщения XII Толстовских чтений / под ред. М. П. Николаева. Тула: ТГПИ, 1973. С. 140–149. (Сер.: Толстовский сборник; вып. 5.)
- Розенблюм Л. М. Творческая лаборатория Достоевского-романиста [«Подросток»] // Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток»: творческие рукописи. М.: Наука, 1965. С. 7–56. (Сер.: Лит. наследство; т. 77.)
- Семенов Е. И. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: проблематика и жанр. Л.: Наука, 1979. 167 с.
- Соловьев А. Ю. Проблема «Россия и Европа» в русских литературных путешествиях (Фонвизин — Карамзин — Достоевский): дис. … д-ра филол. наук. Тарту: University of Tartu Press, 2022. 243 с.
- Тарасова Н. А. «Абадонны, от земли отставшие»: непрочитанная запись Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 368–381 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2635 (11.08.2024). EDN: RUYLBV
- Террас В. Диссонанс в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Записки Русской Академической группы в США: Dostoevsky Commemorative Volume. Нью-Йорк, 1981. Т. 14. С. 60–68.
- Шаваринская С. Р. Размышления о судьбах русского дворянства на страницах романов Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и Ф. М. Достоевского «Подросток» // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2012. Т. 18. № 2. С. 154–157 [Электронный ресурс]. URL: www.elibrary.ru/download/elibrary_18942799_73529488.pdf (11.08.2024). EDN: PYNQXX
- Шёнле А. Эмоциональная, моральная и идеологическая амбивалентность изгнания. Николай Тургенев и перформанс политической эмиграции // Век диаспоры: траектории зарубежной русской литературы (1920–2020): сб. ст. / под ред. Марии Рубинс. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 52–89. (Сер.: Научное приложение; вып. CCVIII.)