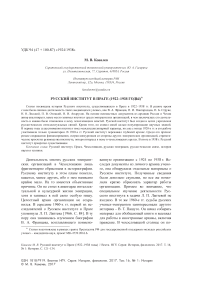Русский институт в Праге (1922-1938 годы)
Автор: Ковалев Михаил Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории Русского института, существовавшего в Праге в 1922-1938 гг. В разное время с ним была связана деятельность таких выдающихся ученых, как В. А. Францев, П. И. Новгородцев, П. Б. Струве, Н. О. Лосский, П. В. Отоцкий, Н. И. Андрусов. На основе неизвестных документов из архивов России и Чехии автор анализирует, какое место занимал институт среди эмигрантских организаций, в чем заключалась его деятельность и каково было отношение к нему чехословацких властей. Русский институт был создан в целях укрепления русско-чешских интеллектуальных связей. Кроме того, он ставил своей целью популяризацию научных знаний. В первые годы существования институт имел междисциплинарный характер, но уже с конца 1920-х гг. в его работе участвовали только гуманитарии. В 1930-х гг. Русский институт переживал глубокий кризис. Среди его причин: резкое сокращение финансирования, острая конкуренция со стороны других эмигрантских организаций, стратегические просчеты руководства института, потеря интереса к нему в чехословацких кругах. В итоге в 1938 г. Русский институт прекратил существование.
Русский институт, прага, чехословакия, русская эмиграция, русско-чешские связи, история науки и техники
Короткий адрес: https://sciup.org/147219687
IDR: 147219687 | УДК: 94
Текст научной статьи Русский институт в Праге (1922-1938 годы)
Деятельность многих русских эмигрантских организаций в Чехословакии лишь фрагментарно обрисована в историографии. Русскому институту в этом плане повезло, кажется, менее других, ибо о нем написано крайне мало. На то имеются объективные причины. Он не стоял в авангарде интеллектуальной и культурной жизни эмиграции, хотя и занимал в ней свою особую нишу. Целостный архив организации не сохранился. В середине 1960-х гг. первой из исследователей о Русском институте в Праге упомянула Л. П. Лаптева [1966. C. 84]. В ту пору она занималась изучением биографии В. А. Францева, возглавлявшего поимено- ванную организацию с 1924 по 1938 г. Исследуя документы из личного архива ученого, она обнаружила отдельные материалы о Русском институте. Полученные сведения были довольно скупыми, но все же позволили кратко обрисовать характер работы организации. Примем во внимание, что специальное изучение деятельности Русского института в задачи Л. П. Лаптевой не входило. В те же 1960-е гг. судьбы русских ученых-эмигрантов заинтересовали другого историка – В. Т. Пашуто. Он начал собирать материал для обобщающей книги и выезжал для работы в иностранные архивы, включая пражские. В чехословацкой столице он по-
⃰ Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, проект МК-4739.2016.6.
Ковалев М. В. Русский институт в Праге (1922–1938 годы) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 1: История. С. 121–134.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 1: История © М. В. Ковалев, 2017
знакомился с некоторыми представителями русской эмиграции, в том числе с историком литературы И. О. Панасом, который стал для него источником информации о деятельности Русского института. В. Т. Пашуто интересовало в первую очередь историографическое наследие ученых-эмигрантов, а потому в центре его внимания оказалась не столько история научной организации, сколько ее издательская работа. Он подготовил очерк о «Сборниках» Русского института в Праге, который был издан посмертно в 1992 г. [Па-шуто, 1992. С. 60–64].
Парадоксально, но в 1990–2000-е гг. на волне огромного интереса к истории Зарубежной России о Русском институте по-прежнему писали довольно фрагментарно, часто просто пересказывая уже известные факты [Коробкова, 2013. С. 56–57]. Даже в авторитетных исследованиях ему уделялось незначительное место [Серапионова, 1995. С. 126–127; Andreyev, Savický, 2004. P. 102– 103]. Никто не пытался специально раскрыть роль института в эмигрантской интеллектуальной жизни. Только в 2008 г. специальный очерк о нем подготовил Ю. Н. Емельянов [2008. С. 73–95]. Правда, основное внимание автор сосредоточил на изложении содержания статей из институтского «Сборника»; об истории самой организации почти ничего не сказано. Судя по научному аппарату, архивные документы для написания очерка не использовались. В тексте Ю. Н. Емельянова содержатся несколько досадных фактических ошибок. Он, например, связывает возникновение организации с «деятельностью Славяноведческого института, руководимого П. И. Новгородцевым» [Там же. С. 73]. Этот тезис, вероятно, возник из-за превратного толкования слов В. Т. Пашуто, который указал на связь «Сборников Русского института в Праге» с «деятельностью славяноведческого института, работа которого неотделима от имени… Владимира Андреевича Францева» [Пашуто, 1992. С. 60]. Советский историк явно имел в виду Славянский институт, созданный чехословацким правительством. Никакого же эмигрантского «Славяноведческого института» во главе с П. И. Новгородцевым в Праге не существовало.
Другая ошибка Ю. Н. Емельянова состоит в том, что он отнес начало работы Русского института к 1928 г. В действительности она началась в 1922 г. В перечне директоров организации названо имя проф. А. С. Ломша-кова. Он, как увидим в дальнейшем, принял в создании Русского института самое активное и деятельное участие, но его главой никогда не был. М. Г. Вандалковская, видимо, также неверно трактуя слова В. Т. Пашуто, в нескольких своих работах упоминает о «Русском научном (Славяноведческом) институте», который возглавлял В. А. Францев [Вандалковская, 1999. С. 99; 2005. С. 111]. Из контекста ее повествования становится ясно, что речь здесь явно идет о Русском институте. Однако слово «Славяноведческий» никогда не употреблялось применительно к нему. В своей статье 2008 г. М. Г. Вандалковская устраняет ошибку, убрав из названия Русского института слово «Славяноведческий», но при этом почему-то прибавив к нему «имени Я. А. Коменского» [2008. С. 9]. Этот факт действительности не соответствует, в честь великого чешского педагога было названо другое эмигрантское учреждение – Русский педагогический институт.
В фундаментальной монографии В. Ю. Волошиной содержится неверное утверждение, будто Русский институт в Праге прекратил свою деятельность в 1928 г. после создания Русского научного института в Белграде [2013. С. 179]. Это мнение ошибочно, более того, пражский и белградский институты, несмотря на схожесть названий, ставили перед собой разные задачи и имели различную структуру. Данное недоразумение родилось путем некритического переноса мнения чешского историка З. Сладека [1991. С. 28–29; Sládek, 1993. S. 6] 1, который в своих суждениях опирался на сомнительный источник 2. Можно засвидетельствовать, что деятельность Русского института в Праге в современной историографии остается практически неизученной. Восполнить данный пробел возможно лишь при условии привлечения новых архивных документов.
Решение о создании Русского института было принято 16 октября 1922 г. на Втором съезде Русских академических организаций за границей [Ковалев, 2013. С. 85–92]. П. И. Новгородцев в своем выступлении объяснил необходимость его открытия именно в Праге культурной близостью славянских народов [Съезды..., 1923. С. 118]. Он полагал, что в будущем подобные институты могут возникнуть и в других странах; речь шла о широкой пропаганде русской культуры в мире, а потому задачи Русского института выходили за сугубо эмигрантские границы. Цель его работы заключалась в «поддержании изучения науки, искусства, литературы, права, хозяйства, истории и природных сил России» [Второй съезд русских ученых, 1922. С. 22]. Необходимо отдать должное проф. А. С. Ломшакову, который активно поддерживал создание Русского института. Он был авторитетным ученым, пользовавшимся большим уважением президента Т. Масарика. А. С. Ломшаков был чужд политиканства и требовал аполитичности от других. Неудивительно, что он стал врагом в глазах эсеров, ибо именно они в значительной степени контролировали Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословакии (Пражский Земгор), возникшее в марте 1921 г. и ставшее посредником между правительством республики и эмиграцией в деле оказания ей материальной помощи 3. Эсеры все время пытались вмешиваться в научную и культурную жизнь, что вызывало протесты со стороны либерально настроенной части эмиграции, поэтому сотрудничество с ними для многих казалось предосудительным. Е. П. Серапионова указала, что «эмигрантские круги, далекие от эсеров, выражали недовольство тем, что последним удалось сосредоточить в своих руках основные средства, отпускаемые на эмиграцию» [2005. P. 806]. Это было не только идейное противостояние, но и конкуренция за контроль над финансовыми потоками, за распределение средств, получаемых от чехословацкого правительства.
Пражский Земгор попытался блокировать открытие Русского института. Эсеры имели хорошие отношения с Министерством иностранных дел Чехословакии, дабы убедить чиновников, что сами готовы взять на себя ведущую роль в изучении России. Но А. С. Ломшаков, также имевший обширные связи в чехословацких кругах, сумел получить необходимые для организации института средства из неправительственных источников. Как верно заметили Е. Н. Андреева и И. П. Савицкий, чехословацкие предприниматели были заинтересованы в аналитике потенциального русского рынка. Создание Русского института можно расценивать как первую попытку завязать деловые отношения между эмиграцией и чехословацким окружением на неполитической, беспартийной основе [Andreyev, Savický, 2004. P. 102– 103]. Кажется, что и правительственная среда осознавала важность создания аналитического и консультативного центра. В бумагах чешского геолога Р. Кеттнера сохранилась небольшая записка, которая ясно очерчивает все эти стратегические задачи, исходившие из представлений о неразрывной связи России и славянства. Среди них, помимо знакомства чехословацкого общества с духовной и материальной культурой русского народа, обозначены выгоды торгово-промышленного сотрудничества. Россия рассматривалась как крупнейший рынок сбыта чехословацких товаров, а Чехословакии отводилась роль экономического посредника между Россией и Западной Европой 4.
Первым директором Русского института стал проф. П. И. Новгородцев. Его фигура была, вероятно, компромиссной, поскольку устраивала и эсеров, и либералов, и тех, кто старался держаться вне политики. Он был крупным правоведом и, что важно, имел большой опыт административной работы. Восемнадцатого октября 1922 г. состоялось первое заседание правления Русского института под председательством П. И. Новгородцева. В его состав вошли Н. И. Андрусов,
П. Б. Струве, Н. П. Кондаков, В. А. Францев, А. С. Ломшаков, А. А. Копылов, Н. В. Ястребов, И. Д. Жуков, К. г. Шиндлер, В. И. Исаев. Секретарями правления стали г. В. Флоров-ский и М. А. Циммерман 5.
Поскольку создание Русского института было неодобрительно встречено в кругу эсеров, они попытались в противовес ему развивать свою научно-просветительскую инфраструктуру. По этой причине культурно-просветительская комиссия Пражского Земгора резко активизировала работу. Еще летом 1922 г. Земгор заявил о необходимости создания Народного университета, но тогда, по словам С. Тейхмановой, на воплощение в жизнь этого проекта не нашлось средств [Tejchmanova, 1994. S. 147]. И все же причина, думается, была не в деньгах. Перед эсерами встала проблема с преподавательскими кадрами, о которой красноречиво говорят автобиографические заметки видного эсера П. Д. Климушкина: «Средств тогда у Земгора было очень много, и, следовательно, за этим дело не станет. Но вот с лекторским персоналом дело обстояло весьма плохо. Лекторов, благосклонно относящихся к Земгору, на содействие коих мы могли рассчитывать, безусловно, было чрезвычайно мало. Пять-шесть человек и только. Профессура <…> в большинстве своем относилась к Земгору сдержанно, стараясь уклониться от участия в его культурных начинаниях» 6. Создание Русского института, подконтрольного Союзу Русских академических организаций за границей, а не Земгору, побудило эсеров предпринять ответные меры. Они начали активно агитировать ученых подключиться к масштабной лекционной работе, имея в виду скорое создание Народного университета.
Приведем еще один отрывок из заметок П. Д. Климушкина, который обрисовывает расстановку сил в 1923 г.: «Нужно отметить, что профессорской группой еще раньше был организован так называемый “Русский Научный Институт”, но деятельность его была весьма слаба. Председателем Совета Научного Института был профессор П. И. Новгородцев. Узнав о рассылке нами приглашений профессорам, он заволновался, его, как он говорил нам, беспокоило, главным образом, то, что мы будем дублировать ту же работу, какую ведет и Научный Институт. После некоторых предварительных разговоров было условлено, что мы устроим совместное Совещание, на котором должны присутствовать представители Земгора, Научного Института и Академической Группы. Это совещание состоялось через два дня в помещении Земгора. Центральным вопросом этого совещания стояло то, какое влияние будет иметь академическая группа в создаваемом нами аппарате для руководства лекционной деятельностью» 7. Как видно из текста, Русский институт расценивался эсерами как соперник. И все же в ходе обсуждений было достигнуто соглашение, что институт и Земгор не будут дублировать работу друг друга. Однако Русский народный университет, созданный в октябре 1923 г., все же станет серьезным конкурентом Русского института.
Открытие Русского народного университета 16 октября 1923 г. вынудило руководство института наконец разработать четкие уставные документы своей организации. Так, 24 ноябре 1923 г. появилось «Положение о Русском институте» [Русские в Праге, 1928. С. 232]. В нем говорилось: «Русский Институт в Праге учреждается Союзом Русских Академических Организаций за границей в целях утверждения и развития русской культуры вообще и, в частности, русской науки. Русский Институт в Праге имеет также своей задачей сближение России с Чехословакией и распространение сведений о России, русской культуре и результатах текущей работы русских ученых, писателей и представителей всех областей знания и искусства» 8. Дополним это утверждение еще одной цитатой, почерпнутой из институтской афиши: «Русский институт имеет целью разработку вопросов, связанных с Россией, русской жизнью, русской историей и русской культурой, как духовной, так и материальной. Русский институт стремится при помощи всестороннего изучения содействовать разрешению вопроса о путях возрождения России. Русский институт ставит своей задачей сближение русского народа с чехословацким и укрепление существующих между ними многообразных связей» 9.
К функциям Русского института было отнесено осуществление научно-исследовательской и просветительской работы. Первое направление предусматривало проведение научных мероприятий и публикацию результатов исследований. Второе предполагало устройство популярных лекций для русской и чешской аудитории, которые могли читаться на одном из двух языков. Это разграничение деятельности предопределило создание в институте двух отделений: Ученого и Просветительного. В задачи первого из них входило составление планов научной работы и издания трудов, организация научных слушаний, собирание библиотеки, в особенности из эмигрантских книг, присуждение премий за исследовательские работы или представление к ним, и др. Просветительное отделение занималось организацией бесплатных курсов, публичных лекций, практических занятий и семинаров для всех заинтересованных слушателей. Тематика этих мероприятий должна была непременно быть связанной с русской историей, наукой и культурой в различных их проявлениях. В первый год работы института в составе его Просветительного отделения были созданы гуманитарный, промышленный и сельскохозяйственный отделы 10.
Русский институт никогда не имел собственного помещения, а потому все мероприятия проводились им на базе чехословацких учреждений (Карлов университет, Чешское высшее техническое училище, Торговая палата). Он не имел также постоянного штата работников. Сотрудники получали сдельную оплату по числу прочитанных лекций или же в качестве гонораров за подготовленные статьи. Все мероприятия Русского института были бесплатными и открытыми для публики. В большинстве случае это были лекции в объеме академического часа; они могли быть как одиночными, так и объединенными в циклы (до семи академических часов). Учебный год в Русском институте делился на два семестра и, как правило, продолжался с ноября текущего года по март следующего.
Архивные документы дают довольно полное представление о лекциях по гуманитарному отделу в первые годы работы Русского института. В 1922–1923 уч. г. было прочитано несколько курсов, посвященных истории экономического развития России, русской философии, проблемам русской истории, русской литературе, русской внешней политике и др. 11
В зимнем семестре 1923–1924 уч. г. по тому же отделу были заявлены лекции В. А. Францева «Русский язык и русские наречия», Г. В. Флоровского «Религиозное сознание Достоевского», Н. О. Лосско-го «Русская религиозная философия», В. В. Зеньковского «Критика европейской культуры у русских писателей», С. Н. Булгакова «У стен Херсонеса», И. И. Лапшина «Русская музыка», А. А. Кизеветтера «Русский театр», П. Б. Струве «Русская наука», Г. В. Вернадского «Пушкин и декабристы», А. В. Флоровского «Из русской истории», Д. Д. Гримма «Русские конституционные учреждения» и др. (Огни... 1924. № 4. С. 4; № 6. С. 3) [Kronika..., 2000. T. 1. S. 129–132] 12.
Интенсивность лекционной работы, по крайней мере, в первые годы существования института, была велика. В ноябре 1923 г. были прочитаны четыре лекции, в декабре 1923 г. – пять, в январе 1924 г. – восемь, в феврале 1924 г. – 13, в марте 1924 г. – четыре 13. В рамках мероприятий по промышленному отделу в зимнем семестре 1923 г. (с января по март) П. И. Новгородцев сделал вступительное слово к курсу о русской промышленности, П. Н. Савицкий прочел лекцию «Общий обзор производительный сил России», А. Н. Фенин – «Добывание угля и нефти в России», П. П. Юренев – «Русский транспорт. Его прошлое, настоящее и будущее», Ю. М. Варягин – «Текстильная промышленность в России», А. И. Данилевский – «Металлургическая промышленность в России» [Ibid. S. 133] 14.
Тематика лекций часто отражала актуальные научные проблемы, имевшие вместе с тем обостренное звучание для эмиграции. Упомянем здесь в качестве примера заявленные в зимнем семестре 1923 г. лекции П. И. Новгородцева «Кризис западничества» и Н. Н. Алексеева «Русская трагедия» 15. Значительная часть заседаний института носила мемориальный характер. Так, 24 мая 1926 г. состоялось собрание, приуроченное к 50-летию со дня смерти выдающегося чешского историка Ф. Палацкого 16, но, конечно, главное внимание уделялось чествованию великих деятелей русской истории.
Неверно полагать, что в работе Русского института участвовали исключительно гуманитарии. В числе его создателей можно назвать выдающегося геолога и палеонтолога Н. И. Андрусова, знаменитого почвоведа и гидролога П. В. Отоцкого, ботаника В. С. Ильина, инженера Г. Г. Кривошеина, технолога Е. Л. Зубашева. Таким образом, в первые годы своего существования институт носил ярко выраженный междисциплинарный характер, и потому 18 октября 1922 г. одновременно с организационным заседанием Правления в его составе была создана комиссия для подготовки лекций по техническим наукам. На своем первом заседании под председательством К. Г. Шиндлера, крупного специалиста в области механизации сельского хозяйства, она постановила организовать цикл лекций «О промышленных производительных силах России» 17. Эти занятия должны были сочетаться с лекциями по экономическим вопросам.
Русские ученые в эмиграции продолжали развивать начатую еще до революции практику тесной и неразрывной взаимосвязи инженерных наук с науками социальными и гуманитарными. В рамках цикла планировались следующие лекции: «Постановка проблемы изучения русских производительных сил» (П. Б. Струве), «Общий обзор естественно-промышленных ресурсов России» (П. Н. Савицкий), «Водные силы как ресурсы русской промышленности» (Г. Г. Кривошеин), «Каменноугольная и нефтяная промышленность» (А. И. Фенин), «Металлургическая промышленность» (А. И. Данилевский), «Металлообрабатывающая промышлен- ность» (К. П. Федоров), «Производство сельскохозяйственных машин как особая отрасль промышленности» (К. Г. Шиндлер), «Паровозостроительная промышленность» (Л. Ю. Анчиц), «Производство двигателей» (С. Ф. Балдин), «Текстильная промышленность» (Ю. М. Варягин).
В конце ноября 1922 г. была создана комиссия курсов о русском сельском хозяйстве. Ее руководителем стал К. Г. Шиндлер, а другими участниками – известный специалист в области животноводства В. Э. Брунст, ботаник В. С. Ильин, математик Н. Е. Подтя-гин и др. Находим в перечне членов и имя Н. И. Андрусова. Одним из главных действующих лиц комиссии значился П. В. Отоцкий, которому было поручено разработать программу лекций о естественно-исторических условиях русского земледелия. Сам он предполагал прочесть шесть лекций о географии русских почв; ботаник Г. И. Ширяев должен был представить восемь лекций по географии растений Европейской России и Кавказа, зоолог Б. А. Шкафф – о географии животных и животном мире России. Планировалось также дополнить общий курс лекциями Ф. Е. Волошина о климатологии России 18. Затем должен был идти курс Н. П. Макарова 19 «Организация крестьянского хозяйства и его эволюция в России» 20. Было принято решение в качестве вводного элемента программы прочесть курс политэконома В. А. Косинского «Эволюция хозяйственных форм в России с освобождения крестьян по настоящее время», а также предложение И. В. Емельянова дополнить общий курс лекциями о русской сельскохозяйственной кооперации 21.
Уже на первых порах работы русские ученые столкнулись с определенными трудностями. Задуманная с размахом лекционная работа могла быть осуществлена лишь при достаточном количестве преподавательских кадров. Но именно с ними возникли серьезные проблемы. На заседании преподавательской коллегии курсов о русском сельском хозяйстве 22 ноября 1922 г. В. А. Косин- ский заявил об отказе чтения лекций ввиду загруженности другой работой. Отказался от своих обязательств и Г. И. Ширяев, прислав письменное сообщение о своем отъезде в Германию 22. Лекции по промышленному отделу в зимнем семестре 1923 г. (с января по март) прошли в весьма усеченном виде 23. Возникали и определенные материальные затруднения. Например, Ф. Е. Волошин в ноябре 1922 г. подчеркивал, что готов прочесть курс по климатологии России только после изготовления учебных пособий, на которые требовалось около 1 000 крон 24. Подобные проблемы порождали обрывочность курсов, которую были вынуждены признать сами русские ученые. В конце ноября 1922 г. высказывалась даже мысль использовать вместо термина «курсы» слово «лекции», «ввиду большего соответствия с действительным положением дел» 25. В итоге было решено оставить все как есть, имея надежду на систематизацию занятий в будущем.
Мы не располагаем объективной статистикой посещаемости мероприятий института. В справочнике «Русские в Праге» говорилось, что на лекциях по гуманитарному отделу присутствовало в среднем 50–80 слушателей, а некоторые из них, вроде курсов А. А. Кизеветтера или С. Н. Булгакова, собирали до 150 чел. [Русские в Праге, 1928. С. 232–233]. Но цифры были поданы в редакцию справочника самим институтом, к тому же они не имеют конкретной временной привязки. А вот что говорит один из протоколов сельскохозяйственных курсов: «Слушателей нет, либо они являются в очень ограниченном количестве» 26. Речь в данном случае идет о начальном этапе работы института, а именно о январе 1923 г. И все же, несмотря на превосходный состав лекторов и вполне достаточную рекламу курсов (информация широко распространялась в эмигрантских и чехословацких кругах посредством афиш, листовок, именных приглашений), Русский институт периодически сталкивался с низкой посещаемостью мероприятий. Среди веских оснований можно назвать не всегда удобное расписание. Прямое указание на это имеется в протоколах заседаний института («расписание, принятое правлением Русского Института, вряд ли окажется приемлемым») 27.
Другой серьезной ошибкой стала излишняя академичность, шедшая вразрез с идеей популяризации науки. Лекции ученых в институте чаще всего носили сугубо специализированный характер и потому собирали ограниченную аудиторию. Воспоминания о них сохранил историк Н. Е. Андреев. Описывая выступления П. Б. Струве, он отмечал, что их автор был очень интересным исследователем с энциклопедическим складом ума, но читал лекции «очень сложно, так как был по преимуществу теоретик» [Андреев, 1996. C. 13]. П. Б. Струве полагал, что публика великолепно ориентируется в вопросах экономики, социологии, государствоведения, и поэтому ничего не объяснял. Слушателями его лекций, по словам Н. Е. Андреева, обычно были русские профессора, которые задавали множество глубоких теоретических вопросов. Вдобавок, лекции в институте читались на русском языке, вопреки первоначальным замыслам, что делало их непонятными для многих чехов. Таким образом, в организации лекционной работы институт явно проигрывал своему главному конкуренту – Русскому народному университету.
Двадцать третьего апреля 1924 г. скончался П. И. Новгородцев. Новым главой Русского института стал В. А. Францев. В отличие от предшественника, он не обладал опытом административной работы, но в его пользу было множество факторов. В. А. Францев мало интересовался политикой и был равноудален от кадетов и эсеров. Немаловажно и то, что он принадлежал к числу крупнейших славистов своего времени, обладал высоким статусом в чехословацких общественных кругах, прекрасно знал и любил приютившую его страну, ее историю и культуру, виртуозно владел чешским языком. В. А. Францев был в числе немногих русских ученых, кого целенаправленно пригласили на работу в Чехословакию, причем еще до официального начала «Русской акции» 28. Таким образом, в его лице Русский институт обрел крупнейшего ученого и горячего поборника укрепления русско-чешских отношений. Его авторитет должен был способствовать разрешению любых вопросов, главным образом, финансовых.
Поддержка Русского института велась по линии Министерства образования и народного просвещения Чехословакии. В декабре 1927 г. В. А. Францев получил от него 5 000 чешских крон 29. В декабре 1928 г. он вновь обратился за финансовой поддержкой и также получил 5 000 крон, а в добавку к ним – 10 000 крон на подготовку к печати сборника научных трудов. Вторая часть транша предназначалась для гонораров авторам и для предпечатной подготовки статей. В январе 1929 г. в ответ на просьбу В. А. Францева были выделены 15 000 крон на издание «Пушкинского сборника» 30. В конце января 1930 г. на работу Русского института были выделены еще 4 000 крон. К сожалению, иные прошения о финансовой поддержке пока обнаружить не удалось.
Зато в личном фонде В. А. Францева имеются другие финансовые документы, среди них небольшая записка о расходе и приходе Русского института в 1932–1935 гг. Согласно ей, в 1932 г. на организацию работы, включая гонорары лекторам, аренду помещений, почтовые расходы, печать объявлений и повесток и т. д., было затрачено 2 103 кроны 40 геллеров, в то время как поступления в кассу составили 3 082 кроны 45 геллеров. Доход от продажи изданий составил 3 379 крон 35 геллеров. Но сумма эта включала в себя объем продаж и за предыдущее время, поэтому невозможно сказать, сколько именно денег было выручено в 1932 г. За текущий год баланс организации составил 4 748 крон 40 геллеров 31. И все же львиную долю бюджета института по-прежнему составляли дотации Министерства образования и народного просвещения. Об этом свидетельствует другой документ – «Денежный отчет Института за 1934 год». Согласно содержащимся в нем сведениям, приход составил 3 338 крон 25 геллеров. Из них 368 крон 25 геллеров – остаток за 1933 г., а остальная сумма – 2 970 крон – была выделена Министерством. Одновременно расходы составили всего 652 кроны 40 геллеров. По-прежнему сохраняла свое значение продажа изданий, которая дала в текущем году 530 крон, при том что к январю 1934 г. она принесла 3 975 крон 15 геллеров. Таким образом, к 1 января 1935 г. на счете Русского института было 7 438 крон 9 геллеров 32.
Дотации позволили начать издательскую работу. Научные труды института печатались в пражской типографии «Политика». В 1929 г. увидел свет первый том «Сборника Русского института в Праге», в котором были опубликованы статьи Е. Ф. Шмурло, Е. В. Спек-торского, Н. О. Лосского, Е. А. Ляцкого, А. А. Кизеветтера, И. И. Лаппо, С. И. Гессена, А. Н. Фатеева, А. В. Флоровского, Г. Д. Гурвича, И. И. Лапшина, Б. А. Евреино-ва, Ю. А. Яворского, П. Б. Струве, а также самого В. А. Францева. В том же году был опубликован «Пушкинский сборник», в котором приняли участие Е. Ф. Шмурло, Е. В. Спек-торский, И. И. Лапшин, С. В. Завадский, П. Б. Струве, Е. А. Ляцкий, А. Л. Бем и вновь сам В. А. Францев. В 1932 г. вышел второй том «Сборника», которому суждено было стать последним. По объему и по числу привлеченных авторов (А. А. Кизеветтер, Е. Ф. Шмурло, А. В. Маклецов, Н. О. Лосский, Е. А. Ляцкий, Е. В. Спектор-ский, П. А. Остроухов, И. И. Лапшин) он был скромнее предыдущих изданий. Как видно, круг авторов был стабильным, он был представлен в первую очередь крупными, уже состоявшимися учеными, сделавшими себе имя еще до революции.
В своей издательской деятельности институт сталкивался с проблемами организационного характера. В письме к А. В. Фло-ровскому в 1929 г. В. А. Францев сетовал, что для первого тома институтского сборника ему было подано лишь три статьи (А. Н. Фатеев, А. В. Флоровский и С. И. Гессен). Он опасался, что сборник получится «чахлым и скупым»: «Все русские начинания обыкновенно широки, но огнь в нас – соломенный, больше слов, чем дела, много энтузиазма, быстро однако спадающего на нуль!
Д. Д. Гримм обещал статью и замолк. Напоминать не буду» 33. Постепенное угасание русской научной жизни в Праге подрывало работу института, оно привело к сокращению числа потенциальных авторов. Несмотря на высокое качество публикаций, следует признать, что способствовать более глубокому познанию России чехами и словаками они не могли, ибо были ориентированы не на иностранного, а на русского читателя.
Закономерно вставал вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения организации, как и других эмигрантских научных учреждений. Впервые он был поставлен уже в конце 1920-х гг. В 1929 г. при Славянском институте была образована специальная Комиссия по русским научным институтам под председательством известного чешского историка и дипломата К. Крофты. Ей предстояло решить вопрос о будущем этих организаций. Первое заседание состоялось 12 ноября 1929 г. при участии В. А. Францева, А. А. Кизеветтера, О. Кржижека, К. Крофты, И. И. Лапшина, П. Максы, Л. Нидерле, М. М. Новикова, И. Поливки, Я. Славика, Е. Ф. Шмурло, А. А. Вилкова, М. Вейнгар-та, З. Завазала. К. Крофта в своей речи отмечал, что все эмигрантские организации были созданы в связи с «Русской акцией». Теперь же Министерство иностранных дел начало ее постепенную ликвидацию. Но попечение над русскими институтами оно все же хотело временно сохранить. При этом К. Крофта подчеркнул, что в скором будущем им необходимо готовиться к переходу на полную автономию и самофинансирование. По его мнению, было бы нецелесообразно механически присоединять русские организации к Славянскому институту, который имел иную исследовательскую программу. Напротив, «лучше было бы развивать свободное сотрудничество, которое подготовит более узкие отношения». К. Крофта рекомендовал русским научным учреждениям в своей работе приблизиться к потребностям Чехословакии 34.
В. А. Францев поддержал речь коллеги. Для него самого мысль о взаимодействии являлась оправданной: «Организации русских ученых имеют свои специальные цели и свою собственную широкую программу, поэтому невозможно полное объединение. Русские общества будут развиваться в своей нынешней деятельности, но, конечно же, в согласии со Славянским институтом» 35. Для В. А. Францева был важен вопрос о публичных лекциях, поскольку от них во многом зависело будущее возглавляемого им института. Он представил комиссии список лекций, которые его коллеги готовы были бы прочесть. Но М. Вейнгарт предложил сделать упор в этой работе не на Русский институт, а на Русский народный университет, который развернул в этом направлении активную работу. К. Крофта поддержал В. А. Францева, но предупредил, чтобы лекции не имели политической окраски и были «абсолютно научными и беспристрастными» 36. Чехословацкие власти приняли решение на время сохранить русские научные учреждения, но потребность в их «оптимизации» ощущалась все отчетливее.
В октябре 1932 г. Комиссия по русским научным институтам собралась вновь. В присутствии К. Крофты, А. А. Кизеветтера, М. Мурко, Я. Славика был заслушан доклад М. Вейнгарта, представлявший собой отчет о помощи эмигрантам со стороны Славянского института. В нем, в частности, сообщалось, что в 1930–1932 гг. по 10 000 крон ежегодно выделялось Семинарию им. акад. Н. П. Кондакова, Экономическому кабинету С. Н. Прокоповича было выдано 15 000 крон, было закуплено 30 выпусков первого тома «Сборника Русского института в Праге» и «Пушкинского сборника». При этом М. Вей-нгарт прямо давал понять, что Славянский институт больше не способен оказывать такую поддержку, так как в период кризиса его бюджет сократился с 300 000 крон до 110 000 крон и будет в дальнейшем еще урезаться 37. Он отчетливо говорил о необходимости скорейшего решения вопроса о русских научных учреждениях. Историк Я. Славик пытался парировать и доказывал необходимость самостоятельности эмигрантских организаций. Но вряд ли существовала возможность что-либо изменить. К. Крофта сообщил, что «министерство [иностранных дел] постепен- но ликвидирует “Русскую акцию”, а вместе с ней все русские научные институты, которые с ней связаны» 38. Вскоре перед лицом нацистской угрозы Чехословакия начнет сближение с СССР. В этих условиях поддержка эмигрантов почти прекратится.
Ошибкой В. А. Францева можно считать то, что в период его директорства Русский институт из полидисциплинарного превратится в монодисциплинарный, в нем осталось лишь гуманитарное отделение 39. Круг задач организации сузился, прикладные работы были сведены на нет. Среди лекций конца 1920–1930-х гг. мы находим лишь одну, посвященную современной проблематике («Коллективизация крестьянского хозяйства в России», прочитанная проф. Д. Н. Иванцовым 6 марта 1931 г.) [Kronika..., 2000. T. 2. S. 52]. Совет К. Крофты о необходимости учитывать потребности Чехословакии услышан не был. Вполне логично, что как правительственные, так и предпринимательские круги республики постепенно потеряли интерес к институту. Обратим внимание еще на одну тенденцию. Начиная с 1933 г. лекционная работа института фактически останавливается. В эмигрантской и чехословацкой прессе мы перестаем встречать объявления о его мероприятиях. Лишь 9 февраля 1934 г. Русский институт проводит торжественное заседание в честь 100-летия со дня рождения Д. И. Менделеева.
Остановка лекционной работы была вызвана не только финансовыми и организационными трудностями, но и проблемами со здоровьем у немолодого уже В. А. Францева, обострившимися в ноябре 1932 г. 40 Он просто не имел возможности с прежней силой руководить Русским институтом: 6 апреля
1937 г. ему исполнилось 70 лет. На основании закона № 79 от 13 февраля 1919 г. «О служебном положении преподавателей высших школ» В. А. Францев должен был окончательно оставить работу и с 30 сентября 1937 г. вышел на пенсию 41. В начале 1960-х гг. И. О. Панас рассказывал В. Т. Пашуто, что Русский институт прекратил свое существование в 1938 г. [Пашуто, 1992. С. 62]. Эту дату обычно и указывают в качестве финальной в судьбе некогда крупной эмигрантской организации. Роковой для Чехословакии 1938 год стал, таким образом, роковым и в судьбе Русского института. Его последней крупной акцией стало издание в 1938 г. книги воспоминаний инженера А. И. Фенина [1938].
Судьба Русского института в Праге во многом типична для эмигрантских организаций, которые пережили период бурного подъема, а потом незаметно сошли с исторической сцены. Амбициозность их планов находилась в явном противоречии с реальными условиями, в которых приходилось существовать русской эмиграции. Создатели Русского института, несмотря на их исключительную научную квалификацию, находились в плену культурных мифов и стереотипов, лишь укрепившихся на чужбине и шедших вразрез с политическими реалиями 1920–1930-х гг. Они позиционировали себя поборниками идеи «славянской взаимности», но в своих романтических порывах почти не обращали внимания на современное славянство. Оно жило в их умах и сердцах скорее как романтический образ. На практике Русский институт в Праге не сумел приложить достаточных усилий к эффективному научному познанию Чехословакии и одновременно к пропаганде русской науки и культуры в этой стране. Он так и остался сугубо эмигрантской организацией, деятельность которой была ориентирована не на внешний мир, но на «воображаемое сообщество» Зарубежной России. Именно эта подвижническая преданность потерянной России мешала интеграции в европейскую интеллектуальную среду. Не способствовала ей и ставка, сделанная исключительно на гуманитарные знания.
История Русского института в Праге демонстрирует примеры внутренних взаи- моотношений в эмигрантском сообществе, которые часто были далеки от идиллических. Эмигрантская среда стала благодатной почвой для академических конфликтов, вроде того, какой разгорелся при создании Русского института. Свою роль тут играли и замкнутость, ограниченность русского сообщества за рубежом, обострявшая конкуренцию, и перенос на эмигрантскую почву старых идейных споров, уходивших корнями в дореволюционную жизнь. Руководство Русского института допустило в своей работе ряд серьезных просчетов, которые не позволили в полной мере выдержать конкуренцию с другими организациями. Обратим внимание и на личностный фактор. С конца 1920-х гг. Русский институт существовал благодаря авторитету В. А. Францева и его лоббистским возможностям. Как только здоровье академика пошатнулось, и он уже не мог в полной мере исполнять свои обязанности, в работе возглавляемой им организации наступил серьезный кризис. Уход директора на пенсию вообще привел к свертыванию деятельности организации. Тем не менее лучшим памятником Русскому институту в Праге являются его научные издания, которые до сих пор не утеряли своей значимости.
Список литературы Русский институт в Праге (1922-1938 годы)
- Вандалковская М. Г. Российские историки-эмигранты в межвоенной Чехословакии // Российские ученые-гуманитарии в межвоенной Чехословакии. М., 2008. С. 7-25.
- Вандалковская М. Г. Русская эмигрантская историческая наука в Чехословакии // Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice 1919-1939. Praha, 1999. S. 96-117.
- Вандалковская М. Г. Русские историки-эмигранты в Чехословакии // Т. Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства: к 150-летию со дня рождения Т. Г. Масарика. М., 2005. С. 110-124.
- Волошина В. Ю. Вырванные из родной почвы: социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в 1920-1930-е годы. М.: Форум, 2013. 448 с.
- Емельянов Ю. Н. История в изгнании: историческая периодика русской эмиграции (1920-1940-е годы). М.: НП ИД «Русская панорама», 2008. 494 с.
- Ковалев М. В. «На этих съездах мы растем и в своих, и в чужих глазах…»: из истории научных коммуникаций русской эмиграции (1921-1930) // Россия XXI. 2013. № 5. С. 84-107.
- Коробкова С. Н. Русские академические организации в Праге и отечественная наука во второй половине XIX - начале XX в. // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2013. Т. 4, № 3. С. 49-58.
- Лаптева Л. П. В. А. Францев. Биографический очерк и классификация трудов // Slavia. 1966. № 1. С. 79-95.
- Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992. 400 с.
- Серапионова Е. П. Отношения Пражского и Парижского Земско-городских комитетов // Cahiers du Monde Russe. 2005. Vol. 46. No. 4. P. 797-816.
- Серапионова Е. П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20-30-е годы). М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1995. 198 c.
- Сладек З. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии // Советское славяноведение. 1991. № 6. С. 24-37.
- Andreyev C., Savický I. Russia Abroad: Prague and the Russian Diaspora, 1918-1938. New Haven; London: Yale Univ. Press, 2004. 246 p.
- Sládek Z. Ruská emigrace v Československu (Problémy a výsledky výzkumu) // Slovanský přehled. Praha, 1993. No. 1. S. 1-13.
- Tejchmanova S. Ruská lidová (svobodná) univerzita v Praze // Slovanský přehled. Praha, 1994. No. 2. S. 147-153.