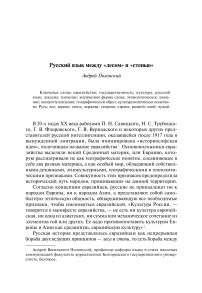Русский язык между «лесом» и «степью»
Автор: Полонский Андрей Васильевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Евразийство
Статья в выпуске: 1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Евразийство, государственность, культура, русский язык, лексема, значение, внутренняя форма слова, этимологическое значение, концептуализация, географический образ, культурологическая константа, русь, лес, дерево, степь, держава, сторона, страна, родной, свой, чужой
Короткий адрес: https://sciup.org/14911937
IDR: 14911937
Текст статьи Русский язык между «лесом» и «степью»
В 20-х годах ХХ века работами П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого, Г. В. Флоровского, Г. В. Вернадского и некоторых других представителей русской интеллигенции, оказавшейся после 1917 года в вынужденной эмиграции, была инициирована «историософская идея», получившая название евразийства 1. Основоположники евразийства выделяли некий Срединный материк, или Евразию, которую рассматривали не как географическое понятие, соединяющее в себе два разных материка, а как особый мир, обладающий собственными духовными, этнокультурными, географическими и геополитическими признаками. Совокупность этих признаков предопределила исторический путь народов, проживающих на данной территории.
Согласно концепции евразийцев, русские не принадлежат ни к народам Европы, ни к народам Азии, а представляют собой самобытную этническую общность, обнаруживающую все необходимые признаки, чтобы именоваться евразийской. «Культура России, — говорится в манифесте евразийства, — не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той или других. Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии как срединную, евразийскую культуру» 2.
Русская история представлялась евразийцам как непрерывная борьба двух ведущих принципов — леса и степи, то есть борьба между
Андрей Васильевич Полонский , профессор кафедры языка и стиля массовых коммуникаций факультета журналистики Белгородского государственного университета, Белгород.
оседлыми славянскими племенами лесной зоны и туранскими (урало-алтайскими) кочевниками 3. В свою очередь в формировании русской государственности, по утверждению евразийцев, необходимо видеть два источника: с одной стороны, византийский, с другой — туранский. Г. В. Вернадский в работе «Начертание русской истории» поясняет: «Монгольское наследство облегчило русскому народу создание плоти евразийского государства. Византийское наследство вооружило русский народ для создания мировой державы строем идей» 4. Причем ключевую роль в формировании русской государственности, по мнению евразийцев, сыграла степь .
Не вступая в существующую полемику относительно фундаментальных положений евразийства, что не входит в мою задачу, хотел бы только обратить внимание на то, как в языке отразились особенности освоения географического пространства русским человеком и его представления о собственной государственности. Как известно, языковое кодирование носит этнокультурный характер, поэтому каждый язык представляет собой результат уникального опыта постижения мира и ценностного к нему отношения. Выделенные сознанием человека фрагменты, благодаря их особой значимости, становятся носителями социального смысла 5, который находит свое воплощение и в языке.
Этнокультура не безразлична к географическому ландшафту, в условиях которого человек живет и на познание которого направлена его деятельность. Каждое «место, регион, страна, — как справедливо отмечает Д. Н. Замятин, — имеет свой геокультурный и одновременно образно-географический потенциал» 6. Географические образы, отражающие значимые для человека аспекты его бытия, фиксируются в ментальном языке 7 и обретают свое имя в слове.
По словам В. О. Ключевского, на историю русского народа значительное влияние оказало его место проживания, а именно равнина, подразделяющаяся на две специфические зоны, «две ботанические полосы», лесную и степную 8, то есть северную, богатую лесом, и южную, лишенную леса. Следовательно, становление лингвокультурного сознания русского человека не могло быть не связано с важнейшими культурно-географическими доминантами леса и степи . Кстати, символы леса и степи, такие, например, как древо и ковылiе , одни из самых частотных в «Слове о полку Игореве» — памятнике древнейшей русской письменной культуры 9.
Для русского человека представление о лесе носило символический смысл, связанный как с враждебностью природы, так и с родным домом 10. «Диалектика жизни, — пишет В. В. Колесов, — в том и состояла, что, страшась и погибая от ужаса, славянин входил в свой лес и покорял его, примеряя к себе все, что нужно, что в деле сгодится, без чего не прожить — и плуг, и посох, и струг» 11.
Лес фигурирует в русских народных сказках, сказаниях и былинах. Он постоянно «присутствует» в жизни русских сказочных и былинных героев, выступая в разных функциях: то в качестве мерила их силы, то в качестве сопереживающего героя 12:
Едет русский могучий Святогор-богатырь;
Святогоров конь да будто лютый зверь,
У богатыря плечи да во косу сажень,
Он и едет во поле, потешается:
Он бросает палицу булатную, Выше лесушки бросает да стоячего...
Уж как свищет Соловей да по-соловьему, Как кричит злодей-разбойник по-звериному — Тут все травушки-муравы заплетаются, А лазоревы цветки все осыпаются, Темны лесушки к земле все приклоняются.
А что есть людей — то все мертвы лежат!
От своих далеких предков русские унаследовали и особое ощущение степи, которая была для них и домом, и вызовом, и настоящим испытанием. Вот как исповедуется один из героев Н. С. Лескова 13:
«Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет так, точно с ним будто что-то плывет на меня чародейское, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: “Иван! Иван! Иди, брат Иван!” Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! Оглянешься кругом: тоска... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: “Иван! Пойдем, брат Иван!”»
Образы леса и степи, как ключевые культурологические константы русского самосознания, как символы русской ментальности, легли в основу интерпретации русскими собственной государственности, представленной в лексемах держава и страна. Для выявления этнокультурного компонента значения этих лексем обратимся к их внутренней форме, которая позволит увидеть, как содержание мысли, говоря словами А. А. Потебни, представлено сознанию 14, а также обратимся к сопрягаемым с ними понятиям, репрезентирующим их семантические парадигмы.
Лексема держава известна с XI века, первоначально в значении «верховная власть», «основание», «основа» и «сила», позднее, в XII–XIII веках, появляются значения «управление» и «государство» 15. Внутренняя форма лексемы связана с семантикой глагола держать : держава < дьржа «владычество, могущество» < держать , восходящего к основе * dьrg- с суффиксом -j- , перед которым - g перешло в — ж ( gj> ж ). Названная основа восходит к индоевропейскому корню * d(h)er- , выступающему в глаголе дергать , образованному при помощи суффикса *-gh- (ср.: латыш. dragat «дергать», «рвать»; англосакс. tergan «дергать») 16, и в глаголе драть (ср.: лит. dirti «сдирать», греч. dero «деру»), а также, как представляется, в лексеме дерево , ср.: и.-е. * ter- «дерево» 17.
Лексема дерево , восходящая к корню * dьr-/*der- (ср.: др.-инд. dвru «дерево, полено»; греч. doru «дерево, копье», гот. triu «дерево», англ. tree «дерево»), первоначально имела значение «то, что обдирается или выдирается». Хеттская лексема taru со значением «лес» и галльская dervo «дубовый лес» обнаруживают функцию дерева как символа леса , то есть пространства, покрытого деревьями. При этом деревом первоначально именовался дуб (ср. ирл. derucc «желудь»), а не любое дерево. Известно, что в русской культуре дуб — символическое дерево, сопряженное со многими смыслами, среди которых — здоровье, сила и мужественность (ср: лит. drutas «сильный», староперс. duruwa «здоровый», «сильный») 18.
Здоровый означает «из хорошего дерева» 19, крепкий и сильный, как дуб , ср.: держись за дубок: дубок в землю глубок . Дуб как символ мужественности присутствует, например, в традиции, дошедшей в некоторых областях и до наших дней, дарить мужчинам расписанные яйца с изображением дуба, а мальчикам — с изображением дубовых листьев (ср. также: дал Бог сыночка, дал и дубочка ).
С символикой дерева связано и такое понятие, зафиксированное русскими лексемами, как дерзый или дерзкий в первоначальном значении «смелый», «решительный», «непокорный» (ср.: лит. dirznas «сильный, рослый») и дерзать «собраться силами», «мужать», «быть крепким, сильным, храбрым».
Обратим внимание также на этимологическое значение лексемы древний «стародавний», «старейший», «вечный», связанное с дере- вом 20. Этимологический анализ данных лексем свидетельствует об их принадлежности к одному корневому гнезду *deru-:*dr(e)u 21. В сочленении смыслов древний и дерево проявляется языческая ментальность русича, именно с лесом связывающего древность своего рода, свое происхождение.
По всей вероятности, в качестве репрезентанта этого же «семантического гнезда» следует рассматривать и лексему дорога в значении «продранное в лесу пространство» или «расчищенное от деревьев место», а также собственно русскую лексему деревня , известную с XIV века в значении «земля», «пашня» (ср.: лит. dirva «пашня», «нива», «почва»), а затем «крестьянский двор» и «селение» 22.
Деревня — место, очищенное от деревьев 23, то есть подготовленное для совместной жизни, — место, имеющее границы (кстати, лексема граница , как отмечают исследователи, могла иметь значение дерево 24, ср.: серб. грана «ветка», «сучок»), а значит, «объятное» и понятное, место «своих», объединенных символикой дерева и обозначенных лексемой друг 25 в ее первоначальном значении — «другой я» или «такой же, как я; равный мне», — с последующей эволюцией значения в «близкий по духу человек».
Лексема друг восходит к индоевропейской базе * dh(e)reugh- со значением «поддерживать», выступающей также в лексеме дружина (ср.: лат. draugs «друг», гот. driugan «оказывать военную помощь», «сотрудничать в походе», лит. dra~ugas «спутник, товарищ» и sudrugti «присоединиться»; др.-исл. draugr «дружинник», «воин» и drjūgr «прочный», «крепкий», «сильный», др.-верх.-нем. trucht «отряд воинов, свита») 26.
Следовательно, дружина как «отряд друзей», то есть людей, объединенных понятием друг , выполняет функцию защиты родных рубежей — места в лесу , подготовленного для совместной жизни, — места, где «пахнет русским духом».
Где это место?
В древнем тексте одного из арабских писателей есть интересное наблюдение: «Что касается до Русии, то находится она на острове, окруженном озером. Остров этот, на котором живут они (русь), занимает пространство трех дней пути; покрыт он лесами и болотами...» 27. Указать точное место этого «острова» пока что не представляется возможным 28, однако в тексте подчеркнута главная для нас составляющая его географического образа — лес .
Как известно, происхождение этнонима Русь, ключевого для русской культуры, окончательно не установлено 29. Весьма заманчиво в связи с рассматриваемой «лесной» концепцией выглядит предположение Ю. С. Степанова о том, что слово дружина (швед. drott) могло быть связано со словом Русь — одновременно и «названием дружин по их племенному признаку, самого племени, народа, поставлявшего эти дружины» 30. Вспомним также ранее высказанное предположение В. А. Брима о том, что лексема русь восходит к скандинавскому корню *drot- в значении «дружина». По мысли исследователя, пройдя через финскую среду и закономерно утратив первый согласный звук и последний слог, названный корень превратился в rotsi. Славяне же преобразовали его в русь.
Следовательно, внутренняя форма слова Русь , как и слова держава , формируется на основе ее соотнесения с символикой леса . Держава — это родной дом русичей, мир своих, их сила, возникшая на основе единства друзей и их дерзновений (ср.: лес по дереву не плачет ; из-за лесу дерева не видать ) и направленная на совместную защиту границ своего русского дома — Руси.
Как видим, символика леса связана с миром своих — здоровых, сильных, крепких, дерзновенных.
Свой мир, как известно, всегда противопоставлен чужому , обозначенному, как мне представляется, лексемой страна . Человек со стороны — чужой, не обнаруживающий признаков своих. Это фиксируется и в системе русских паремий: на хорошей лошадке по дороге, а на худой — в сторонку ; на стороне добывай, а дому не покидай ; хлеб дома, а оброк на стороне.
Сторона — первоначально направление и пространство, находящееся рядом (ср.: др.-рус. сторонь «рядом») и связанное с «покиданием родного дома» и «выходом в «чужой» мир» 31, что представлено в характерной русской идиоме идти на все четыре стороны . Старославянская лексема страна вошла в русский речевой обиход в XII веке, отразив многочисленные смысловые переплетения с землей и обозначив, в отличие от земли (а также, добавим, от деревни и державы ), не место — осознаваемое, «объятное» и родное, а лишь «пространство», населенное людьми 32.
К концу XIII века стало общепринятым восприятие страны как «чужой стороны», противопоставленной родной земле. Новые земли, находящиеся вне Руси, именовались странными или сторонними , то есть «чужими» 33. Отсюда и странник первоначально не просто чужой, все-таки распознаваемый, а странный — непонятный, следовательно, опасный, вызывающий недоверие и страх.
Лексема страна этимологически связана с лексемами простор , пространство и распростертый , восходящими к индоевропейскому корню * ster- : *stor- 34, имеющему значение «равнина», «плоскость», «расширять»: ср.: др.-инд. prastaras «плоскость, равнина», лат. stratus «разостланный» и sterno «расстилаю», «распростираю», «разбрасываю».
Внутренняя форма слова страна обнаруживает связь с семантикой степи как ровного и лишенного деревьев (безлесного) пространства — пространства, которое тянется, простирается в бесконечность. Как кажется, уместно этимологически интерпретировать слово степь в его соотнесении со значениями «тянуться» и «простираться», представленными в индоевропейском корне * (s)tep- (ср.: лит. sti~pti «тянуться, простираться»; осет. t'$p$n «плоский, ровный»). Можно предположить, что к этому же корню * (s)tep- :* (s)teb- восходит и стопа в значении «ступня», «нижняя часть ноги», а также «шаг» и «след» 35, ср.: др.-верх.-нем. stapf «след ноги». Обратим также внимание на то, что корень * (s)tep- :* (s)teb- развивает значение «устанавливать» и в особенности «удивлять» (ср.: лит. stepinti «подтверждать», «устанавливать» и stebinti «удивлять»), так подчеркнуто звучащее в слове странный .
Следовательно, страна как государство обозначала скорее чужой мир — мир, противопоставленный лесу , то есть мир степи , к которому первоначально русский человек относился с обоснованным опасением; однако постепенно, в результате взаимодействия леса и степи , изменилось и отношение к степному миру. Как отмечает В. В. Колесов 36, начиная уже с XI века постепенно развивается и новое отношение к странному . Христианами странники начинают восприниматься уже не с опаской, не как чужие и неведомые, а как люди, спасающие таким образом свою душу. Странный мир, оставаясь самим собою, оценивается как другой , то есть хотя и не свой «первый», но «вполне сходный», понятный ( другой и друг — родственные слова 37), а потому не враждебный: потужи о себе, а там и о других .
Таким образом, лексемы держава и страна отражают процесс формирования русского этноязыкового сознания в культурном пространстве «между лесом и степью» как между исконно своим и приобретенным. Об этом, кстати, свидетельствуют и слова Даниила Заточника: «Дубъ крmпокъ множеством корениа; тако и градъ нашь твоею (князя. — А. П. ) дръжавою... ты, княже, многими людми чес-тенъ и славенъ по всmмъ странам» 38.
Данный вывод согласуется с той частью евразийской концепции, в которой утверждается наличие в русской государственности двух противопоставленных друг другу источников, один из которых связан с геокультурологической константой леса , ассоциируемого со своим миром, собственно славянским и русским, а другой — с константой степи , ассоциируемой с изначально чужим, но приобретенным миром.
Список литературы Русский язык между «лесом» и «степью»
- Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София, 1920;
- Трубецкой Н. С. Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 192
- Савицкий П. Н. Степь и оседлость//На путях: Утверждение евразийцев. Кн. 2. Москва -Берлин, 1922;
- Флоровский Г. В. Разрывы и связи//Там же; Евразийство: Опыт систематического изложения. Париж, 1926
- Иванов Вс. Мы. Культурно-исторические основы русской государственности. Харбин, 1926
- Вернадский Г. В. Начертание русской истории. 4.1. Прага, 1927.
- Манифест евразийства. София, 1927.
- Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре//Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 59-76.
- Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста. Киев, 1988. С. 149.
- Замятин Д. Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. СПб., 2003. С. 71.
- FodorJ. A. The Language of Thought. Cambridge (Mass.), 1975. P. 172.
- Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории. М., 1992. С. 6.
- Ефимов А. И. История русского литературного языка. М., 1959. С. 69.
- Донская Т. К. Дерево: мифологический символ освоенного мира и поэтический образ//«Свое» и «чужое» в культуре народов европейского севера: тезисы докладов межвузовской научной конференции. Петрозаводск, Изд-во Петрозавод. ун-та, 1997. С. 23-26.
- Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С. 209.
- Былины/Сост. и вступ. слово Ю. Г. Круглова. М., 1993. С. 31-32, 35.
- Лесков Н. С. Очарованный странник//Н. С. Лесков. Повести. Рассказы. Воронеж, 1981. С. 60.
- ПотебняА. А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. М., 1999. С. 90-91.
- Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. М., 1989. Т. 1. С. 773, 774.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 242, 270.
- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996. С. 136; Bruckner A. Stownik etymologiczny JQzyka polskiego. Warszawa, 1970. S. 101.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь... С. 243; Bruckner A. Op. cit. 5.101, 650.
- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996. С. 136.
- Фасмер М. Этимологический сло варь русского языка: В 4 т. М., 1986-1987. Т. 1. С. 502.
- Трубачев О. Н. Термины кровного родства//История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 172.
- Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 446
- Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998. С. 164-181.
- Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков: номинация и словообразование. Докт. дис. Воронеж, 1995. С. 29-35;
- Греков Б. Д. Киевская Русь... С. 446-450;
- Кошарная С. А. О процедуре концептуального анализа//Colloquium: Международный сборник научных статей/Под ред. У. Перси и А. Полонского. Белгород -Бергамо, 2005. С. 134-137.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. М., 2001. С. 156.
- Красных В. В. Концепт «сторона» как репрезентант русского культурного пространства//Известия ВГПУ. Серия: Филологические науки, 2003. № 4 (05). С. 18.
- Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. М., 1989. Т. III. С. 524-526.
- Моление Даниила Заточника//Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980. С. 392