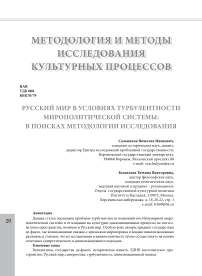Русский мир в условиях турбулентности мирополитической системы: в поисках методологии исследования
Автор: Сальников Вячеслав Иванович, Беспалова Татьяна Викторовна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена проблеме турбулентности нынешней постбиполярной миро-политической системы и ее влиянию на культурно-цивилизационные процессы на постсоветском пространстве, включая и Русский мир. Особую роль авторы придают государствам де-факто, чье возникновение связано с кризисами миропорядка и зонами цивилизационных разломов, и считают, что их исследование в данном контексте лучше осуществлять на основе сочетания синергетического и цивилизационного подходов.
Геополитика, государства дефакто, историческая память, лднр, постсоветское пространство, русский мир, синергетика, турбулентность, цивилизационный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/170174192
IDR: 170174192 | УДК: 008
Текст научной статьи Русский мир в условиях турбулентности мирополитической системы: в поисках методологии исследования
Характеризуя мирополитическую систему после падения Берлинской стены, американский ученый Джеймс Розенау, отмечал, что она испытывает высокую напряжённость вследствие кардинальных перемен, из-за которых структуры и процессы, поддерживающие мировую политику, становятся неустойчивыми, и в них происходит переустройство. Главной характеристикой политики данного периода становится неопределённость, характеризующаяся отсутствием закономерностей. Мировая политика вступает в фазу, не имеющую предварительно установленных правил или границ, поскольку напряжённость в мире обостряется, отношения трансформируются, разработка политического курса основными факторами политики парализуется. Происходит разрушение параметров мировой политики, которые прежде были стабильными и ограничивали колебания ее переменных составляющих. Ход событий становится турбулентным , когда сложность и динамизм социально-политических процессов достигают точки, где существующие правила управления больше не работают1.
Одним из важнейших проявлений данной турбулентности современной системы международных отношений является расширение т. н. «зоны проблемной государственности»2, где с одной стороны, существуют проблемы признания суверенитета входящих в эту зону государств, и, с другой стороны, — проблемы государственного контроля над территориями. Причинами расширения этой зоны в последние десятилетия является не только крушения империй и полиэтничных федераций, периодически случающиеся в истории, но и коллапс ряда государств мира социализма, проигравших Холодную войну. Этим нередко пользуются не только народы, стремящиеся осуществить свое право на самоопределение, но и племена, кланы, преступные группы, вооруженные отряды и другие подобного рода «акторы вне суверенитета», которым выгодно существовать в условиях «серой зоны» политики и экономики (особенно, в постколониальных странах, где не сформировались нации, и остры межэтни- ческие и межконфессиональные противоречия). Не стоит забывать и «внешних игроков» — как государства, так и негосударственных акторов (транснациональные корпорации, частные военные кампании, этно-конфессиональные структуры и др.), решающие за счет расширения «зоны проблемной государственности» свои задачи3.
Если отбросить либерально-идеалистическое «прикрытие» в виде «демократии», «прав человека», «свободного рынка» и т.п., то в роли выгодополучателей «нового мирового порядка» выступает единственная мировая сверхдержава — США и «коллективный Запад», заявившие о своем праве быть гегемоном при установлении «демократического мира» эпохи глобализации, распространяющим свои порядки через смену неугодных режимов и дестабилизацию целых регионов4.
Однако новый гегемонизм дал сбой, и ряд стран, поставив под сомнение необходимость глобального «демократического мира», выдвинули концепцию мира многополярного, основанного на диалоге цивилизаций5, где наряду с западной цивилизацией, претендующей на универсализм и глобализм, существуют и другие локальные цивилизации — китайская, индуистская (индийская), исламская, православная (восточнохристианская), латино-американская, африканская и др., все громче заявляющие о себе в мировой экономике и политике6… Сторонники монополярного «демократического мира» не желают учитывать это цивилизационное многообразие, вводя различные санкции против несогласных с выстраиваемым ими «новым мировым поряд- ком» и демонизируя их, — что ведет мир к конфронтации с трудно предсказуемыми последствиями. Особенно, если учесть, что на смену Модерну с его идеями прогрессизма, индустриализма, национального и социального государства идет эпоха Постмодерна, для геополитических процессов которой кроме глобализации характерны нелинейность, сингулярность, эмерджентность, социальная энтропия политических пространств, катастрофичность последствий «малых возмущений» на динамику социально-политических систем, применение хаосо-сетевых, психологических и политических технологий, в том числе и в целях дестабилизации7…
Поэтому для познания новой меняющейся реальности рядом ученых (В.В. Карякин, С.П. Курдюмов, С.П. Малинецкий и др.) предлагаются методологические принципы синергетики — нового мировидения, где основную гносеологическую роль играют идеи становления порядка в среде хаоса, влияние факторов случайности, необратимости времени и наличие областей неустойчивости социальнополитических систем. Согласно основополагающим принципам синергетики, неустойчивость, скачкообразность эволюционного процесса в периоды кризисов системы является естественной формой ее развития, и что в «открытых системах, обменивающихся с внешней средой энергией, веществом и информацией», инициируются процессы самоорганизации, сутью которых является «формирование в турбулентной среде устойчивых, упорядоченных структур с качественно новыми свойствами»8. При этом возможны различные сценарии формирования «архитектуры» воздействий на сложные систему и окружающую их среду. Причем, по мнению Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, можно обойтись «малыми, но правильно организованными точечными воздействиями, способными оказывать резонансные эффекты на всю структуру сложной системы»9. Особенно, ес- ли учесть роль человеческого фактора, на который обращается особое внимание в постнеклассической науке, для которой также характерны эволюционизм, системный подход, интерес к синергетике и междисциплинарности.
Исходя из возможностей синергетического подхода, позволяющего, соднойстороныувидеть многовариантностьимноговекторностьполити-ческого процесса, а с другой стороны, отметить роль и значение политического выбора различных субъектов политики, по мнению авторов, вполне можно осуществлять исследования государств де-факто, и как объект действия различных аттракторов (структур, придающих вихревым флуктуационным потокам устойчивое состояние), и как самоорганизующиеся фрактальные структуры (множество диссипативных динамических микроструктур — прообразы будущих состояний системы) в процессе бифуркации — качественной (а может быть даже катастрофической) перестройки свойств политической системы. Стоит отметить, что это происходит в условиях инверсионного смешения структур Премодерна, Модерна и Постмодерна, характерного для нынешней миросистемы, находящейся в точке бифуркации. И от того, какие тенденции возьмут верх, будет зависеть конфигурация нового миропорядка.
Что касается постсоветского пространства , то при недостаточной активности российского руководства оно все больше дрейфует от Большой России в сторону: 1) Большой Европы (через Совет Европы, «Восточное партнерство», Болонский процесс и т.п. она распространяет свое влияние не только на республики Прибалтики, ставшие членами ЕС, но и на Украину, Белоруссию, Южный Кавказ с заходом в Казахстан); 2) в зону «Нового шелкового пути» с Китаем в роли «стержневого государства», при возрастании влияния исламской цивилизации.
Попытки интегрировать постсоветское пространство на основе евразийского проекта пока оставляют желать лучшего. Переход Казахстана на латиницу и настороженное отношение белорусских элит к Русскому миру лишает это нарождающееся интеграционное объединение в лице Евразийского Союза общей цивилизационной основы. Для России как «стержневого государства» Евразии, уступающей экономически Большой Европе и Китаю, но являющейся наследни- цей Византии («Москва-III Рим»), Орды10, европейского рационализма (Петербургская Россия) и евразийства (советская империя), именно утрата культурно-исторического влияния мешает выступить в роли аттрактора постсоветского пространства, что требует качественного усиления ее культурно-исторического направления, как внутренней, так и внешней политики, с опорой на собственные цивилизационные основы.
Правда, здесь не все так просто. Исследуя историю и практику развития России с позиций цивилизационного подхода, можно прийти к выводу, что развитие нашей страны обусловлено драматичным противоборством различных проектов, которые по своей значимости имели характер цивилизационных: «западнического», «византийского», «евразийского» в их различных модификациях. Но так как данные проекты не до конца вошли «в плоть и кровь» россиян, – бытует мнение, что наша страна до сих пор не выработала собственной цивилизационной модели, продолжая пребывать в роли «очарованного странника», выбирающего между Востоком и Западом, материализмом и духовностью, индивидуализмом и коллективизмом, традиционализмом и модернизмом11…
Однако пробуждение русской идентичности в период Русской Весны, подъем русского национального самосознания, вызвавшие неприязнь к нашей стране у «коллективного Запада», попытавшегося добиться политической и экономической изоляции России, объективно способство-вали повышению интереса к собственным цивилизационным основам и построению более самобытного цивилизационного проекта12, в том числе и с привлече- нием государств де-факто13. Поэтому вслед за А.С. Панариным, отстаивающим тезис о праве России на самобытную цивилизационную идентичность, о праве быть не похожей на современную западную цивилизацию14, пора признать тысячелетнюю историю нашего государства-ци-вилизации, выработать конструктивную гражданскую позицию по спорным событиям отечественной истории, по формированию общей исторической памяти, способствующей укреплению единства российского народа. Пора отойти от негативной традиции модернизации России по западным образцам, ведущей к утрате ее цивилизационной идентичности под влиянием иноцивилизационных аннексий, экспансий и заимствований (В. Н. Лексин)15. Как и обратить внимание на то, что разрушение российской цивилизации сегодня продолжается изнутри через образовательные, культурные и иные практики на Украине и в Белоруссии.
Чтобы переломить центробежные тенденции фрактальности и «запустить» российский цивилизационный аттрактор, по мнению авторов необходимо не только возродить сильное и могущественное государство, способное защитить нашу цивилизационную идентичность, но и активизировать деятельность народов, обращающихся к культурно-цивилизационному наследию Русского мира (на основе доминирования российской цивилизационной идентичности над гражданской и этнокультурной). Не стоит забывать и о сохранении и укреплении исторической памяти, что позволит нам, опираясь на славное прошлое, построить достойное будущее16.
Почему именно государства-де-факто? Потому, что они зачастую образуются в зоне цивилизационных разломов после распада империй или псевдофедераций. И пусть там сильны тенденции фрак-тальности (центробежности и погружения в хаос) – их народы, стосковавшись по элементарному порядку и тем благам, что дает международное признание, рано или поздно заставят свои элиты выбрать тот или иной цивилизационный аттрактор.
Особое внимание, по мнению авторов, стоит обратить на ЛДНР, на территории которых осуществляется «сборка» Русского мира17.
В силу того, что значение исторической памяти и культурной политики возрастает в переломные эпохи, крайне актуальным, на взгляд авторов, будет исследование пространства исторической памяти и культурной политики ЛДНР как государств де-факто на предмет: 1) оценки степени и направления фрактальности как тенденции их геополитического развития; 2) выявления силы притяжения того или иного аттрактора; 3) выработки соответствующих рекомендаций для вывода территории ЛДНР из «зоны проблемной государственности» и более тесной их интеграции в пространство Русского мира на основе преодоления разрывов исторической памяти о дореволюционной, советской и постсоветской эпохах.
В первом случае — это наличие/отсутствие исторической традиции бунта/созидания и стихийной самоорганизации. Здесь имеются в виду действие с одной стороны архетипов Дикого поля и «Гуляй поля», и, с другой стороны, созидание индустриальной мощи державы, определяющие противоречивость донецкого характера18.
Что касается силы притяжения того или иного аттрактора, то авторы хотели бы выявить степень влияния таких аттракторов, как «украинство», Европа, Русский мир, евразийство, глобализация. Это позволило бы проанализировать возможности того или иного направления бифуркации эволюционного развития не только Донбасса, но и постсоветского пространства…
А соотнесение влияния фрактальных структур с действием тех или иных аттракторов позволит проанализировать процессы бифуркации на Донбассе (и не только) более объемно. Как, например, рожденная в годы гражданской войны Донецко-Криворожская республика послужила прообразом Донецкой Народной Республики; когда на начальном этапе Русской Весны красные флаги по количеству не уступали флагам Донецкой Республики и российским триколорам; а за свободу Новороссии ехали сражаться добровольцы со всего света…
Список литературы Русский мир в условиях турбулентности мирополитической системы: в поисках методологии исследования
- Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности/ ред. М.В. Ильин, И.В. Кудряшова. М.: МГИМО-Университет, 2011.
- Беспалова Т.В., Свиридкина Е.В. Культур-но-цивилизационный смысл государственного патриотизма. М.: Институт Наследия, 2019.
- Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание. Донецк: «Донбасская Русь», 2015.
- Добронравин Н.А. Модернизация на обочине : выживание и развитие непризнанных государств в XX— начале XXI века. СПб: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2013.
- Карякин В.В. Геополитика третьей волны: трансформация мира в эпоху Постмодерна. М.: ИГ «Граница», 2013.
- Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. №10. С.3-20
- Лексин В.Н. Русская цивилизация и русский народ // Журнал Института Наследия. 2018. №2. URL: http://nasledie-joumal.ru/ru/joumals/197. html (дата обращения: 16.08.2019)
- Мюллерсон Рейн. От теории демократического мира к насильственной смене режима // Гефтер. 2012. 12 сен. URL: http://gefter.ru/ archive/6093 (дата обращения: 24.07.2019)
- Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002.
- Рафаэль Хакимов: «Золотая Орда - это наша родина, а Россия ее наследница» // Новые известия. 2019. 07 янв. URL: https://newizv.ru/article/
- genera1/07-01-2019/rafae1-hakimov-zo1otaya-orda-е1о-па8Ьа-год1па-а-го881уа-ее-па81едп118а (дата обращения: 24.07.2019)
- Сальников Вячеслав. Образ «очарованного странника» как цивилизационный архетип России // Публичное управление: теория и практика : Сборник научных трудов Ассоциации докторов государственного управления: Специальный выпуск. Харьков: Изд-во "ДокНаукДер-жУпр", 2012. С.294-298
- Сальников В.И. Будущее России: проблема выбора цивилизационного проекта // Желаемый облик будущей России. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 03 апр. 2015г.). М.: Наука и политика, 2015. С. 161-171.
- Сальников В.И. Нуждается ли Русский мир в цивилизационном оформлении? // Русский мир: проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и пути их решения: Материалы Международной научно-практической конференции (Донецк, 24 октября 2018 г.) / под общ. ред. проф. С.В. Беспаловой. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2018. С.433-435.
- Следзевский И. В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики // Общественные науки и современность. 2011. №2. С. 141-156.
- Точка сборки Русского мира // Газеты ДНР. 2016. 24 июня. URL: http://gazeta-dnr.ru/ tochka-sborki-russkogo-mira/ (дата обращения: 23.08.2019)
- Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton: Princeton University Press, 1990.