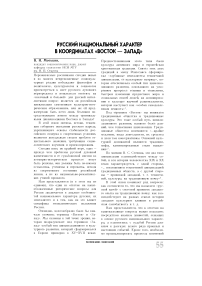Русский национальный характер в координатах " Восток-Запад"
Автор: Мотькин В.Н.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Национальный характер, идея русского духовного первородства, соборное поведение русского народа, русская духовная идентичность, "восток", "запад"
Короткий адрес: https://sciup.org/14720430
IDR: 14720430
Текст статьи Русский национальный характер в координатах " Восток-Запад"
Переживаемые россиянами сегодня новые и во многом непредвиденные социокультурные реалии побуждают философов и политологов, культурологов и социологов присмотреться к идее русского духовного первородства и попытаться ответить на «извечный и больной» для русской интеллигенции вопрос: является ли российская цивилизация самоценным культурно-историческим образованием, или же ей предначертано быть всего лишь безликим посредствующим звеном между оригинальными цивилизациями Востока и Запада?
В этой связи мотивы, истоки, тенденции соборного поведения русского народа, укрепляющего основы стабильности российского социума в современных условиях, являются актуальным сводом проблем со-циетального значения, требующим социологического изучения и прогнозирования.
Сегодня ясно, по крайней мере, одно — прежде чем проблемы русской духовной идентичности и ее судьбоносной миссии во всемирно-историческом процессе могут быть решены, они должны быть по-новому осмыслены, уточнены и пережиты, исходя из современного состояния российской жизни, а не из национально-романтических утопий прошлого.
Нам представляется (и в этом мы не одиноки), что один из ответов на выше-обозначенные риторические вопросы для России заключается в анализе особенностей национального характера русских, их менталитете и в том, как на это влияет специфика геополитического положения России.
Очевидно, целесообразно было бы вначале уточнить термины «Восток» и «Запад». Мы склонны к той точке зрения, которая подразумевает под термином «Запад» особый тип цивилизационного и культурного развития, который сформировался в Европе примерно в XV—XVII веках.
Предшественниками этого типа были культура античного мира и европейская христианская традиция. Синтез этих двух традиций в эпоху Ренессанса сформировал «глубинные менталитеты техногенной цивилизации, ее культурную матрицу», которая обеспечивала особый тип цивилизационного развития, основанного на ускоренном прогрессе техники и технологии, быстром изменении предметного мира и социальных связей людей, на доминировании в культуре научной рациональности, которая выступает как «особая самодовлеющая ценность»1.
Под термином «Восток» мы понимаем традиционные общества и традиционные культуры. Это тоже особый путь цивилизационного развития, намного более ранний, чем техногенная цивилизация. Традиционные общества изменяются «...крайне медленно, виды деятельности, их средства и цели там консервативны. Основной культурной доминантой являются традиции, мифы, канонизированные стили мышле-ния»2.
По мнению В. С. Степина, эти два типа цивилизации взаимодействуют между собой, и вся история человечества XIX и XX веков характеризуется, с одной стороны, «... поглощением техногенной цивилизацией традиционных обществ, а с другой стороны —прививкой западной, т. е. техногенной, культуры, на традиционную почву»3.
В этой связи возникает ряд вопросов: как соотносится то, что мы называем «русской идеей» с системой прививок западного опыта на традиционную почву, как взаимодействуют на разных этапах истории западное культурное влияние и российская самобытность и т. д.
Нам представляется, что к ответам на вышеназванные вопросы нужно подходить посредством анализа ценностей, лежащих в основе русского национального характера, а взаимосвязь с судьбой России даст ключ к разгадке целого ряда прошлых и настоящих событий. Кроме того, необходимо проанализировать процессы изменений этнического сознания и самосознания русских в момент разложения традиционных стереотипов и формирования нового национального характера.
Б. П. Вышеславцев, который одним из первых отечественных исследователей обратился к фольклорным мотивам для уяснения черт психологической неповторимости русского характера, выступая с докладом в Риме (1923 год), говорил: «Из того, что пишется и говорится на Западе, я вижу, что русский народ и русская судьба все еще остаются полной загадкой для Европы. Мы интересны, но непонятны и, может быть, поэтому особенно интересны, что непонятны. Мы и сами себя не вполне понимаем, и, пожалуй, даже непонятность, иррациональность поступков и решений составляют некоторую черту нашего ха-рактера»4.
В «Дневнике писателя» 1873 года Ф. М. Достоевский, говоря о важной психологической черте русского характера, пишет: «Это прежде всего забвение всякой мерки во всем™ это потребность хватить через край™ дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и в частных случаях, но весьма нередких —броситься в нее как ошалелому вниз головой»5. На наш взгляд, это не только психологическая черта русского человека, а сущностный, онтологический признак его духа. Если для европейского менталитета характерна идея меры, провозглашенная еще Протагором («Человек мера всех вещей») и развита позже концепцией «одномерного человека» Г. Маркузе, то для русского духа действительно характерна эта безмерность, которая имеет как отрицательные, ужасные черты, так и положительные, возвышенные6.
По нашему мнению, западные либеральные ценности, основанные на признании приоритета личной свободы, остаются во многом чуждыми восточному, российскому, менталитету. Как хорошо показал Г. П. Федотов, русский человек традиционно стремился не к личной свободе, а к воле, то есть предпочитал совокупности гражданских прав и обязанностей полную независимость от всех социальных ограни-чений7. Значительную часть самодеятельного населения (интеллигенцию, рабочих, крестьян) до сих пор прельщают антибуржуазные идеалы, с которыми они не спешат расстаться, что довольно дальновидно. Дело в том, что либеральные взгляды пока плохо согласуются с архетипом нашего национального сознания, получившим известность как «русская идея».
Она, по мнению русского философа И. Ильина, «формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь: это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия во всем —в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. “Русская идея” есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так было, и когда так было, то осуществлялось прекрасное и так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, то будет лучше»8.
«Русская идея» предполагает осознание русскими собственной своеобразной истории и культуры, проникновение в тайники собственного характера, выражение исторического призвания и своеобразия русских, указание на историческую задачу и духовный путь России. Таким образом, «русская идея» призвана отразить момент осознанности русскими самих себя, своей истории. Последнее предполагает определение своего места среди других народов, поиск путей для своего дальнейшего развития, выбор цели и задач развития, выявление особенностей характера и др.
В различные исторические периоды эта идея представала в разных идеологических формулах («Святая Русь», «Москва —третий Рим», «Великая Россия», «Социализм в отдельно взятой стране», «Коммунизм»), но суть ее была одна и та же: стремление к социальной справедливости, возложение на себя ответственности за другие народы (в одном случае православ- ные, в другом угнетенные). А фундаментом для подобных взглядов служила вера в особое историческое предназначение России, в ее мессианство.
Конечно, не один русский народ испытывал подобное стремление в истории, однако трагическая судьба России придавала его исканиям социальной правды особый, возвышенный смысл. Отличительной чертой поиска справедливого общества в России, очевидно, было также то, что «россияне пытались найти наиболее «истинное» общественное устройство не только для себя, но непременно и для всего человече-ства»9. Тут выражено очень характерное, по мысли Н. А. Бердяева, для русской революционной интеллигенции настроение — любовь к «дальнему», а не к «ближнему». Нельзя с ним, по нашему мнению, не согласиться и в том, что, хотя русские обладают исключительной способностью к усвоению западных идей и учений, к их своеобразной переработке, это «усвоение было в большинстве своем догматическим, русской интеллигенцией быстро превращалось в догматику то, что на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или во всяком случае истиной относительной, частичной, не претендующей на всеобщность»10.
В трудах Н. Бердяева отечественная традиция исследования темы русского национального характера представлена особенно ярко. Его труды дают не просто описание, а панорамное видение народного духа, нашедшего воплощение в русской истории, философии, искусстве, православной религии, нравственности. Он пытался, в частности, объединить славянофильство и западничество в теоретическом синтезе собственной концепции «русской души», русского национального характера. Так, он писал о раздвоенности, разорванности русской души и этим объяснял все катаклизмы российской истории, включая Октябрьскую революцию. По его мнению, действия русского человека редко поддаются разумному объяснению. Неожиданные повороты, непредсказуемость движений русской души создают фантастические ситуации, зачастую на грани абсурда. По Н. Бердяеву, сущность русской души и одновременно ее трансцендентность, невоз- можность ее познания до конца — в дуализме, противоречивости, антиномично-сти, включающих в себя западный и восточный элементы: «с одной стороны, как правило, женственная мягкость, эйфория, расслабленное блаженство Востока, с другой, как исключение, —твердость, собранность, решительность, четкость Запада. С одной стороны, диктуемый немереным, продвинутым на Восток пространством бесшабашный стиль поведения вплоть до анархизма, с другой — подчинение в западном духе централизованному, бюрократическому государству вплоть до униженной, рабской покорности11.
В. Розанов в традиционное сопоставление «Россия —Запад» вносит мотивы свойственной ему философии пола. Образно представляя Россию женским, а Европу — мужским началом, Розанов переводит рассмотрение извечной антитезы из сферы высоких абстракций на уровень православно-бытовой, семейный, близкий и понятный каждому. «Русские имеют свойство, —пишет он, —отдаваться беззаветно чужим влияниям. Именно вот как невеста и жена —мужу. Но чем эта “отдача” беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до “убийства себя”, тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была “отдача”»12.
Приходится признать, что русским чужд и скептический критицизм западных людей, они все склонны воспринимать тоталитарно, очень характерно для них и «бросание» от одних крайностей к другим.
Здесь можно добавить, что созданный за годы советской власти новый тип русского отличается высоким уровнем образованности, но вместе с тем низкой бытовой культурой, острой сообразительностью, склонностью к коллективизму, но отсутствием твердой морали и правового сознания, легкостью и ловкостью в обходе государственных запретов и установлений (при одновременной склонности к иждивенчеству за счет государства), некоторым двоемыслием, комплексом неполноценности по отношению к Западу, неустойчивостью общественного поведения и прочими признаками маргинальной личности.
Кроме того, все вопросы в России по старинке решались и решаются путем межличностного общения. Ведь исстари повелось на Руси, что указ всегда имел приоритет над законом, в то время как на Западе закон всегда стоял и стоит во главе угла, каким бы он ни был. У русских же налицо приоритет вертикальных связей и отношений (субординации) над горизонтальными (координацией).
Необходимо отметить плодотворность этноэкологического подхода к истории государства Российского, в особенности, экономической. Так, еще в XVII веке отмечалось: «Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего, как телесную, так и умственную»13.
На своеобразное географическое положение, разнообразие климатических поясов России уже давно обратили внимание исследователи. Природа, по их мнению, влияла кроме народного хозяйства и на племенной характер великоросса. Поражает в этом отношении удивительная наблюдательность народных великоросских примет, уникален «великорусский авось» (т. е. наклонность дразнить счастье, играть в удачу), изумляет способность к напряжению труда на короткое время.
Особое влияние на формирование русских оказывали межэтнические отношения. Уместно будет заметить, что отношение ко всему «иностранному» всегда было далеко не однозначным на Руси. С одной стороны, абсолютно все исследователи, путешественники отмечали общее гостеприимство славян, отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям различных национальностей. Доподлинно известно, что встреча, например, Руси и Чуди (к ней относились все финские племена Древней Руси) носила мирный характер и слияние происходило преимущественно естественным путем. Как отмечал С. Ешевский, «...на чисто славянскую основу ложатся обрусевшие племена финского и азиатского происхождения, принявшие с христианством и русский язык и русские нравы»14. Если вспоминать «дела давно минувших дней», то можно сказать, что легенда о добровольном призвании восточными славянами на княжение варягов свидетельствует не только о простодушии, но и, вероятно, о незлопамятности, отсутствии в народе воспоминания о насильственном захвате их скандинавами: «...поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву..., земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами»15.
Анализируя особенности национального характера, которые сформировались на ранних этапах становления этноса, следует обратиться к народному эпосу, описанию его главных героев. Из народных былин и преданий следует, что русский человек добр, прост, кроток, терпелив и нетороплив, ему присущи «высокий гуманизм, чувство человеческого достоинства». Не лишен, по мысли Д. Иловайского, «предприимчивости, мужества и созидательной способности»16.
С другой стороны, «.от того, что жил как попало, приобретал средства к жизни как попало, подвергаясь всегда опасности быть ограбленным, обманутым, предательски погубленным, он и сам не затруднялся предупреждать то, что с ним могло быть, он так же обманывал, грабил, где мог по-живлялся за чужой счет ближнего ради средств к своему, всегда непрочному, существованию. От этого русский человек отличается в домашней жизни неопрятностью, в труде —ленью, в сношениях с людьми —лживостью, коварством и бес-сердечием»17. Или такое высказывание: «Ерабежи и разбои были повсеместно, помочь ближнему и заставить его страдать было для русских одинаково легко»18. Что касается первой части высказывания, то есть масса свидетельств этому. Например, в царствие Бориса Федоровича Еодунова «грабежи дошли до такого страшного развития, что многочисленные шайки разбойников не раз разбивали высылаемые против них царские войска... доносы, эта страшная язва общества дошли до таких размеров, что родственники и друзья боялись говорить друг с другом, и никто не мог быть уверен, что, ложась спать вечером дома, он спокойно проспит до утра и что его в полночь не схватят с постели и не увезут Бог весть куда»19. Эти строки говорят, очевидно, о том, что эпоха репрессий с ее печально знаменитыми чертами была подготовлена еще деяниями наших далеких предков, что в XX веке менталитет россиян смог покорно воспринимать еще и не такое.
Интерес представляют взгляды «со стороны» на наших соплеменников. Ни один народ, утверждает Р. Ченслер, «„в свете не скрывает своих дел тщательнее Московского, ни один столь не недоверчив к другим и не один не получил привычки так великолепно лгать о своем могуществе и богатстве»20. Или другое: «Ни одному чужеземцу (кроме послов) не дозволялось ездить в эту страну и путешествовать по ней, как водится в других краях, попадавший туда должен был навсегда оставаться в тамошней службе»21. Я. Маржерет, описывая состояние Российской державы и Великого княжества Московского с 1590 по сентябрь 1606 года, делал упор на то, что «русский народ самый недоверчивый и подозрительный в мире»22. Не в лучшем свете у Д. Флетчера предстают и власти: «Цари уничтожают все средства к улучшению образования народа и стараются не допустить ничего иноземного, что могло бы изменить туземные обычаи... им не дозволяют путешествовать, чтобы они не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с их обычаями»23.
Подробнее следует остановиться на проблеме законопослушания русских. В Московском государстве, судя по высказываниям иностранцев, почти все свершалось не на основании общих соображений, а частными мерами, оно управлялось не законами, а распоряжениями. А вот какое наблюдение сделал Р. Гейденштейн: «У них существует немного законов, и даже почти только один — почитать волю князя законом. О князе у них сложилось понятие, укреплению которого особенно помогали митрополиты, что через князя, как бы посредника, с ними вступает в единение сам Бог, и, смотря по заслугам перед Богом, князь их бывает милостивым или жестоким» 24.
Ю. Морозов считает, что в основе отличия западной культуры от нашей лежит различный тип общественных отношений. В первом случае присутствует жесткий набор прав, обязанностей поведения, это так называемые «позиционные отношения». Во втором случае —«аффективные», значение в этом случае имеют лишь межличностные качества человека. Причина в отличии заключается в том, что для «снятия» конфликтных ситуаций в интенсивных культурах формируется жесткий кодекс поведения. Совокупность таких правил составляет закон или обычай 25.
Можно согласиться с утверждением А. Оболонского, что «исходным глубинным различием между тем, что называют «Западом» и «Востоком», является базисная ориентация принципов социального устройства либо на индивида, либо на некое общественное целое, на «систему». Соответственно, эти два базисных типа можно назвать «персоноцентризмом» и «систе-моцентризмом». В первом типе главное — индивид, человек как «мера всех вещей» (Протагор). Все в нем рассматривается через призму человеческой личности, однако не всегда персоноцентризм был гуманным. С личностью постоянно боролись, ее истязали, уничтожали, но парадоксальным образом это доказывало, что ее принимают в расчет. Европеец, как и человек восточный, с «молоком матери» впитал определенные ценностные ориентиры в рамках традиции своей культуры, которые, может быть, неосознанно, руководят его действиями — это долг, чувство справедливости, чувство права. Атмосферу Запада составляет и индивидуализм, противопоставляемый групповому, общинному сознанию Востока. Кроме того, общественные отношения в первом случае носят «...договорно-правовой характер, тогда как для Востока характерны эмоционально насыщенные родовые связи»26.
В системоцентристской шкале ценностей человек либо вовсе отсутствует, либо воспринимается как орудие, средство или строительный материал для достижения каких-либо надындивидуальных —«системных» —целей. Причем конкретный вид системы может быть различным: род, племя, община, империя. Западная традиция создала основанные на праве собственности предпосылки для предпринимательской и технической активности, для выдвижения на передний план «пассионарных» личностей, развития рынка и промышленного капитала, промышленной цивилизации.
Восток, где властитель, как и отец в патриархальной семье, выступает не толь- ко в качестве верховного собственника имущества своих подданных, но и обладает неограниченной властью над жизнью и смертью последних, не мог вступить на аналогичный путь. По всей вероятности, справедливо утверждение, что Восток и Запад представляют собой две разные системы цивилизации —«домашнюю» и «рыночную», — в фундаменте которых лежат разные совокупности ценностей и разные способы получения социального признания.
В диалоге «Восток — Запад» заметно усиление влияния Запада на Восток. С XVII века, по мысли В. О. Ключевского, «...российское общество начало осознавать превосходство западной культуры, необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у нее не одни только “житейские удобства”, но и самые основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения»27.
Создателями особой концепции о месте России между Западом и Востоком стали «евразийцы». Евразийство как идейно-теоретическое течение возникло в качестве особого феномена культуры XX века в среде русской эмиграционной интеллигенции в 1930-е годы и оказало сильнейшее влияние на развитие общественной мысли русского зарубежья. В 1921 году в Софии был издан сборник «Исход к Востоку», авторами которого были П. Н. Савицкий, П. П. Сувчин-ский, Г. В. Флоровский, Н. С. Трубецкой. В предисловии подчеркивалось, что русский народ и другие народы, населяющие Россию, не европейцы и не азиаты, они —евразийцы. Так было положено начало евразийству —теории и общественному движению.
Идеология этой школы как философско-теоретическая концепция включала следующие моменты: утверждение особых путей развития России как евразийского геополитического центра, понимание культуры как симфонической личности, обоснование идеалов на базе православия и учения об иде-
Пр ократическом государстве.
По их мнению, самой природой и историей народы Евразии призваны к совместной жизни. Их сосуществование является органичным, это не случайный конгломерат, а подлинное единство. Россия —Евразия в географическом смысле —особый материк, континент, часть света. Данное географическое образование представляет из себя также самодовлеющую хозяйственную область. Пространства Евразии как бы изначально предназначены к тому, чтобы составить одно государство.
Эта геополитическая доктрина сегодня обретает особую актуальность, а в ряде государств уже завоевала популярность. По нашему мнению, для России в данном контексте вполне своевременным будет обращение к «евразийству» как к оптимальному варианту решения проблемы поиска новых форм взаимоотношений между территориями и политическими субъектами на евразийском пространстве.
Нам представляется, что ясная цель развития России, ее социальный идеал, может стать путеводной звездой социальной активности миллионов только в том случае, если он будет опираться в равной мере на две опоры — специфику истории, национального характера, образа жизни ее народа и глобальные интегративные тенденции мирового развития. Поэтому оптимальный вариант движения для нас —неприсоединение себя ни к западничеству, ни к русофильству в их крайних проявлениях, а «маятниковая идентификация» в социальном пространстве.
Мы придерживаемся такого мнения, что Россия обладает самодостаточностью для полноценного развития. Она сама по себе настолько велика и богата, имеет такое обширное культурное наследие и духовный потенциал, что была, есть и будет центром притяжения народов, стран и культур, становым хребтом контингента.
имечания
-
1 Диалог цивилизаций: Восток —Запад // Вопросы философии. 1998. № 2. С. 173.
-
2 Там же. С. 174.
-
3 Там же. С. 175.
-
4 Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер // Вопросы философии. 1995. № 6. С. 3.
-
5 Достоевский Ф. М. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине // Русская идея . М., 1992. С. 129.
-
6 Там же. С. 130.
7Федотов Г. П . Письма о русской культуре // Там же. С . 391.
-
8 И иши И. А. О русск°й иде < еГ у // н Т т ам в ж 1Й£Г Й Н 1(Ш1 П. 2008/2007
-
9 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. / Н. А. Бердяев. М., 1990. С. 18.
-
10 Там же. С. 23.
-
11 Бердяев Н. А. Душа России // Русская идея. С. 300.
-
12 Розанов В. В. Мимолетное. 1915. // Там же. С. 290.
-
13 Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального характера. (Далекие предки: I—XVII вв.) / сост. С. К. Иванов. М., 1994. Вып.1. С. 133.
-
14 Там же. С. 126.

Список литературы Русский национальный характер в координатах " Восток-Запад"
- Диалог цивилизаций: Восток -Запад//Вопросы философии. 1998. № 2. С. 173.
- Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер//Вопросы философии. 1995. № 6. С. 3.
- Достоевский Ф. М. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине//Русская идея. М., 1992. С. 129.
- Федотов Г. П. Письма о русской культуре//Там же. С. 391.
- Ильин И. А. О русской идее//Там же. С. 441.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма./Н. А. Бердяев. М., 1990. С. 18.
- Бердяев Н. А. Душа России//Русская идея. С. 300.
- Розанов В. В. Мимолетное. 1915.//Там же. С. 290.
- Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального характера. (Далекие предки: I-XVII вв.)/сост. С. К. Иванов. М., 1994. Вып.1. С. 133.
- Оболонский А. Почему Россия не стала «Западом»? О некоторых перекрестках нашей истории//Дружба народов. 1992. № 10. С. 70.
- Ключевский В. О. Следствия расселения восточных славян по русской равнине/соч.: в 9 т. М.:, 1987. Т. 1. С. 65.