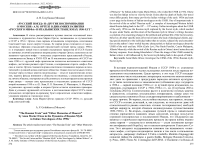"Русский поезд" и "Другие воспоминания о Москве" А. М. Ортезе в динамике развития "русского мифа" в итальянских травелогах 1950-х гг
Автор: Голубцова Анастасия Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются путевые заметки итальянской писательницы и журналистки Анны Марии Ортезе, посвященные ее путешествию в СССР в 1954 г. Ортезе стала первым итальянским литератором, посетившим Советский Союз после смерти Сталина. Ее очерки резко отличаются от многочисленных образцов итальянской просоветской путевой прозы начала 1950-х гг. и открывают новый этап в истории итальянских травелогов об СССР. Одним из значимых отличий становится возрождение в очерках Ортезе элементов так называемого «русского мифа» - комплекса стереотипных представлений о России, сложившихся на Западе в XVIII-XIX вв. В итальянских травелогах об СССР начала 1950-х гг. «русский миф» практически полностью вытесняется «советским мифом», достигшим расцвета при Сталине, и возвращение старого «мифа о России» в текстах Ортезе становится ярким симптомом готовящихся перемен в политической и духовной жизни советского общества. Однако если остальные отличительные черты путевых заметок писательницы - отказ от идеологических штампов, перенос фокуса внимания с общества на индивида, с социального анализа на личное общение, подчеркнутая субъективность и концентрация на внутреннем мире автора - находят свое продолжение в итальянских травелогах об СССР второй половины 1950-х гг. (К. Леви, П. П. Пазолини, К. Малапарте, А. Моравиа), то ренессанс «русского мифа» в очерках Ортезе остается единичным примером. Даже в условиях хрущевской «оттепели» и десталинизации образ СССР в глазах итальянских литераторов по-прежнему будет определяться «советским мифом», уходящим корнями в сталинскую эпоху.
Анна мария ортезе, травелог, ссср 1950-х гг, русский миф, советский миф
Короткий адрес: https://sciup.org/149140227
IDR: 149140227 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-274
Текст научной статьи "Русский поезд" и "Другие воспоминания о Москве" А. М. Ортезе в динамике развития "русского мифа" в итальянских травелогах 1950-х гг
В истории взаимоотношений Италии и СССР 1950-е гг. становятся временем возобновления тесных культурных контактов после периода послевоенного восстановления. Среди прочего, в эти годы СССР посещает значительное число итальянских литераторов: количество визитов впечатляет даже по сравнению с предыдущим периодом активного культурного (а также политического и экономического) сближения двух государств в 1920-х — первой половине 1930-х гг. (о путевой прозе итальянских литераторов, посещавших СССР в 1920-1930-х гг, см. [Голубцова 2021а; Голубцова 2021b]). Соответственно растет и количество путевых заметок и травелогов, созданных итальянскими литераторами, однако сами эти свидетельства становятся более стандартизированными и шаблонными — по ряду причин. Во-первых, после войны писатели, как правило, посещают СССР в составе делегаций, и, как следствие, не пользуются даже той относительной (в рамках советских «техник гостеприимства») свободой выбора маршрута, которой обладали индивидуальные путешественники 1920-1930-х гг. Во-вторых, содержание путевой прозы в значительной степени определяется влиянием левых идеологий, которые пользуются огромной популярностью в послевоенной Италии, что объясняется как памятью о героическом партизанском прошлом (во время войны именно левые партии — социалисты и коммунисты — стали основными центрами антифашистской борьбы), так и высоким авторитетом Советского Союза. Этот авторитет поддерживается влиянием так называемого «советского мифа», о котором неоднократно писали в том числе и итальянские авторы (см., например: Andreucci F. Falce е martello. Identita е linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda. Bologna: Bononia University Press, 2005; Flores M. L’immagine dell’URSS. L’Occidente e la Russia di
Stalin (1927-1956). Milano: Il Saggiatore, 1990 (электронная версия: Flores М. L’immagine della Russia sovietica. L’Occidente e 1’URSS di Lenin e Stalin (1917-1956). CoWare, 2017); Il mito dell’URSS. La cultura occidentale e l’Unione Sovietica / A cura di M. Flores e F. Gori. Milano: Franco Angeli, 1990; L’URSS il mito le masse / a cura della Fondazione Giacomo Brodolini e della Fondazione di studi storici Filippo Turati. Milano: Franco Angeli, 1991; Nemici per la pelle. Sogno americano e mito sovietico nell’Italia contempo-ranea / a cura di Pier Paolo D’Attorre. Milano: Franco Angeli, 1991). «Советский миф» сформировался на Западе еще в 1930-х гг. и в значительной степени вытеснил и подменил собой «русский миф», который, в свою очередь, складывался в Европе на протяжении XVIII XIX вв. и окончательно оформился в знаменитой книге Э.-М. де Вогюэ «Русский роман» 1886 г. (в рамках «русского мифа» Россия воспринималась как загадочная страна снегов и бескрайних степей, недоступная пониманию западного человека и населенная варварским восточным народом — носителем противоречивой «славянской души») [подробнее о «русском мифе» в итальянских тра-велогах 1920-1930-х гг. см.: Голубцова 2021b],
Исследования истории формирования образа СССР на Западе показывают, что советский миф достигает расцвета в период сталинской диктатуры, а после 1956 г. начинает клониться к закату [Flores 2017]. Однако в итальянских травелогах о советской России постепенное ослабевание или, во всяком случае, проблематизация «советского мифа» начинается почти сразу же после смерти Сталина: ярким примером начавшейся трансформации становится цикл путевых заметок 1954 г. писательницы и журналистки Анны Марии Ортезе (1914-1998). Сторонники советского режима, с конца 1940-х гг. составлявшие основную массу зарубежных «гостей» СССР, в своих путевых записках сознательно или неосознанно транслировали элементы «советского мифа», тем самым, в свою очередь, увеличивая число «друзей» Советского Союза на Западе. Все известные писатели, посещавшие СССР в конце 1940-х — начале 1950-х гг. —Либеро Биджаретти, Рената Вигано, Итало Кальвино, Сибилла Алерамо — состояли в итальянской Компартии или, во всяком случае, были близки к коммунистическим кругам, и все они оставили восторженные отзывы о советском обществе, воспроизводящие стандартные элементы «советского мифа»: коллективизм, интернационализм, открытость и особое достоинство советских людей, справедливое, разумное и демократическое устройство советского общества. Ортезе в своих путевых заметках предлагает значительно более объемную и неконвенциональную картину советского общества, резко отличающуюся от апологетических свидетельств начала 1950-х гг.
Очерки А. М. Ортезе были напечатаны в ноябре-декабре 1954 г. в журнале «Эуропео» (L’Europeo) под общим заголовком «Россия глазами итальянки» (La Russia vista da una donna italiana). В 1983 г. четыре очерка, описывающих путь из Праги в Москву и первые советские впечатления («От Праги до советской границы», «По направлению к Москве», «Вен- ские розы» и «Кремлевские воробьи»), были опубликованы в издательстве “Pellicanolibri” под названием «Русский поезд» (Il treno russo). В 1991 г. эти тексты вошли в сборник путевой прозы Ортезе «Темная линза» (La lente scura) вместе с остальными «советскими» очерками, объединенными под заголовком «Другие воспоминания о Москве» (Altri ricordi di Mosca) — «Делегация», «Визит (почти) на рассвете», «Тысяча девушек танцует в Кремле». Ортезе посетила Советский Союз в июне 1954 г. с делегацией Союза итальянских женщин — левой феминистской организации, с момента своего создания в 1944 г. существовавшей под эгидой Компартии Италии. В сентябре 1954 г. в печатном органе Союза — журнале “Noi donne” («Мы, женщины») — были опубликованы свидетельства одиннадцати участниц поездки, в том числе и Ортезе, а в ноябре 1955 г. в миланском издании коммунистической газеты «Унита» вышли четыре очерка писательницы под общим заглавием «Советские женщины, какими я их увидела» («портреты» четырех женщин, не упомянутых в «Русском поезде» и «Других воспоминаниях о Москве»), О значимости «советской» темы в позднейшем творчестве Ортезе свидетельствует глава «Дорогая Россия» из автобиографического романа «Шляпа с пером» (Il cappello piumato, 1979), а также тот факт, что при составлении сборника «Темная линза» в 1991 г. автор внесла в тексты очерков об СССР ряд значимых изменений как стилистического, так и фактологического характера [Clerici 2004, 488-492, 500-501].
Ортезе, чьи произведения к тому времени еще не были известны в СССР, вошла в состав делегации почти случайно, по ходатайству писателя и журналиста Марчелло Вентури (в те годы сотрудника миланской редакции газеты «Унита») [Traina 2003, 284], и, хотя делегация состояла из полутора десятков женщин из разных социальных слоев, от рабочих до буржуа, писательница, по ее собственному свидетельству, чувствовала себя среди них чужой. Враждебность членов делегации была вызвана, в первую очередь, тем, что, вступив в 1945 г. в Компартию, Ортезе отличалась независимостью взглядов; особенно сильное возмущение в партийных кругах вызвал вышедший незадолго до поездки сборник ее рассказов и очерков «Море не омывает Неаполь» (Il mare non bagna Napoli, 1953), описывавший тяжелые условия жизни в городе в послевоенные годы [подробнее об идеологическом конфликте с Компартией см.: Clerici 2002, 295-299]. Не случайно большую часть материалов о поездке в СССР писательница опубликовала не в коммунистической печати, а в буржуазном «Эуропео». Впрочем, ощущение «оторванности» от остальной делегации было отчасти обусловлено и самим маршрутом путешествия: боясь лететь на самолете, Ортезе, в отличие от соотечественниц, прибыла в Москву поездом (позже она по той же причине отказалась от предусмотренной программой поездки в Сталинград).
Путевые очерки Ортезе явно выделяются на общем фоне итальянской путевой прозы об СССР первой половины 1950-х гг. В отличие от своих предшественников, писательница сосредоточивает внимание на собствен-

ном душевном состоянии и переживаниях, в то время как приметы окружающей действительности уходят на второй план и предстают в преображенном, зачастую ирреальном виде, превращая действительное путешествие в странствие по внутреннему миру автора. Этот эффект особенно заметен в первых очерках, вошедших в сборник «Русский поезд» и посвященных железнодорожному путешествию из Праги в Москву. Реалии окружающего мира — плохая погода, дорожные неудобства, незнакомая обстановка ит.д., в сочетании с эмоциями самой писательницы — смущением, волнением, страхом — порождают почти мистические впечатления: таинственное «красное облако», окутывающее поезд ночью [Ortese 2004, 80], зловещие черные вороны в синем небе, «словно царапины на лбу» [Ortese 2004, 94] (здесь и далее перевод с итальянского — автора статьи). Даже вполне обычные явления — пустой вагон, остановки там, где «нет и тени станции» [Ortese 2004, 80], встреча с рабочим, который чинит путешественнице сломанный замок саквояжа, — приобретают мистический ореол: пассажиры появляются и исчезают, словно призраки («...юноша и его товарищ исчезают. <...> Не могу сказать, что ясно видела их шаги и лица. Знаю только, что замок исправен, я одна, а поезд едет к советской границе» [Ortese 2004, 81]); «переводчик» (вероятно, сотрудник органов госбезопасности) на советской границе, которую писательница пересекает в грозу, среди оглушительного грома и сверкающих молний, отличается бледностью, острыми чертами лица и «мрачным» блеском глаз [Ortese 2004, 82]. Очерки, объединенные в цикл «Другие воспоминания о Москве», в большей степени сосредоточены на «внешних» обстоятельствах путешествия: именно из них мы узнаем о составе делегации и программе визита (посещение автозавода, школы, бала выпускников в Кремле, поездка в Сталинград). Однако и в этих текстах Ортезе подчеркнуто субъективна. В обоих циклах очерков она избегает подробного описания окружающих реалий — мы видим лишь отдельные детали, каждая из которых наделяется символическим смыслом: так, в «Русском поезде» вид Кремля наводит на мысли о «крови, которая пролилась в это стране в <.. .> годы Революции» [Ortese 2004, 107], а воробьи на карнизе окна, напротив, воплощают собой радость жизни [Ortese 2004, 108]; в «Других воспоминаниях» сходный образ — бледнеющие с рассветом кремлевские звезды и первый утренний щебет воробьев [Ortese 2004, 306] — символически обозначает забвение печальной истории России (или СССР — Ортезе, как и большинство других итальянских авторов травелогов, часто употребляет эти слова как синонимы) и ее возможное счастливое будущее. Даже непременное посещение Мавзолея в интерпретации писательницы лишается официозного пафоса более ранних травелогов 1950-х гг. и напоминает не столько о прошлом и нынешнем величии Советского Союза, сколько о неостановимом ходе времени и о вечной глубинной основе русской жизни — «непобедимом идеализме», который скрывается за внешним «научным бесстрастием» [Ortese 2004, 308] советского строя.
Специфичность травелога Ортезе отчасти объясняется особенностями творческой манеры писательницы, тяготеющей к магическому реализму (не случайно ее первые рассказы были изданы при поддержке основателя итальянского магического реализма Массимо Бонтемпелли), синтезу документального и художественного и концентрации на внутренних переживаниях. Однако «советские» тексты, в особенности «Русский поезд», выделяются даже на фоне других образцов путевой прозы Ортезе — а путевой очерк был одним из ее излюбленных жанров. Так что, вероятно, стоит принять во внимание и душевное состояние писательницы в период поездки: создается ощущение, что, подобно авторам травелогов 1920-1930-х гг. [Голубцова 2021а, 369, 371-372], Ортезе воспринимает посещение СССР как путешествие в иной, потусторонний мир со своими законами, где ее ожидают смертельные опасности («.. .я спрашивала себя, вернусь ли я назад: я могла бы умереть в этом поезде <...> и меня бы бросили в каком-нибудь месте с трудным названием» [Ortese 2004, 86]) и невиданные чудеса («Я никогда не пила в столь ранний час, но я чувствую, что здесь возможно все. Я не уверена, что за вино в бокале — просто шампанское, или к нему подмешано солнце» [Ortese 2004, 94]). Образ России как потустороннего пространства уходит корнями в «русский миф», так же как и представление автора травелога о национальном характере русских, явно сформировавшееся под влиянием концепции загадочной и противоречивой «русской души», органически связанной с бескрайними просторами и однообразными пейзажами России. Символическим воплощением русского национального характера становится звук советских песен, которые автор слышит по радио, пересекая советскую границу: «Снаружи через окно до меня долетели ноты патриотических песен <.. .> Ощущение грубой силы (violenza) и красоты, а в середине припев, словно навязчивая мысль, не имеющая ничего общего с этой радостью, он словно выражал безнадежность одиночества и огромных, непреодолимых расстояний. Как будто кто-то взывал к солнцу посреди зимы или плакал на празднике» [Ortese 2004, 84-85]. На протяжении поездки Ортезе неоднократно замечает в советских людях грусть, сосредоточенность, даже враждебность, которые парадоксальным образом соседствуют с весельем, сердечностью, искренней заботой: во время беседы с попутчиками в вагоне-ресторане ее поражают то рассеянная улыбка, то затуманенный грустью взгляд, то внезапно воцарившееся неловкое молчание [Ortese 2004, 88-89]; открытость и приветливость соседки по купе, чье имя Ортезе передает как «Лучия Иванович», резко контрастирует с мрачной замкнутостью ее мужа [Ortese 2004, 86]; бал выпускников в Кремле наводит русскую переводчицу-сопровождающую на печальные мысли, поскольку «красота этих моментов, их счастье неотделимы от воспоминаний о прошлом, от мрачной русской истории» [Ortese 2004, 304]. Мифологема «загадочной русской души» в очерках органично сочетается с важным элементом «советского мифа» — представлением об особом достоинстве и серьезности граждан СССР, и в то же время пытливости, тяге к знаниям: «Он [попутчик] терпеливо смотрит на меня. Тысячу раз в России <...> я видела этот взгляд,

словно говорящий: “Объяснись, прошу тебя, я хочу понять все до конца”. <.. .> что делают другие народы? Что означает это? А то? И все это со спокойствием, абсолютным достоинством и напряженной волей» [Ortese 2004, 99-100]. Правда, скромная, старомодная одежда прохожих и неброские витрины магазинов — то, что предшественники Ортезе обычно воспринимали как признак достоинства советских граждан, — вызывает у писательницы лишь удивление, но не одобрение [Ortese 2004, 103-104]. Черты, которые у других авторов травелогов первой половины 1950-х гг. обычно раскрываются через описание социальных реалий (скромность одежды, популярность образования и самообразования — толпы людей в домах культуры и библиотеках, огромные тиражи книг и т.п.), у Ортезе находят свое выражение в манерах, словах и взгляде отдельных людей: автора интересуют, прежде всего, не социально-экономические достижения советского строя, а поведение и душевные качества советских людей.
Хотя писательница подчеркнуто дистанцируется от любых идеологий и старается опираться исключительно на собственный опыт и личное общение с советскими людьми, ее восприятие в значительной степени обусловлено влиянием элементов «русского мифа». Помимо уже упоминавшейся концепции «русской души», возможно, именно подспудным влиянием мифологизированных представлений о варварстве и стихийности русского народа и девственности, неосвоенности русской земли объясняется устойчивая ассоциация русских людей с миром природы и детства (о сравнении дикарей и детей в образе дикаря-ребенка см., например: [Коул 1997, 29-32; Федин 2010, 81). Соседка по купе обладает «грацией ребенка и свободой и беспечностью животного» [Ortese 2004, 87], молодой офицер описывается как «лесное божество» с «головой ребенка» и затуманенным взглядом, «как у новорожденных» [Ortese 2004, 88], одна из русских переводчиц похожа на «бледного мальчика» [Ortese 2004, 284], выпускницы на празднике в Кремле, «молчаливые и легкие, как снег» [Ortese 2004, 303], напоминают лесных или речных созданий (по справедливому замечанию Дж. Траины, подобные образы в принципе характерны для художественного и публицистического творчества Ортезе [Traina 2003, 285], однако в итальянских травелогах об СССР 1920-1930-х гг. эти образные ряды отчетливо связываются именно с влиянием «русского мифа» [Голубцова 2021b, 20]). Последний пример особенно интересен, поскольку в образах изящных девушек в старомодных белых платьях соединяются разные элементы «русского мифа» — не только принадлежность к миру природы, но и связь со старой Россией — «сказочной вчерашней Россией, какой она предстает у своих лучших писателей» [Ortese 2004, 303]. Впрочем, ассоциация русского пространства с дикой, неосвоенной природой может приобретать и противоположные, резко отрицательные коннотации, как в сцене посещения цирка, где артисты и публика предстают воплощением «первичной материи», «глухой и слепой силы», «животного счастья» — это ощущение, явно отсылающее к «русскому мифу», вызывает у писательницы почти физическую дурноту
[Ortese 2004, 286]. В данном эпизоде, где стихийное, природное начало противостоит одухотворенности советских граждан, «непрерывной работе сознания, направленной на искоренение в индивидах и в массах всего варварского и темного» [Ortese 2004, 286], мы сталкиваемся с имплицитным противопоставлением «русского» и «советского» мифа, которое ярко иллюстрируют слова Ортезе о «двух Россиях»: «одна — дикая, молчаливая, суровая; другая — сознательная, жадная до знаний, такая же суровая. Они различны <.. .> и все-таки это одна и та же Россия» [Ortese 2004, 101]. Впрочем, можно предположить, что само противопоставление русского и советского здесь уходит корнями в русский миф, а именно в мифологему противоречивой «русской души», то есть советское в травелоге мыслится одновременно и как противоположность русскому, и как его неотъемлемая часть. Сложное взаимодействие элементов русского и советского мифа прослеживается в трактовке пути развития советского общества: «Одна часть этого общества <.. .> говорила об огромной территории, о тридцатилетием одиночестве, о невероятном усилии всего народа ради того, чтобы выйти из подпольной жизни на свежий воздух <...> Другая часть показывала, что это усилие увенчалось успехом» [Ortese 2004, 298]. Упоминание «подпольной жизни» (vita del sottosuolo) явно отсылает к творчеству Достоевского (прежде всего, к «Запискам из подполья», итал. Memorie dal sottosuolo), которое составляет один из важных источников «русского мифа» и непосредственно влияет на формирование понятия «русской души». Таким образом, дореволюционная Россия, связанная с образами русского мифа, противопоставляется России советской как отрицательный полюс положительному, однако именно незримо присутствующая память о старой России, пусть и окрашенная в трагические тона, придает советской действительности глубину и высший смысл, превращая опыт «тридцатилетнего одиночества» и борьбы в «нечто более глубокое, более серьезное» [Ortese 2004, 298], далеко выходящее за рамки официальной пропаганды.
Очерки не встретили понимания среди итальянских сторонников Советского Союза — вероятно, из-за сосредоточенности автора травелога на собственных, не всегда позитивных внутренних переживаниях. Однако травелог Ортезе, при всей своей «неортодоксальности», рисует в целом положительный образ СССР и его граждан, в этом смысле продолжая традицию просоветских травелогов начала 1950-х гг. В последнем очерке участницы бала выпускников в Кремле — хрупкие, похожие на сказочных фей девушки, мечтающие стать инженерами, чтобы «возводить мосты, строить станки и дороги» [Ortese 2004, 306] — становятся олицетворением современной России и залогом ее счастливого будущего, а щебет воробьев символизирует жизнь и радость, не омраченные воспоминаниями о трагическом прошлом. При этом Ортезе, в отличие от своих предшественников, в полемике с антисоветским «лагерем» обращается не к идеологическим, а к психологическим аргументам: «Тридцать лет я слышала, что о России говорят как о стране духовно мертвой, морально опустошенной, мрачной
<...> И вот что сбивало меня с толку: я не видела никакой связи между этими утверждениями <...> и врожденной добротой, нравственной красотой, спокойным светом, который я замечала в столь многих взглядах» [Ortese 2004, 92]. Однако очерки Ортезе выделяются на фоне итальянской путевой прозы об СССР начала 1950-х гг. не только психологизмом, вниманием к внутреннему миру советских людей, стремлением к взаимопониманию и духовной близости с ними, но и присутствием в ее текстах элементов «русского мифа», которые в значительной степени определяли рецепцию Советского Союза в итальянских травелогах 1920-1930-х гг, но к началу 1950-х гг. были практически вытеснены новым «советским мифом». Можно предположить, что специфика очерков Ортезе, в том числе и «возвращение» ряда топосов «русского мифа», обусловлена не только индивидуальными склонностями и писательской манерой автора, но и меняющейся атмосферой эпохи, духом начинающейся «оттепели». В этом смысле Ортезе, первой из итальянских литераторов посетившая СССР после смерти Сталина, открывает новый этап в истории итальянских траве-логов о Советском Союзе: во второй половине 1950-х гг. даже комплиментарные к советской России тексты — «У будущего древнее сердце» (1956) К. Леви, «Сельский праздник для тридцати тысяч» (1957) П. П. Пазолини, «Я в России и Китае» (1958) К. Малапарте — не говоря уже о критических по тону очерках А. Моравиа из сборника «Месяц в СССР» (1958), будут радикально отличаться от восторженных отзывов первой половины десятилетия, и дело не только в неизбежной после XX съезда критике сталинизма. Во второй половине 1950-х гг. фокус внимания авторов все чаще переносится с общества на индивида, официальные встречи дополняются частными беседами в неформальной обстановке, а социально-экономический анализ — попытками психологического исследования. В этих травелогах будет развит ряд мотивов, впервые разработанных или получивших новую трактовку именно в очерках А. М. Ортезе (СССР как крестьянская, сельская страна, СССР и мир детства), однако топосы «русского мифа» не войдут в их число, и в итальянской путевой прозе 1950-х гг. «Русский поезд» и «Другие воспоминания о Москве» останутся единичным примером возрождения старого европейского «мифа о России». Даже в условиях хрущевской «оттепели» и десталинизации образ СССР в глазах итальянских литераторов по-прежнему будет определяться «советским мифом», сложившимся и достигшим наивысшего расцвета при Сталине. Однако кратковременный, но яркий ренессанс «русского мифа» в путевых очерках Анны Марии Ортезе становится предвестием — или симптомом — начинающихся перемен.
Список литературы "Русский поезд" и "Другие воспоминания о Москве" А. М. Ортезе в динамике развития "русского мифа" в итальянских травелогах 1950-х гг
- Голубцова А. В. Большевизм и религия в итальянских травелогах о Советской России 1920-1930-х годов // Quaestio Rossica. 2021. Т. 9. № 1. С. 361-378.
- Голубцова А. В. "Русский миф" в травелогах Винченцо Кардарелли и Коррадо Альваро о Советской России // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 15-24.
- Коул М. К. Культурно-историческая психология: наука будущего. М.: Когито-центр, Институт психологии РАН, 1997. 431 с.
- Федин А. В. Идея "благородного дикаря" в "иезуитских реляциях" XVII в. // Диалог со временем. 2010. Вып. 32. С. 65-93.
- Clerici L. Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, Milano: Mondadori, 2002. 732 р.
- Clerici L. Notizia sul testo // Ortese A. M. La lente scura. Milano: Adelphi, 2004. Р 469-501.
- Flores M. L'immagine della Russia sovietica. L'Occidente e l'URSS di Lenin e Stalin (1917-1956) [Risorsa digitale]. Firenze: GoWare, 2017. 550 p.
- Ortese A. M. La lente scura. Milano: Adelphi, 2004. 504 р.
- Traina G. L'atipico viaggio di Anna Maria Ortese a Mosca // Annali. 2003. № 20. P. 281-294.