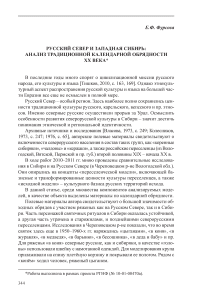Русский север и Западная Сибирь: анализ традиционной календарной обрядности XX века
Автор: Фурсова Е.Ф.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVII, 2011 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521784
IDR: 14521784
Текст статьи Русский север и Западная Сибирь: анализ традиционной календарной обрядности XX века
В последние годы много спорят о цивилизационной миссии русского народа, его культуры и языка [Тишков, 2010, с. 163,169]. Однако этнокультурный аспект распространения русской культуры и языка на большей части Евразии все еще не осмыслен в полной мере.
Русский Север - особый регион. Здесь наиболее полно сохранились ценности традиционной культуры русского, карельского, вепсского и пр. этносов. Именно северные русские осуществили прорыв за Урал. Осмыслить особенности развития северорусской культуры в Сибири – значит достичь понимания этнической и региональной идентичности.
Архивные источники и исследования [Власова, 1973, с. 249; Колесников, 1973, с. 247; 1976, с. 65], авторские полевые материалы свидетельствуют о включенности северорусского населения в состав таких групп, как «коренные сибиряки», «чалдоны» и «кержаки», а также российские переселенцы (из Вологодской, Вятской, Пермской и пр. губ.) второй половины XIX – начала ХХ в.
В ходе работ 2010-2011 гг мною проведены сравнительные исследования в Сибири и на Русском Севере (в Череповецком р-не Вологодской обл.). Они опирались на концепты «переселенческой модели», включающей базисные и трансформированные ценности культуры переселенцев, а также «исходной модели» – культурного базиса русских территорий исхода.
В данной статье, среди множества компонентов анализируемых моделей, в качестве объекта выделены материалы по календарной обрядности.
Полевые материалы автора свидетельствуют о большой значимости обходных обрядов с участием ряженых как на Русском Севере, так и в Сибири. Часть персонажей святочных ритуалов в Сибири оказалась устойчивой, а другая часть утрачена и старожилами, и позднейшими северорусскими переселенцами. Исследования в Череповецком р-не показали, что во время святок здесь еще в 1950–1960-х гг. наряжались «цыганами», «в коня», «в журавля», «в медведя», «в барыню», «в бесошника», «в деда и бабу» и пр. Для ряженья «в коня» северные русские, как и сибиряки, в качестве «головы» использовали швейку с намотанной одеждой. Для моделирования крупа прилаживали на спину плетёную корзину и покрывали ее пологом. Рядом с «конём» ходил человек, ряженый цыганом.
Для ряженья «журавлём» брали веретено, которое служило клювом. Веретено прикрепляли ко лбу человека, покрытого пологом. Для ряженья «медведем» выворачивали мехом наружу две шубы: одну надевали на плечи, а другую – на ноги и привязывали поясом к талии. На голову надевали вывернутую шапку, лицо закрывали марлей, руки - мохнатыми рукавицами. Детей, готовя к приходу ряженого, пугали: « Мишка, вот медведь придёт, он тебя валянёт ».
В компании ряженых была «барыня», которая рядилась в «баские» одежды. «Барыня» покрывалась красивыми платками, румянила щёки. Поверх шубы надевала нарядные кофты, широкие юбки. Ещё один персонаж – это «бесошник», костюм которого состоял из рваной, грязной одежды. На голову он надевал шапку, а лицо закрывал марлей.
Рядились также «дедом и бабой»: « Деду бороду сделают из льняной кудели, раньше же лён был. А тут шапка, и горб приделывали. Лицо закроют. Ходил в валенках ».
Накануне Рождества хозяйки Череповецкого р-на вместе с ребятишками лепили «коровушек» (козликов и пр.) из плотного пресного теста и ставили их на ночь на поветь, а утром выпекали в русской печи и подавали на стол. В Сибири этот обычай фиксируется только у поздних переселенцев из Вологодской, Архангельской и Санкт-Петербургской губерний конца XIX – начала ХХ в.
Полевые материалы позволяют утверждать, что на Русском Севере, в отличие от Сибири, не фиксируются новогодние посевальные обряды, а также обычай купания в крещенской проруби.
В северорусских деревнях ещё в 1960–1970-е гг. сохранялась традиция разжигания масленичных костров за околицей. Подростки собирали дрова со всех односельчан и разжигали костры. Вечером загадывали и смотрели, в какой деревне костёр выше. Было принято выпекать большое количество пирогов, «олашек» (оладьев), «рагулек», блинов (рис. 1). В последний день Масленицы, в воскресенье, родственники и соседи ходили друг к другу в гости просить прощения. В Череповецом р-не не строили и не брали снежных крепостей ни на Новый год, ни на Масленицу, как это было в сибирских селах [Фурсова, 2002, с. 112, 178].
В деревнях Череповецкого р-на не зафиксированы обряды закликания весны и выпечки «жаворонков», хотя в границах Вологодчины эта традиция существовала [Воронина, 2001, с. 397].
Во время Великого поста, в Середокрестие, в северорусских деревнях делали из плотного пресного теста кресты, в которые закладывали символические предметы. « В середину креста клали и уголька, и земельку, и денежек, соли, и пустое, кому что попадёт » (д. Шепелево Череповецкого р-на). Если попадалась монетка, то это означало богатую жизнь, а соль – «что солоно проживёшь». «Печина» (глина) считалась плохим знаком. В Сибири предпасхальные гадания известны мало. В основном здесь были распространены предсказаниях с привлечением кур - «уроки курам». Уп-

Рис. 1. Рагульки, шаньга и рыбник (русские Вологодской обл.). Фото автора.
рощенными выглядят на Русском Севере обычаи Вербного воскресенья (ветки «вербочек» ставили как букет в избе): большого значения им не придавали.
Весь советский период отмечали Пасху крашением яиц, но куличей, по словам информаторов, не выпекали. К празднику пекли большие пироги с творогом - «налитушки», а также смазанные сметаной булки - «помазени-ки» (рис. 2). Обязательно готовили домашнее пиво. Начинали пасхальную трапезу с яйца, которое резали по числу членов семьи. Для изучаемого периода не фиксируются обходные обряды с участием христославов.
Первый выгон скота северяне старались приурочить к «Егорию», что в Сибири не всегда было выполнимо. В Череповецком р-не не зафиксирован распространенный в сибирских селах обычай хлестать скот вербочкой в целях обеспечения его возвращения домой. Строго соблюдались два Николиных дня: зимний – 19 декабря и весенний – 22 мая.
С сибиряками северных русских объединял обычай устанавливать на Троицу берёзки в усадьбах, но пол свежей травой не посыпали. В воскресенье ходили на кладбище с поминальным угощением; посыпали могилы пшенной крупой. Во второй день праздника, который назывался «Духовым днем», как и в Сибири, старались избегать любой работы с землёй. Однако здесь не называли по-сибирски понедельник «Днём земли», а вторник – «Днём воды».
Северяне длительное время сохраняли праздник «Яичное заговенье», следовавший за «Духовым днём», в воскресенье. К этому дню красили яйца и играли с ними. Перед игрой участники складывали все яйца старой

Рис. 2. Пироги печет Л.П. Кувылева (д. Шепелево Череповецкого р-на). Фото автора.
бабушке в передник. Присутствие старушки, которая наблюдала за происходящим, подчеркивало важность игры. Для ее проведения готовили деревянные «чурочки», которые расставляли вдоль дороги. Деревянным шаром старались сбить чурочки, а в качестве приза получали яичко. Не выбивший чурочку, лишался яйца.
Отрицание купания до Ивана Купалы на Русском Севере фиксируют далеко не везде. Однако, как и в Сибири, существовал категорический запрет на купание после Ильина дня, когда, как говорили, «олень рога в воду опустил». В северорусских деревнях в большей степени почиталась Ильинская пятница, которая считалась грозовой.
Иванов день (Усекновение главы Иоанна Предтечи, 11 сентября) был престольным праздником в д. Шепелёво Череповецкого р-на. В давние времена (первая треть ХХ в.) к Иванову дню старались намолотить немного ячменя или пшеницы нового урожая на ручных жерновах. На праздник съезжалась молодежь из окрестных деревень. За околицей устраивали танцы. Играли в «чайники» («чайник повесила» – отказала парню в симпатии), «в плеточку». В этих забавах нетрудно увидеть аналоги с сибирскими играми «пеньки», «Сосед соседку любит?». Общий смысл игр заключался в том, что девушки должны были прилюдно выражать свои симпатии.
Проведенный анализ календарной обрядности Русского Севера свидетельствует, что структура базисной модели крестьянского календаря сохра- нилась в Сибири в полной мере. Акцент праздничной обрядности делался на зимний период. Наблюдалось расхождение лишь в некоторых аспектах: например, «журавль» не был актуален в Сибири. Тот факт, что в Сибири на Масленицу брали снежные крепости, видимо, объясняется влиянием казачества. Значительные аналогии обнаруживаются в летне-осенней обрядности. Таковы предварительные итоги историко-сравнительного анализа полевых материалов по календарной обрядности северных русских Череповецкого р-на Вологодчины и сибиряков Приобья.