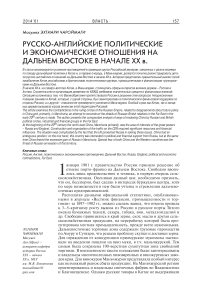Русско-английские политические и экономические отношения на Дальнем Востоке в начале XX в
Автор: Эхтиари Чароймаги Масумех Али Иран
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Миропорядок
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется усиление противоречий в правящих кругах Российской империи, связанных с разногласиями по поводу дальнейшей политики в Китае и, в первую очередь, в Маньчжурии; делается попытка реконструировать детали русско-английских отношений на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Автором представлен сравнительный анализ путей закабаления Китая российскими и британскими политическими кругами, промышленными и финансовыми группировками на Дальнем Востоке. В начале XX в. на северо-востоке Китая, в Маньчжурии, столкнулись сферы интересов великих держав – России и Англии. Строительство и организация движения по КВЖД требовали значительных средств и финансовых влияний. Ситуация усложнялась тем, что Великобритания препятствовала России в решении этих вопросов. Неоднозначную позицию занимал и Китай, который, с одной стороны, был заинтересован в политической и финансовой поддержке со стороны России, а с другой – опасался ее чрезмерного усиления в Маньчжурии. Особый страх как Китая, так и западных держав вызывала угроза аннексии этой территории Россией.
Россия, англия, политические и экономические противоречия, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/170167161
IDR: 170167161
Текст научной статьи Русско-английские политические и экономические отношения на Дальнем Востоке в начале XX в
1 января 1901 г. правительство России приняло решение об отмене порто - франко на Дальнем Востоке. Свободно ввози -лись лишь продовольствие и техника, в первую очередь сель -скохозяйственная. Оценивая данный шаг, необходимо признать, что он, бесспорно, был сделан в интересах буржуазии центра, хотя по мере возможности в нем были учтены и стремления дальнево -сточных предпринимателей.
ЭХТИАРИ ЧАРОЙМАГИ
Масумех
Али (Иран) – аспирант кафедры истории России XIX – начала
Располагая данными официальной статистики, опубликован ными в журнале «Вестник финансов, промышленности и тор -говли» за 1897—1902 гг., можно сделать вывод, что отмена привела к 3—5 - кратному росту вывоза из России в русские порты Тихого океана бумажных тканей, сахара, табака, вин, металлоизделий и др. Свободно привозились в край зерно, скот, масло и другая сель скохозяйственная продукция, на переработку которой была ори ентирована местная промышленность, прежде всего мукомольная. Дальневосточные торговые дома содержали грузовые пароходства по Амуру и Сунгари, что решало проблему скупки и доставки зерна. Для ограждения от конкуренции приамурские мукомолы настаи вали на введении пошлин на ввоз муки, в т.ч. маньчжурской. Тем самым была сохранена 100 верстная сухопутная зона свободной торговли. В неизменности такого положения были заинтересованы и владельцы многочисленных пивоваренных и винокуренных заво-дов края. Для винокуров Маньчжурия представляла особый интерес как возможный рынок сбыта продукции. На Маньчжурский регион ориентировались и владельцы спичечных фабрик во Владивостоке и Благовещенске. Однако русские товары в Китае не выдерживали конкуренции с иностранными ни по цене, ни по качеству1.
По структуре своей внешней торговли Россия занимала промежуточное поло -жение: она выступала и в качестве экс -портера сырья и продовольствия для раз -витых, и импортера для отсталых стран. К началу XX в. необходимость новой тор -говой политики сформулировал министр финансов С.Ю. Витте. Его программа превентивного захвата азиатских рынков, начавшая осуществляться еще в 1890-х гг., исходила из возможности удачной кон куренции продукции русских фабрик с западными товарами.
Однако усилия С.Ю. Витте продолжать борьбу за рынок вывоза русского капи тала становились рискованными с точки зрения не только английской буржуазии, но и французской биржи, которая была гораздо больше озабочена судьбой цар ских финансов в целом, чем проблемами Русско- Китайского банка в Маньчжурии. Таким образом, от своего союзника (Франции) политика России на Дальнем Востоке не получила поддержки2.
Затянувшийся экономический кризис, охлаждение в отношениях с Францией и раздуваемые В.М. Безобразовым подозре-ния против С.Ю. Витте и его курса на союз с интернациональным банковским капи -талом толкнули последнего летом 1902 г. на образование Маньчжурского горно промышленного товарищества целиком на средства казны. Русско Китайскому банку было представлено фактическое рабочее участие на основе заинтересован ности банка в половине прибылей в обмен на «всякую поддержку, как влиянием, так и опытом, и персоналом банка»3.
Политическую ситуацию после окку пации Маньчжурии Витте считал чрезвы чайно благоприятной для захвата мань чжурских недр и лесов. Он видел, что в России был «недостаток в капиталах даже для эксплуатации ее собственных природ ных богатств, и потому едва ли найдутся у России средства для разработки рудных месторождений Китая4. Но, будучи опти-мистом, он был «глубоко убежден», что «если царизм будет держаться существую щей экономической политики, то через года два все опять войдет в норму»5. Все это время необходимо было проводить активную государственную политику, рас считанную на «мирные», чисто экономи ческие методы.
4 февраля 1902 г. тотчас же после срыва переговоров об общей монополии Русско Китайского банка в Пекине С.Ю. Витте принял меры, чтобы на деле обеспечить за русским правительством права на все возможные промышленные концессии в Маньчжурии посредством отдельных конкретных соглашений банка с провин циальными властями. Он торопил своих банковских агентов на месте, чтобы они возможно энергичнее занялись скупкой концессий на добывание золота, железа, нефти, никеля и каменного угля, на экс плуатацию лесов по р. Ялу и «на другие крупные предприятия»6, и образовал для планомерного проведения этой операции особое Маньчжурское горнопромышлен ное товарищество.
Таковы были попытки завладеть про мышленными объектами в Маньчжурии после неудачи с получением формальной монополии на них по общему договору с пекинским правительством от 30 января (12 февраля) 1902 г. Представители обеих политических групп — и империалистиче-ской, и феодальной — проявили большую заинтересованность в этом деле, причем в обоих случаях шла речь о вложениях цели -ком из средств казны.
Побывав в Маньчжурии осенью 1902 г., С.Ю. Витте поднял вопрос о необходимо -сти новой железнодорожной концессии на линию от ст. Куанченцзы к Гириню, считая необходимым предварительно вывести русские полевые войска и занять войсками пограничной стражи все глав ные города Маньчжурии7. После оконча- ния Боксерского восстания и некоторой стабилизации внутреннего положения в Китае основной проблемой внешней политики России стало укрепление влия-ния в Маньчжурии, завершение строи -тельства КВЖД и обеспечение наиболее благоприятных условий эксплуатации этого участка Дальневосточной железной дороги.
В то же время в начале XX в. возросло английское влияние в Пекине, прежде всего в результате ослабления позиций русской дипломатии1. Усилились проти -воречия в правящих кругах Российской империи, связанные с разногласиями по поводу дальнейшей политики в Китае, и в первую очередь в Маньчжурии.
Провозглашение отказа от захвата Маньчжурии и обещание вывести оттуда свои войска было, безусловно, торжеством политики С.Ю. Витте и поражением А.Н. Куропаткина (пока, конечно, только принципиальным). А.Н. Куропаткин всегда неохотно согла-шался на вывод войск, особенно из северной Маньчжурии, и до последнего момента стоял за присоединение север ной Маньчжурии к России по военно стратегическим соображениям.
Фактически С.Ю. Витте до самой своей отставки сосредоточивал в своих руках пружины и нити всей дальневосточной политики. Этому способствовало назна-чение В.Н. Ламздорфа министром ино-странных дел, что уменьшило шансы экс пансионистски настроенных политиков, противодействующих умеренному курсу Витте в Китае.
После окончания Боксерского восста ния начались переговоры великих держав о возмещении понесенных ими убытков. Из 500 млн руб., которые Китай обязался уплатить в возмещение их «убытков», на долю России пришлось около 184 млн руб.
В.Н. Ламсдорф сделал практический вывод о необходимости скорейшей под готовки полной эвакуации войск из Маньчжурии. Ибо «при малейшем неосто-рожном действии со стороны наших воен ных властей на месте, нередко склонных предъявлять требования по праву завое -вания и указывать на сделанные в Китае приобретения штыком и кровью, воз можно, всегда ожидать перехода Японии к активной политике»2.
В результате неудачных переговоров в Петербурге возник новый план россий ской дипломатии: отдать Корею Японии и самим открыто отказаться от «захвата» Маньчжурии. Однако Россия не была готова уйти из Маньчжурии без всяких условий. Это понималось как «огражде ние интересов» Общества КВЖД. В число сформулированных тогда же в Петербурге условий возвращения Китаю Южно Маньчжурских железных дорог финан совое ведомство включило требование о предоставлении Обществу КВЖД кон цессии на линию к Пекину, и именно это выдавалось за «ограждение интересов» КВЖД з .
Из документальных источников известно, что с января 1901 г. Лондон был центром взаимного зондирования и неофициальных бесед между английской, японской и германской сторонами. Речь шла о том, при каких условиях Япония пошла бы на выступление против России из-за Маньчжурии. Германия готова была обещать строгий нейтралитет, Англия не отказывалась обсуждать вопрос о помощи флотом. Япония решительно заявляла, что не остановится перед войной без посто ронней помощи из за Кореи, но в случае войны из за Маньчжурии ее тревожил во прос о позиции, какую займет Франция как союзница России.
18 (31) июля 1901 г. в Лондоне граф Хаяси Тадасу получил предложение начать переговоры о союзе, прямо связывая их с позицией России в Маньчжурии. 19 июля (1 августа) в Петербурге В.Н. Ламсдорф в ответ на мартовский демарш Японии сооб щил своим коллегам о принятом царем решении приступить к эвакуации русских войск из Маньчжурии по собственному почину.
20 июля (2 августа) в Пекине Ли Хунчжан заявил одному из агентов С.Ю. Витте, что он желал бы возможно скорейшего очи щения Маньчжурии от русских войск и потому хотел возбудить вопрос о пере смотре соглашения о Маньчжурии, и просил узнать мнение С.Ю. Витте по этому вопросу1. Отношения Пекина и Петербурга повернули дело целиком в пользу англо -японских переговоров. В результате 30 января (12 февраля) В.Н. Ламсдорфу был официально предъявлен готовый текст англо -японского союзного договора.
Провал царской дипломатии здесь заключался не только в том, что она не сумела или не смогла предотвратить эту опасную для России комбинацию. Главное состояло в том, что Россия была застигнута этой комбинацией врасплох. Для объясне-ния сложившейся ситуации С.Ю. Витте пустил в ход легенду, согласно которой русофильский экс - министр Ито приехал в Петербург, чтобы договориться о союзе с Россией, да только вот царь под влиянием «безобразовской шайки» помешал своим министрам. Ито был встречен «холодно», не нашел «сочувствия наверху» и уехал в Англию, где немедленно вслед за тем и был заключен англо-японский союзный договор2.
23 сентября (6 октября) в Пекине изу-чили и одобрили договор о выводе войск. Ли Хунчжан попросил у представителя Русско - Китайского банка дать ему про -ект банковского соглашения от 24 сентя-бря (7 октября). Сопоставляя даты, сле-дует отметить, что этот шаг был сделан почти день в день с данным из Токио 25 сентября (8 октября) телеграфным пред -писанием японскому послу в Лондоне приступить к формальным переговорам об англо - японском союзе. Далее 27 сен -тября (10 октября) Ли Хунчжан, получив проект банковского соглашения, устроил русскому представителю банка бурную сцену и категорически отказался отдать в руки банка всю Маньчжурию. 30 сентября (3 октября) в Петербурге было получено телеграфное сообщение из Токио, что японский министр иностранных дел барон Д. Комура весьма озабочен полученными из Пекина известиями о возобновлении переговоров о Маньчжурии. Наконец, 2 (15) октября Ли Хунчжан в Пекине заявил одновременно русскому послу о желании подписать договор о выводе войск, а бан ковскому представителю — о неизбежно -сти протестов держав по поводу концесси онных монополий, внушив своими упор ными ссылками на это препятствие подо зрение о том, что «не связан ли уже Китай в этом вопросе секретным обязательством с иностранными державами»3.
Пекинские переговоры прервались. До начала февраля 1902 г. петербургские оптимисты еще прилагали усилия, чтобы договориться с Пекином, стоя на старых позициях и торгуясь за каждое слово в бан -ковском соглашении, лишь бы отстоять Маньчжурию от наводнения иностран цами4. Договор 26 марта (8 апреля) 1902 г., по которому Россия обязалась вывести свои войска из Маньчжурии к 26 сентября (9 октября) 1903 г., был плодом очевидного для всех ее дипломатического поражения в вопросе о влиянии в Маньчжурии5.
Дипломатический договор, таким обра зом, зацепился за банковский, и дело с ними зашло в тупик.
Определилась позиция Англии: с самого начала ведя двусмысленную игру заку лисного подстрекательства то одной, то другой стороны, английская буржуазия теперь открыто в своей прессе привет ствовала возможность противопоставить России сильную Японию6.
Царская дипломатия, особой оговор -кой в договоре 26 марта поставившая эва куацию русских войск из Маньчжурии в зависимость от образа действий дру гих держав, попала в сложную для себя обстановку. Теперь действия России на Дальнем Востоке еще больше осложни лись противодействием европейских дер жав и Японии. Англо-японский военно -политический союз 1902 г. был направлен против России и являлся грозным пред вестником будущей русско японской войны.