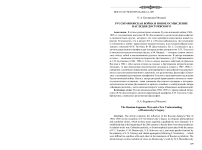Русско-японская война и новое осмысление наследия Достоевского
Автор: Богданова Ольга Алимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено влияние Русско-японской войны 19041905 гг. на рецепцию наследия Ф. М. Достоевского в религиозно-философских и символистских кругах, которая в эти годы приобрела качественно новый характер. Установлено, что в начале XX в. в России наблюдались три тенденции в отношении к войне: православно-патриотическая, или историософская (связанная с именами Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, Вл. С. Соловьева и др.), антигосударственно-пацифистская (подкрепленная авторитетом Л. Н. Толстого) и виталистско-апологетическая (вслед за Ф. Ницше), - которые сложно сочетались между собой в высказываниях русских символистов. В центре внимания в статье - эволюция взглядов на творчество Достоевского у Д. С. Мережковского и С. Н. Булгакова в 1904-1906 гг. Если в начале военных действий на Дальнем Востоке в 1904 г. оба в целом стояли на сходных с Достоевским патриотических позициях, то при обострении политической ситуации в стране в 1905-1906 гг., связанном с военными поражениями, разочарованием в российской государственности и ростом революционного движения, эти религиозные философы сблизились с антиправительственным пацифизмом Толстого в категорическом осуждении Русско-японской войны. Вкупе с дискредитацией православия в контексте «нового религиозного сознания», такая динамика обусловила недоверие к историкополитическим взглядам Достоевского и критику «ошибок» и «заблуждений» автора «Дневника писателя», часть наследия которого теперь объявлялась неприемлемой.
Русско-японская война 1904-1905 гг, православный патриотизм ф. м. достоевского, антигосударственный пацифизм л. н. толстого, серебряный век, символизм, религиозная философия
Короткий адрес: https://sciup.org/149140443
IDR: 149140443 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-109
Текст научной статьи Русско-японская война и новое осмысление наследия Достоевского
Еще в преддверии катастрофических событий первого десятилетия XX в., на третьем заседании Религиозно-философских собраний (в начале 1902 г.) Д. С. Мережковский солидаризировался с Ф. М. Достоевским как автором «Дневника писателя» за 1877 г. (см. главы об «Анне Карениной» [Достоевский 1983, 198-223]) по вопросу об «отпадении» Л. Н. Толстого «от русского всеобщего и великого дела»: по мнению критика, отлучением последнего в 1901 г. «[р]усская церковь только засвидетельствовала, четверть века спустя после Достоевского, эту теперь уже всем известную, очевидную истину» [Записки... 2005, 51]. Эта солидарность, судя по содержанию полемики Достоевского с Толстым (о Русско-турецкой войне 1877-1878 гг), в первую очередь распространялась на положительное отношение к войне, которую вело тогда российское государство. Как отмечает Ю. В. Зобнин, вплоть до «мировоззренческой катастрофы 1905 года» позиция Мережковского — «твердый, здравый патриотизм русского интеллектуала-государственника, равно далекий как от верноподданических шовинистических восторгов, так и от интеллигентского анархического нигилизма» [Зобнин 2008, 118].
В прочитанной осенью 1904 г. в Ялте и Петербурге публичной лекции «Чехов как мыслитель» С. Н. Булгаков, представляя автора «Скучной истории» как «поэта мировой скорби» по современному ему человеку, лишенному «метафизического и религиозного сознания», отметил, что в июле 1904 г, в самый разгар Русско-японской войны, А. П. Чехов ушел из жизни, завещав «нашей интеллигенции» «подняться <...> до высоты своих исторических задач» [Булгаков 1910, 24]. «Давно уже слышатся глухие подземные удары. Восточную сторону неба охватило багровое зарево все разгорающегося пожара, — писал Булгаков с неподдельным патриотическим пафосом. — <.. .> Будем верить, что эти дни <.. .> приведут к национальному возрождению <...>. В предсмертном бреду А<нтону> П<авлови>чу грезился японский матрос, поднявший топор над вишневым садом <...>. И как будто уже начинает осуществляться предчувствие Чехова, по обычаю вложенное им в уста третьему лицу, барону Тузенбаху: “Пришло время, <.. .> готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже

близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку”. <...> Всякий день теперь принадлежит истории, и мы должны помнить о той неимоверной исторической ответственности, которая ложится на нас за <...> каждую ошибку перед родиной и нашим потомством» [Булгаков 1910, 46]. По сути дела, здесь оправдывалась и по-своему прославлялась Русско-японская война как общенациональное дело.
Сделаем небольшой экскурс в творчество самого Достоевского в аспекте отношения писателя к войне. Свое восприятие войны автор «Братьев Карамазовых» полнее всего выразил в «Дневнике писателя» за 1877 г, откликаясь на события Русско-турецкой войны и их отражение в романе Толстого «Анна Каренина». Еще в 1840-1870-е гг. эту полемику концептуально предварили статьи и стихотворения Ф. И. Тютчева, а на рубеже XIX XX вв. она продолжилась в статьях и трактатах Вл. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова и др.
В Серебряном веке в первую очередь был воспринят религиознофилософский вектор понимания истории Достоевским [см.: Гачева 2004, 420-421]. В самом деле, в «Дневнике писателя» за 1877 г, следуя в оценке событий Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. за многими суждениями умершего к тому времени Тютчева, Достоевский защищал именно вероисповедный принцип ведения войны [см.: Козловский 1915, 93, 97]. Последний же предполагал следующее: во-первых, особый взгляд на Россию, которая «несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие», и является «хранительниц[ей] Христовой истины, <.. .> настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах» [Достоевский 1981, 43, 46]; во-вторых, из этого особого качества России следует, по Достоевскому, «потребность наша всеслу-жения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам <...>» [Достоевский 1981, 47]. Для писателя в 1877 г. нет ничего «святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия»: «Итак, не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть» [Достоевский 1983, 99-100]. Эта поистине «народная» война «освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте» [Достоевский 1983, 95-96].
Тем не менее отметим, что есть основания видеть неоднозначность отношения Достоевского к войне, которая, однако, не стала предметом рефлексии в Серебряном веке. Один из современных исследователей приходит к выводу о том, что «Достоевский оставляет без внимания православные народы Кавказа» в противостоянии с мусульманской Османской империей и в «контексте его размышлений о русской идее вопрос национальности оказывается едва ли не важнее вопроса вероисповедания» [Михновец 2022, 138].
Что касается автора «Анны Карениной», то он иронически отнесся к так называемому «общественному мнению», поддержавшему войну с Турцией за освобождение славян: «<...> было <...> радостное для
Сергея Ивановича явление: это было проявление общественного мнения. Общество определенно выразило свое желание. Народная душа получила выражение, как говорил Сергей Иванович. И чем более он занимался этим делом, тем очевиднее ему казалось, что это было дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху» [Толстой 1935, 353]. Напротив, Достоевский приветствовал «сближение с народом» «в общей солидарности для общего дела. Солдат и его офицер живут теперь там единым духом и единым чувством. Интеллигенция роднится с народом <.. .>» [Достоевский 1983, 169-170].
Через много лет после окончания этой войны и смерти Достоевского, уже на рубеже XIX XX вв., Толстой развивал свои мысли в статьях «Патриотизм или мир?» (1896), «Патриотизм и правительство» (1900), «Не убий» (1900) и др. По его мнению, «нужно уничтожить то, что производит войну. Производит же войну желание исключительного блага своему народу, то, что называется патриотизмом. А потому для того, чтобы уничтожить войну, надо уничтожить патриотизм», который «есть пережиток варварского времени», его «не только не надо возбуждать и воспитывать, как мы это делаем теперь», но «надо искоренять всеми средствами: проповедью, убеждением, презрением, насмешкой» [Толстой 1958, 48-49]. В июне 1904 г. в лондонском издательстве «Свободное слово», а также в ряде западноевропейских газет была опубликована статья Толстого «Одумайтесь!» о Русско-японской войне, осуждавшая наступательную политику царского правительства.
Еще в 1890-е гг. линию Достоевского по отношению к войне поддержал такой авторитетный для Серебряного века мыслитель, как Вл. С. Соловьев. В трактате «Оправдание добра. Нравственная философия» (1897) отчетливо прозвучала критика толстовских взглядов, в чем Соловьев обнаружил свою близость к традиции Достоевского: «Те учения, которые безусловно-отрицательно относятся к войне и вменяют каждому в долг отказывать государству в требовании военной службы», по его мнению, несостоятельны [Соловьев 1988, 480-482].
Антагонистом толстовского «непротивления злу насилием», наряду с Достоевским и Соловьевым, был и Н. Ф. Федоров, о чем свидетельствует его отклик на воззвание Толстого 1900 г. «Не убий!», в котором автор «Анны Карениной», осуждая терроризм, одновременно призывал к игнорированию военной службы и уплаты налогов [см.: Толстой 1952, 200-205]. Федоров же выступил как патриот и защитник государства — необходимой ступени к народному «совершеннолетию» [см.: Федоров 1999, 37-41].
Таким образом, в русском обществе начала XX в. можно выделить две главные тенденции отношения к войнам, ведущимся Российской империей. В символистских и религиозно-философских литературных кругах, наряду с «Достоевским» и толстовским подходами, играла роль и третья составляющая — богоборческо-виталистская апология войны в набиравших популярность работах Ф. Ницше. «Такое высоко цивилизованное, а по-

тому неизбежно утомленное человечество, которое представляют сегодняшние европейцы, — утверждал немецкий философ в трактате «Человеческое, слишком человеческое» (1878), — нуждается не просто в войнах, а в войнах величайших и ужаснейших, то есть во временных рецидивах варварства, чтобы, совершенствуя инструменты культуры, не лишиться своей культуры и самого своего существования» [Ницше 2011, 286]. Наблюдалось и парадоксальное сочетание указанных тенденций у одного и того же автора, например у В. Я. Брюсова [см.: Летопись 2017, 378].
Влияние крупных исторических событий на литературный процесс в целом и на рецепцию тех или иных писателей-предшественников давно замечено в науке [см.: Политика и поэтика 2014; Перелом 1917 года 2017]. В связи с этим немаловажно, что масштаб Русско-японской войны (январь 1904 — август 1905 г.) виделся в месяцы ее развертывания гораздо более значительным, чем в последующие годы, когда в исторической ретроспективе она была заслонена такими всеохватными катаклизмами, как две мировые войны и три революции. Современникам же эта война «представлялась знаком начавшейся трансформации мирового порядка» [Шевеленко 2017, 81]. Такое понимание в целом вписывалось в историософскую традицию Достоевского. Неудивительно, что для авторов журналов «Новый путь», «Вопросы жизни» и «Весы» «война с Японией стала катализатором их вовлечения в дискуссию о цивилизационной принадлежности России <...>», спровоцировав определенные сдвиги «в мышлении представителей модернистского лагеря» [см.: Шевеленко 2017, 97-98].
И если в начале 1904 г. ожидание победы над Японией «цементировало веру в величие российского имперского (государственного) проекта», то горечь военных поражений конца 1904 г. сделала его же «главным объектом обличения» [Шевеленко 2017, 104-105]. Начиная с 1905 г. ему была противопоставлена идея «национального обновления», субъектом которого становился теперь отделенный от государства русский народ с его религиозно-культурным своеобразием. «Кризис европейской идентичности и кризис лояльности к государству», запущенные неудачей в Русско-японской войне, «сформировали внутри образованного сообщества спрос на иное понимание собственной традиции» [Шевеленко 2017, 107], важным следствием которого в модернистских и религиозно-философских кругах стало переосмысление наследия Достоевского.
Как раз в 1904-1906 гг. шло издание томов двух полных собраний сочинений автора «Братьев Карамазовых» (Юбилейного, 6-го, и более демократичного 7-го). Так, в феврале 1906 г. вышел 8 том Юбилейного (6-го) ПСС Достоевского с текстом «Бесов» и ранее неизвестными материалами к этому роману из записных тетрадей Достоевского. Здесь впервые была опубликована первая часть главы «У Тихона» по незавершенному списку, выполненному А. Г. Достоевской. Также впервые были опубликованы авторские характеристики главных персонажей «Бесов» из «Записных книжек» Достоевского 1870-1871 гг. Несколько отрывков из так называемых «фантастических страниц» подготовительных материалов к «Бесам»
раскрывали онтологическую масштабность и религиозно-философскую глубину образа Ставрогина в его беседах с Шатовым, способствуя формированию концепта «религиозной революции» в статьях Мережковского, Булгакова и Волжского (А. С. Глинки) 1905-1906 г. [см.: Мережковский 1906; Булгаков 1906; Волжский (А. С. Глинка) 1906а; Волжский (А. С. Глинка) 1906b],
В своих «Воспоминаниях» (1911-1916 гг.) А. Г Достоевская писала о том, что этими двумя изданиями «закончила свою издательскую деятельность, продолжавшуюся 38 лет (1873-1910 гг). Силы мои оказались надорванными последними изданиями, главным образом, потому, что мне пришлось провести их (то есть издать и распространить) в смутные годы японской войны и революции, что, конечно, отразилось и на успехе изданий, которые мне не только не принесли обычной выгоды <.. .>, но заставили понести значительный денежный ущерб» [Достоевская 2015, 575].
В феврале 1904 г. Мережковский разместил в первых двух номерах журнала «Новый путь» предоставленные ему А. Г. Достоевской архивные материалы из записной книжки Достоевского. 147 подготовительных отрывков к «Дневнику писателя» публиковались здесь впервые. При этом редакция журнала декларировала: «“Новый путь” рад начать свой второй год строками того из русских писателей, мысль и вера которого ему наиболее близки (Курсив мой. — О.Б.)» [Примечание редакции 1904, 1]. Однако в мае 1904 г. Мережковские посетили Толстого в Ясной Поляне. Вспоминая в «Автобиографической заметке» о своем предпочтении Достоевского в трактате «Л. Толстой и Достоевский» (1898-1902), писатель-символист сожалел о том, что в этой книге «был не совсем справедлив» к Толстому, который уже во время яснополянского свидания 1904 г. оказался ему «все-таки ближе, роднее Достоевского» [Мережковский 1914, 294]. В то время Русско-японская война длилась уже не один месяц. Вскоре, в 1905 г. была написана знаменитая статья Мережковского «Пророк русской революции» с резкой критикой социальных и политических взглядов Достоевского: в самом факте оправдания им войны, несмотря на христианское отрицание «крови по совести» в «Преступлении и наказании», скрыт, по мысли Мережковского, «софизм, достойный Великого инквизитора»; это «противоречие» в намерениях Достоевского между всемирным торжеством православия и необходимостью «кровопролитной <...> войны» для этой цели «обнаруживается окончательно в реальном действии, в современной международной политике, в которой мечтал он воплотить эту всемирно-историческую схему, особенно в статьях по восточному вопросу из “Дневника писателя” за 1876-77 год, накануне и во время русско-турецкой войны» [Мережковский 1906, 18-19]. Упоминание о «современной международной политике» с очевидностью экстраполирует давние высказывания Достоевского со знаком минус на Русско-японскую войну, которая и выступила катализатором движения Мережковского от Достоевского к Толстому.
Проследим также динамику отношения к Достоевскому С. Н. Булгако-
ва. В ноябре 1906 г. вышел в свет 1 том Юбилейного ПСС Достоевского со вступительной статьей Булгакова «Чрез четверть века». Симптоматично, что здесь философ отчетливо противопоставил в творчестве великого писателя прозорливого художника («<...> теперь мы стали внимательнее прислушиваться, о чем так мучаются и так страстно и иногда темно говорят герои Достоевского самые задушевные речи, к которым так удивительно глухи оставались его современники» [Булгаков 1906, IV-V]) и мыслителя, отрицавшего революцию и в ряде случаев оправдывавшего войну. При этом Булгаков настойчиво пытался записать Достоевского, вопреки его публицистике 1870-х гг, не только в ряды гипотетических сторонников социальной революции 1905 г, но и в противники «позорн[ой] и преступней]» Русско-японской войны: «Если бы видел Достоевский, что Россия, <...> забыв о деле освобождения христианских народностей от Турции, предоставила их там своей участи, зверскому истреблению, а сама выступила в роли международного хищника на Дальнем Востоке, куда вели ее жадность и безумие бюрократических Навуходоносоров, по-своему понимавших ту миссию в Азии, к которой он звал Россию!» [Булгаков 1906, XXXII]. Рассуждая в сослагательном наклонении, Булгаков, в отличие от Мережковского в «Пророке русской революции», стремился сделать Достоевского своим мировоззренческим союзником, переворачивая его высказывания в соответствии с собственными предпочтениями: чаянием «религиозной революции» в России и осуждением «войны русско-японской, вызванной хищнической политикой России в Китае» [Булгаков 1906, XXV].
В связи с этим показательна позиция семьи Достоевского в 1904 1905 гг. Вдова писателя вспоминала: «Во время японской войны я вместе с дочерью записалась в кружок <...>. Члены кружка сходились довольно часто и готовили сумочки с разными принадлежностями (сахар, чай, папиросы и проч.), которые отсылались солдатам, бывшим на войне» [Достоевская 2015, 570]. Тем не менее, по мнению Булгакова, автором «Дневника писателя» за 1877 г. была «заранее осуждена русско-японская война из-за обогащения ничтожной кучки лиц, не имеющая даже намека на “великодушную идею”» [Булгаков 1906, XXV XXVI]. Вспоминая о «задачах русского влияния в Азии», указанных в «предсмертном <...> Дневнике» Достоевского, который уже в 1881 г. «понимал всю неизбежность передвижения исторического центра тяжести в сторону Азии, заметно начавшегося теперь», Булгаков с публицистической эмоциональностью утверждал, что это «не имело ничего общего с тем, как стали осуществлять русское влияние люди, обесславившие там русское имя и приведшие Россию к катастрофе» [Булгаков 1906, XXVI]. Так как, по мнению философа Серебряного века, Русско-японская война стала выражением политики ненавистного ему (но, заметим, не Достоевскому!) самодержавия, то ее осуждение по сути дела приравнивалось к отрицанию существующей российской государственности, что, в свою очередь, маркировалось поддержкой первой русской революции, совершавшейся параллельно во имя освобожде- ния «народа-великомученика» от «бюрократического вампира» [Булгаков 1906, XXXIII]. Однако, считаясь с фактической позицией Достоевского по вопросам о войне, революции и самодержавии, Булгаков вслед за Мережковским вынужден был заговорить об «ошибках» автора «Дневника писателя», которые «теперь, через четверть века, становятся очевидными» [Булгаков 1906, XXVI], и в другой своей статье того же времени, обсуждая его «политические заблуждения», признать, что в Достоевском «есть нечто и такое, от чего надо отказаться»: в его душе «чистейшее золото спаялось с золою и шлаком, окончательного отделения их не произошло, и оборвавшаяся жизнь унесла в могилу тайну разрешения, синтеза, примирения и последней очистки, отделения добра от зла» [Булгаков 1907, 2-3] (впервые: Свобода и культура. 1906. 1 апреля. № 1. С. 1-36).
В августе 1905 г. Русско-японская война закончилась. Ее события развивались одновременно с революционными настроениями и во многом их спровоцировали. Так, например, именно в результате поражений России (падения Порт-Артура в декабре 1904 г, разгрома русского флота в Цусимском сражении в мае 1905 г. и др.) Мережковский и З.Н. Гиппиус стремительно «левеют»: 29 июля 1905 г. в беседе с женой Мережковский признался в том, что «окончательно уверился в “антихристианской” сущности русского самодержавия» [Зобнин 2008, 409]. Возрастающая симпатия к Толстому, с его резкой оппозиционностью российской власти, усиливала и антивоенные настроения обоих супругов. Летом 1905 г. в Одессе, случайно встретив искалеченных русских офицеров, возвращавшихся с Дальнего Востока, Мережковский обратил внимание Гиппиус на «ненормальное» выражение их лиц: «Нормально, что они ненормальны... Война — дело нечеловеческое» [Зобнин 2008, 261]. Переходу от, условно говоря, «Достоевского» к «толстовскому» восприятию войны также способствовали общий пересмотр «исторического христианства» и недоверие к Православной церкви в эпоху распространения «нового религиозного сознания» и новейших оккультных учений.
Как видим, неудачная для России Русско-японская война поначалу осмыслялась Мережковским и Булгаковым преимущественно историософ-ски, развивая и адаптируя к современной политической ситуации идеи близкого для них Достоевского. Однако под влиянием военных неудач, дискредитации православия в свете формирования «нового религиозного сознания» и роста революционных настроений маятник предпочтений качнулся от православного патриотизма Достоевского в сторону антигосударственного пацифизма Толстого, что не могло не спровоцировать недоверия к политическим и историческим взглядам первого. Оно резонировало с неприятием антиреволюционности автора «Бесов» в месяцы нарастания общественного протеста. В итоге названные авторы заговорили об «ошибках» и «заблуждениях» писателя, в наследии которого, по их мнению, от многого следовало отказаться.

Список литературы Русско-японская война и новое осмысление наследия Достоевского
- [Б.п.] Примечание редакции // Новый путь. 1904. № 1. С. 1.
- Булгаков С. Н. Чехов как мыслитель. М.: Изд-во литературного кружка имени А. П. Чехова, 1910. 47 с.
- Булгаков С. Н. Чрез четверть века // Достоевский Ф. М. Юбилейное (6-е) полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 1. СПб.: Тип. П. Ф. Пантелеева, 1906. С. III-XL.
- Булгаков С. Н. Венец терновый (Памяти Ф. М. Достоевского). СПб.: Тип. Отто Унфуг, 1907. 20 с.
- (а) Волжский (А. С. Глинка). Достоевский и самодержавие // Московский еженедельник. 1906. № 12. 27 мая. С. 377-382.
- (b) Волжский (А. С. Глинка). Памяти Ф. М. Достоевского // Московский еженедельник. 1906. №№ 40, 41. 23 и 30 декабря. С. 41-56, 47-59.
- Гачева А. Г. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»: Достоевский и Тютчев. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 637 с.
- Достоевская А. Г. Воспоминания, 1846-1917 / вступит. статья, подгот. текста, примеч. И. С. Андриановой, Б. Н. Тихомирова. М.: Бослен, 2015. 768 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 23. Л.: Наука, 1981. 424 с.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 25. Л.: Наука, 1983. 472 с.
- Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.) / общ. ред. С. М. Половинкина. М.: Республика, 2005. 543 с.
- Зобнин Ю. В. Дмитрий Мережковский. Жизнь и деяния. М.: Молодая гвардия, 2008. 435 с.
- Козловский Л. Мечты о Царьграде (Достоевский и К. Леонтьев) // Голос минувшего. 1915. № 2. С. 88-116.
- Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — октябрь 1917). Вып. 2. Часть 1. 1901-1904. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 528 с.
- Мережковский Д. С. Пророк русской революции. К юбилею Достоевского. СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1906. 154 с.
- Мережковский Д. С. Автобиографическая заметка // Русская литература XX века. 1890-1910: в 3 т. / под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 1. М.: Мир, 1914. С. 288-294.
- Михновец М. В. Образы окраин Российской империи в творчестве Ф. М. Достоевского: геополитический и историко-литературный аспекты: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. СПб., 2022. 172 с.
- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 2. М.: Культурная революция, 2011. 672 с.
- Перелом 1917 года: революционный контекст русской литературы: исследования и материалы / отв. ред. В. В. Полонский. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 864 с.
- Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном контексте Первой мировой войны: публикации, исследования и материалы / отв. ред. В. В. Полонский. М. ИМЛИ РАН, 2014. 877 с.
- Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. 892 с.
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 19. М.: ГИХЛ, 1935. 520 с.
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 34. М.: ГИХЛ, 1952. 629 с.
- Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1999. 687 с.
- Шевеленко И. Д. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 333 с.