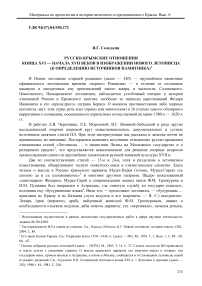Русско-крымские отношения конца XVI - начала XVII веков в изображении Нового летописца (к определению источников памятника)
Автор: Солодкин Я.Г.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
С целью определения источников посвященных русско-крымским отношениям 1580-х - 1620-х гг. статей Нового летописца старшей редакции последние сопоставляются с другими известными нам документальными и нарративными памятниками того времени. Это произведение, в отличие от иных сочинений такого же жанра отмеченное устойчивым интересом к военному противостоянию или мирным контактам двух стран, позволяя судить об оценках двусторонних связей в окружении царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, почти во всех соответствующих статьях имеет документальную основу либо запечатлело устную традицию.
Новый летописец, источники, русско-крымские отношения, федор иванович, борис годунов, московская смута, казы-гирей, крымские царевичи
Короткий адрес: https://sciup.org/14118093
IDR: 14118093 | УДК: 94(47).04:930.272
Текст научной статьи Русско-крымские отношения конца XVI - начала XVII веков в изображении Нового летописца (к определению источников памятника)
В Новом летописце старшей редакции (далее — НЛ) — крупнейшем памятнике официального летописания времени «первого Романова» — в отличие от созданных накануне и синхронных ему произведений такого жанра, в частности, Соловецкого, Поволжского, Пискаревского летописцев, наблюдается устойчивый интерес к истории отношений России и Крымского ханства, особенно за периоды царствований Федора Ивановича и его «премудрого» шурина Бориса. О военном противостоянии либо мирных контактах двух этих стран речь идет (прямо или мимоходом) в 16 статьях самого обширного нарративного сочинения, посвященного перипетиям отечественной истории 1580-х — 1620-х гг.
В работах Л.В. Черепнина, Л.Е. Морозовой, В.Г. Вовиной-Лебедевой и ряда других исследователей очерчен широкой круг повествовательных, документальных и устных источников десятков статей НЛ. При этом интересующие нас рассказы и заметки почти не принимались во внимание. Постараемся выяснить источники отведенных русско-крымским отношениям статей «Летописца … о нашествии Литвы на Московское государство и о раззорении градов»2, что представляется немаловажным для решения спорных вопросов происхождения одного из крупнейших памятников русской книжной культуры XVII в.
Две из соответствующих статей — 15-я и 24-я, хотя и разделены в летописном повествовании, обнаруживают тесную сюжетную связь и стилистическое единство. Здесь читаем о выезде в Россию крымского царевича Малат-Кирея (точнее, Мурад-Гирея) «съ снохою да и съ племянникомъ»3 и многими другими татарами. Щедро пожалованный «святоцарем» Федором, Мурад-Гирей в сопровождении воевод князя Ф.М. Троекурова и И.М. Пушкина был направлен в Астрахань, где «многую службу ко государю показал», подчинив ему «бусурманские языки4. Видя это, — продолжает летописец, — «бусурманы … прислаша ис Крыму и ис Казыева улуса ведунов и его (царевича. — Я. С.) испортили». Лекарь Арап (вероятно, араб), найденный воеводой Ф.М. Троекуровым, заявил о необходимости отыскать ведунов, дабы помочь царевичу, тех «переимали», начался розыск, во время которого «царевичи оба и царицы и с ними татаровя многие и татарки все померли». Из Москвы в Астрахань был послан О.М. Пушкин, чтобы пытать и сжечь виновных (сделавший это «своим мастерством» Арап был пожалован), признавшихся в том, как «портили» Мурад-Гирея и его близких — «пили изъ нихъ сонныхъ кровь»; «царевичевыхъ татаръ досталныхъ велелъ государь перевести къ Москве и устроити по городомъ поместьями и кормами» (39—40).
По наблюдению Л.Е. Морозовой, в НЛ в отличие от «разрядов» говорится об отъезде Мурад-Гирея в Астрахань с Ф.М. Троекуровым и И.М. Пушкиным, а не думным дворянином Р.М. Пивовым и М. Бурцовым5. Известно, что крымский царевич был «отпущен» в Астрахань летом 1586 г., через год после прибытия в Москву, тогда как Ф.М. Троекуров в 1586 и 1587 гг. возглавлял посольства в Речь Посполитую и являлся судьей Ямского приказа, а назначение в город, где по распоряжению русского правительства оказался один из ханских сыновей, получил в апреле следующего года6.
В начале второй четверти XVII в. в Посольском приказе хранился наказ Ф.М. Троекурову, Р.М. Пивову и М. Бурцову относительно Мурад-Гирея7. Видимо, располагая этим документом или выпиской из него, создатель НЛ рассудил, что крымского царевича сопровождал в Астрахань ее новый воевода. Анонимный книжник мог прийти к такому заключению и потому, что Ф.М. Троекуров находился в Астрахани в пору смерти Мурад-Гирея8. Рассказ же о кончине этого царевича и его родственников, вопреки мнению Л.Е. Морозовой9, нельзя считать легендарным, в основу данной статьи НЛ лег документальный материал, в частности, следственное дело о смерти крымских царевичей, хотя «списатель» опять-таки допустил ряд неточностей. К примеру, вдова Мурад-Гирея Ертучан (Ертуган) была жива еще в 1602 г., спустя десятилетие с лишним после смерти мужа10.
Согласно НЛ, когда на Москву «со многими ордами» и турками двинулся Казы-Гирей, русские воеводы, не сумев остановить его в южных уездах, «укрепив по городом осады», отступили к столице и расположились в «обозе»; хан, разбив ставку в Коломенском, «воевал» окрестности «царствующего града», «погании топтаху московских людей и до обозу», но мало русских «бьюще». Когда же Казы-Гирей узнал от пленных о подходе рати новгородской «и иных государств московских», которая «сее нощи» собиралась двинуться на крымцев, хан бежал, «коши пометав», его не могли догнать и «скорые полки», а «украинные» города он «обежаше» (42—43). Этот рассказ, отчасти перекликающийся со свидетельствами других летописцев, отразил воспоминания участников событий лета 1591 г.11 С точки зрения В.И. Корецкого, в глазах анонимного «слогателя» татар отогнала от Москвы святая молитва царя Федора. Но исследователь сам процитировал летописное сообщение о том, что пленные известили хана о подошедших к русской столице подкреплениях12, и в испуге тот спешно бежал.
«О приходе крымских царевичев на Украйну» повествуется в небольшой статье НЛ, причем его создатель, довольно равнодушный к хронологии13, умалчивает про то, когда татары «безвестно» (т. е. внезапно, застав русских врасплох) напали на рязанские, каширские и тульские «места», где сожгли села и деревни, перебили немало жителей, взяли «полону много множество» — дворян и детей боярских с женами и детьми, крестьян14. Выразительная концовка статьи — «яко и старые люди не помнят такие войны от поганых» (45) — наводит на мысль, что летописец запечатлел устную традицию, тогда как перечень уездов, подвергшихся нападению, скорее всего имеет документальную основу15. При этом в НЛ не говорится о сожжении царевичами Фети-Гиреем и Бахты-Гиреем в мае 1592 г. крепости в Епифани и осаде крымцами восстановленного лишь накануне Ельца16.
Следом в небольшой статье сообщается о «поставлении украйных градов» — Белгорода, Оскола, Валуек, а прежде Воронежа, Ливен, Курска, Кром для предотвращения татарских набегов (45, ср. 55). Курск, впрочем, был возрожден почти одновременно с возведением стен и башен Белгорода и Оскола (в 1596 г.), а Валуйки основаны уже в начале царствования Бориса Годунова (в 1599 г.)17. Представляется, что летописец пользовался выпиской из какого-то приказного дела о строительстве городов на «крымской украйне»18.
В НЛ упоминается и о «присылке крымским ханом» послов в Москву (они присоединились к возвращавшемуся из Турции русскому посланнику Д. Исленьеву) «с советными грамоты … и учинися с ним, государем, в братстве, в совете и в дружбе» (48). (Д. Исленьев, отправившийся в Османскую империю в июле 1594 г., находился в ее столице еще три года спустя19. Известно, что в конце царствования Федора Ивановича в Крым послали гонца И. Бунакова20). Приведенное известие, видимо, основано на посольской документации21.
В 54-й статье НЛ сказано о псковском море, а затем сообщается о вторжении татар в мещовские, козельские, воротынские и перемышльские «места»; посланный для их защиты М.А. Безнин, выступив из Калуги, разгромил крымцев на реке Выйсе и «языки многие поима» (48). По наблюдениям В.И. Корецкого, эти события произошли не в середине 1590-х гг., как можно заключить, следуя НЛ, а десятилетием ранее, в мае 1584 г., причем в рассматриваемом памятнике искажены фамилия воеводы и название реки22. На взгляд В.Г. Вовиной-Лебедевой, летописец зафиксировал какое-то предание о напутствии Федором Ивановичем своего «дядьки» М.А. Безнина23. Сообщения же об уездах, которые подверглись нападению татар, и обстоятельствах их «побоя» находят параллели в «разрядах»24.
60-я — 62-я статьи НЛ посвящены знаменитому Серпуховскому походу царя Бориса, состоявшемуся «после Велика дни» 1598 г. Оказывается, «в сход» к новому государю пришли «со всее земли», т. е страны, ратные люди под началом бояр и воевод. В Серпухов, однако, явился посланник Л. Лодыженский, сообщивший, что хан «учинился в миру (с Борисом Федоровичем. — Я. С.) и присла к нему послов своих». Их разместили по прибытии верстах в 7 от государева стана, на лугах у Оки, а ночью царь велел служилым людям беспрерывно стрелять, дабы запугать крымцев, что и случилось. В день памяти святых Петра и Павла (т. е. 29 июня) Борис Федорович принял посланцев хана, которые, видя «великое войско» (стрельцы стояли на расстоянии 7 верст, ратные ездили на конях), ужаснулись; пожалованные московским самодержцем, они были «отпущены» в Крым с русскими посланниками и щедрыми дарами (50, 51). В этом рассказе, подтверждаемым документально25, ощутимы и впечатления очевидца; отзвук их сохранили строки, из которых мы узнаем о приеме в Серпухове дипломатов Казы-Гирея26.
По утверждению летописца, посланный в Крым князь Ф. Барятинский «з гордости и едва мирново поставления не нарушил»; хан «писа на него (Барятинского. — Я. С.) к царю Борису», и князя постигла опала. Направленный следом к Казы-Гирею князь Г. Волконский вскоре сообщил московскому государю (тогда ходившему на богомолье к «Макарию Калязинскому»), что сумел подтвердить прежнее мирное соглашение, и был пожалован старинной вотчиной на реке Волконе (56)27. Еще Н.М. Карамзин заметил, что вопреки НЛ,
Ф.П. Барятинский побывал в Крыму вслед за Г.К. Волконским28. Тем не менее подобно В.Г. Вовиной-Лебедевой можно думать, что летописец, близкий к официальным кругам, почерпнул данное известие от Г.К. Волконского29, которому, как видим, изменила память. Вместе с тем укажем, что в начале царствования Михаила Федоровича в посольском архиве имелось «дело (1603/04 г. — Я. С.) крымское, доводное на князя Федора Борятинского»30. Нельзя исключать, что создатель НЛ, если не располагал этим документом, то знал о нем.
В статье «О посылках литовских» говорится про ответ «расстриги» на предложение дипломатов Сигизмунда III выступить вместе с войсками Речи Посполитой против хана: как заявил Лжедмитрий, он «со всею ратью на весну (1606 г. — Я. С.) готов, и посла на Украйну во град Елец с нарядом и со всякими запасы и рати повеле бытии всем готовым» (68). Это сообщение обнаруживает зависимость от «Истории вкратце» Авраамия Палицына31.
Еще в одной статье «Летописца» «о взятии царства Сибирского и о Гришке Ростриге»32, посвященной уже времени противостояния Москвы и Тушина, речь идет «о приходе на помочь крымских царевичев» Василию Ивановичу, который направил к ним в Серпуховский уезд бояр князей И.М. Воротынского и Б.М. Лыкова, а также окольничего А.В. Измайлова. Под Боровском, на реке Наре, татары вступили в бой с «Вором», и он едва «усиде в таборах», после чего мурзы вернулись к царевичам, остававшимся с боярами у Серпухова; потом крымцы двинулись за Оку, «сказаша, что изнелъ ихъ голодъ, стоять не мочно»; посланцы же царя Василия возвратились в Москву (98). Д.В. Лисейцев уточнил, что эти события произошли не в 1610 г., как следует из НЛ, а годом прежде33. Думается, летописец поведал о появлении крымцев в южнорусских уездах, дабы оказать помощь царю Василию, по воспоминаниям князя Б.М. Лыкова (входившего в конце 1620-х гг. в окружение Михаила Федоровича)34, если не князя Г.К. Волконского, который направлялся к крымцам «з дары и речью» о скором прибытии к ним посланцев государя35.
В статье о захвате Ливен и Ельца гетманом П. Конашевичем-Сагайдачным рассказывается о том, что в то время к хану были посланы С. Хрущов и подьячий С. Бредихин, а с ними полсотни «крымскихъ людей»; их черкасы взяли в плен, многих перебили под Ельцом, кроме того, казакам досталось «мяхкие казны на десять тысящь»; «пословъ же техъ рускихъ и крымскихъ вымениша подъ Москвою» (144). В.Г. Вовина-Лебедева полагает, что летописцу сообщил об этом кто-то из родственников С. Хрущова36. О том, что «взял его в полон Саадачной на Елце, как он, Степан, послан был на государеву службу в Рым (Крым. — Я. С.) послом», известно и благодаря одному недавно фрагментарно опубликованному документу37. Возможно, о пленении русских и крымских дипломатов, а также их скором освобождении летописец знал по выписке, составленной в стенах Посольского приказа.
К тому же источнику есть основания возвести и упоминание в НЛ о том, что в Кафе (т. е. Керчи) калга перебил отправленных к султану всех русских (И. Бегичева «с товарыщи»), да и турецких послов, а «казну всю государеву поимаше» (150). Это случилось в 1624 г.38
Стало быть, источниками почти всех весьма многочисленных статей НЛ об отношениях Московского государства и Крымского ханства могут считаться документальные материалы, прежде всего посольские, и воспоминания ряда близких к царскому двору лиц, если также не самого официального «историографа».
Я.Г. Солодкин
Список литературы Русско-крымские отношения конца XVI - начала XVII веков в изображении Нового летописца (к определению источников памятника)
- Вовина-Лебедева В.Г. Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 84
- Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в.//Летописи и хроники (далее -ЛХ): 1980 г. М., 1981. С. 240
- Морозова Л.Е. Смута начала XVII века глазами современников. М., 2000. С. 375
- Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1981. С. 54
- Зимин А.А. В. канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 140-144
- Корецкий В.И. История русского летописания второй половины XVI -начала XVII в. М., 1986. С. 89
- Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец XVI -начало XVII в.). М., 1990. С. 57
- Солодкин Я.Г. Очерки по истории общерусского летописания конца XVI -первой трети XVII веков. Нижневартовск, 2008. С. 154
- он же. «Межуусобная кровь пролилась»: Очерки по истории публицистики и летописания в России конца XVI -первой трети XVII вв. Нижневартовск, 2011. С. 155 -156
- Корецкий В.И., Морозов Б.Н. Летописец с новыми известиями XVI -начала XVII в.//ЛХ: 1984 г. М., 1984. С. 216
- Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. С. 216-217
- Глазьев В.Н., Тропин Н.А. Документы о строительстве Ельца, заселении города и окрестностей в 1592-1594 годах как исторический источник//Российская крепость на южных рубежах: Документы о строительстве Ельца, заселении города и окрестностей в 1592-1594 годах. Елец, 2001. С. 8
- Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 24-25
- Солодкин Я.Г. К истории основания первых русских городов на Поле//Владимир Загоровский: к 80-летию со дня рождения: Мат-лы научных чтений. Воронеж, 2006. С. 34
- Савва В.И. Посольский приказ в XVI в. Харьков, 1917. Вып. 1. С. 257
- Солодкин Я.Г. «История» Авраамия Палицына в летописании XVII века//Проблемы истории культуры. Нижневартовск, 1997. С. 93
- Лисейцев Д. Русско-крымские отношения в эпоху Смуты//Россия XXI. 2000. № 1. С. 118
- он же. Русско-крымские контакты в начале XVII столетия//Тюркологический сборник: 2005: Тюркские народы России и Великой Степи. М., 2006. С. 270
- Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.). М., 1907. С. 98-99
- Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. М., 1946. Т. 2. С. 17-18