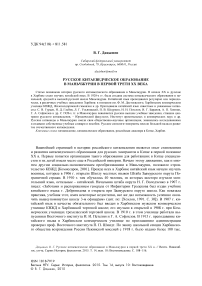Русское китаеведческое образование в Маньчжурии в первой трети ХХ века
Автор: Дацышен Владимир Григорьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории русского китаеведческого образования в Маньчжурии. В начале ХХ в. русские в Харбине стали изучать китайский язык. В 1920-х гг. была создана система китаеведческого образования в начальной, средней и высшей русской школе Маньчжурии. Китайский язык преподавался регулярно или периодически, в различных учебных заведениях Харбина: в гимназии им. Ф. М. Достоевского, Харбинском коммерческом училище КВЖД, Железнодорожной гимназии и др. Преподавали китайский язык известные и уважаемые китаисты: С. В. Гурьев, Н. Д. Глебов, Л. Г. Ульяницкий, П. В. Шкуркин, И. И. Петелин, И. Г. Баранов, А. П. Хионин, Г. А. Софоклов и др. С 1920-х гг. в Маньчжурии появляются русские высшие учебные заведения, ставшие центрами русского китаеведения, - Юридический факультет, Институт ориентальных и коммерческих наук и др. Русские китаеведы в Маньчжурии имели свои общественно-научные организации, занимались исследованиями и издавали собственные учебные словари и пособия. Русские синологи-эмигранты внесли большой вклад в развитие отечественного китаеведения.
Китаеведение, китаеведческое образование, российская диаспора в китае, харбин
Короткий адрес: https://sciup.org/147219236
IDR: 147219236 | УДК: 94(518)
Текст научной статьи Русское китаеведческое образование в Маньчжурии в первой трети ХХ века
Важнейшей страницей в истории российского китаеведения является опыт становления и развития китаеведческого образования для русских эмигрантов в Китае в первой половине ХХ в. Первые попытки организации такого образования для работавших в Китае специалистов и их детей имели место еще в Российской империи. Начало этому движению, как и многим другим социально-экономическим преобразованиям в Маньчжурии, положило строительство КВЖД [Комиссаров, 2001]. Прежде всех в Харбине китайский язык начали изучать военные, которые в 1906 г. открыли Школу местных языков Штаба Заамурского округа Пограничной стражи. В 1910 г. там обучалось 40 человек, из которых шестеро изучали монгольский язык, остальные – китайский. Начальник штаба округа Н. Г. Володченко в 1907 г. писал: «Заботами и распоряжением генерала от Инфантерии Гродекова был издан учебник китайского языка г. Добровидова и открыта при Заамурском округе школа. Как показала практика, учебник этот, имея некоторые недостатки, все же дал возможность успешно окончить вышеупомянутую школу 3-м офицерам» (цит. по: [Хохлов, 1991. С. 30]). В 1907 г. китайский язык в качестве обязательного был введен в Харбинском мужском коммерческом училище КВЖД и Харбинской торговой школе; его изучали в открытой в 1908 г. при Коммерческих училищах трехклассной торговой школе. В 1910 г. в этом училище работали выпускники Восточного института И. И. Петелин и Г. А. Софоклов. В 1915 г. преподавание китайского языка в Харбинском коммерческом училище по приглашению администрации проверил проф. Восточного института П. П. Шмидт. По заказу школьной секции Харбинского общества возрождения России Пекинской миссией с 1918 г. было издано более 100 тыс.
Дацышен В. Г. Русское китаеведческое образование в Маньчжурии в первой трети ХХ в. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 10: Востоковедение. С. 108–116.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 10: Востоковедение
учебников, в том числе «Китайская начальная хрестоматия разговорного языка» и «Путеводитель по изучению китайской скорописи» А. И. Иванова.
В августе 1909 г. в Харбине состоялся съезд учителей начальных училищ КВЖД. На нем был прочитан доклад К. Швецова о введении китайского языка в начальных школах КВЖД. Русское общество по-разному относилось к первому опыту китаеведческого образования для детей. Уже в 1911–1912 уч. г. по инициативе родительского комитета был поставлен вопрос об исключении преподавания китайского языка из числа обязательных предметов, однако руководство КВЖД не согласилось с предложением. А почти два десятилетия спустя синолог И. Г. Баранов писал: «Были такие родители, которые говорили, что китайскими иероглифами только “напрасно забивают голову учащимся”... Другие не были довольны результатами изучения, потому что, не зная всех трудностей “китайской грамоты”, всей сложности языка, предъявляли требования к окончившим, чтобы они умели “читать, писать и говорить по-китайски”. Между тем... скромное число недельных часов, отводившихся на китайский язык, позволяло лишь думать о том, чтобы окончившие владели обыденной разговорной речью и получили фундамент для дальнейших, при желании, занятий как в области разговорного, так и письменного официального языка. При 5–4 часах на китайский яз. в младших классах и 3 часах в старших классах таких результатов достичь удалось» [Баранов, 1929. С. 10].
Победа большевиков в России привела к массовой эмиграции в Китай. Большинство эмигрантов осело в районах с уже сложившимся постоянным русским населением, где они сохраняли собственное самоуправление, имели возможность развивать образование. В числе беженцев были представители науки и педагогики, в том числе и синологи, многие из них смогли сохранить свою профессию, нашли работу в школах и университетах.
Главным центром русского китаеведения в Китае, как и всей русской жизни в Китае, был Харбин. В одном из отчетов за 1928 г. говорилось: «Харбин, представляя собою порубежный международный пункт, естественно выдвинул вопросы языка, оставив их в плоскость практических проблем. Вопрос о китайском языке и его изучении русскими был поставлен особенно остро. В порядке служебном и в печати подняты были практические вопросы лингвистического характера, примерно: как нужно изучать китайский язык по ж.-д. школам, какими способами лучше изучать китайский язык русским служащим КВЖД...» [Секция…, 1928. С. 89].
В Харбине в 1920-е гг. широко распространяются специальные курсы китайского языка для русских. Например, в опубликованном в 1923 г. объявлении «Курсы китайского языка в Харбине для окончивших высшия начальныя училища» говорилось: «Курсы имеют целью ознакомление с китайским языком и с основами китайской национальной письменности молодых людей, подготовляющихся... к вступлению на железнодорожную службу. Помимо китайского языка, на Курсах преподаются: история и география Китая и Маньчжурии, обзор политического устройства и торгово-промышленной деятельности Китая, коммерческая география Дальнего Востока... Продолжительность Курсов – два года... Обучение на курсах без-платно... Курсами заведует проф. Г. В. Подставин» [Курсы…, 1923. С. 356].
Китайский язык преподавался регулярно или периодически в разных русских средних учебных заведениях Харбина, где преподавали известные китаисты. Л. П. Маркизов [2003. С. 33] вспоминал о своем обучении в открытой в 1925 г. гимназии им. А. С. Пушкина: «Сергей Викторович Гурьев вместе с китайским “сяньшеном” преподавал китайский язык». Большое внимание китаеведению уделялось в открытой в 1926 г. гимназии им. Ф. М. Достоевского, где все образование давалось исключительно на английском языке. Один из ее выпускников вспоминал: «о китайском языке я не забыл, хочется сказать много добрых слов о преподавателе Николае Дмитриевиче Глебове и сяньшене м-ре Чу из Департамента народного просвещения, мы с их помощью знали немало иероглифов и не покраснели на выпускном экзамене, когда сдавали разговорный язык и писали иероглифы на доске» [Левитский, 2003. С. 225]. Кроме того, в гимназии им. Ф. М. Достоевского читался курс востоковедения. Выпускники вспоминали: «Профессор Леонид Григорьевич Ульяницкий преподавал востоковедение, которое знал очень хорошо, вследствие того, что основная его работа протекала в Русско-японском институте в Харбине» [Маркизов, 2003. С. 37]. В документах за 1924 г. отмечается: «Петелин – китаист. Временно находится в Харбине, где руководит частной школой китаеведения» [Из истории…, 2003. С. 134]. Одна из воспитанниц коммерческого училища писала позднее: «Востоковедение у нас вел Павел Васильевич Шкуркин, ученый-востоковед, имел изданные научные труды, превосходно знал китайский язык и, кроме востоковедения, давал еще уроки китайского языка в Мужском училище, где был еще китаец-учитель» (см.: [Левитский, 2003. С. 209]). П. В. Шкуркин продолжал преподавать в Харбине до отъезда в 1927 г. в Америку.
Китайский язык для русских в Китае преподавали также офицеры-востоковеды. Например, воспитанник Восточного института и составитель первого китайско-русского военного словаря полковник В. Н. фон Шаренберг-Шорлемер в октябре 1922 г. выехал с семьей из Владивостока в Маньчжурию и больше года работал «преподавателем теории китайского языка на курсах подготовки к службе на КВЖД» [Буяков, 1999. С. 109]. Полковник Н. Д. Глебов с 1927 г. работал лектором Института ориентальных и коммерческих наук, с 1929 г. преподавал китайский язык в гимназии им. Ф. М. Достоевского. Полковник А. Ф. Лашкевич в 1932 г. работал преподавателем китайского языка в Харбинском ориентальном институте.
Известный китаист И. Г. Баранов [1929. С. 10] писал: «В настоящее время китайский язык все же преподается не во всех средних русских школах Харбина и О.Р.В.П. и преподавание ведется не по одинаковой программе. Так, китайский язык преподается, напр., в Харбинском коммерческом училище КВжд для детей граждан СССР, в 1-й Железнодорожной гимназии (бывш. Хорвата), в советских гимназиях на Пограничной, Имяньпо, Бухэду, в общественной гимназии города Маньчжурии и некоторых других школах. Советские железнодорожные школы, имея 9 групп, преподавание китайского языка начинают с 5-й группы и заканчивают в 9-й, но проходится язык лишь в одном отделении при 3 часах в неделю в каждой группе. Только в старших группах коммерческого училища КВжд число часов на китайский язык значительно увеличено. Везде преподавание ведется силами двух преподавателей: китайца-туземца и русского китаеведа».
В 1929 г. департамент просвещения Особого района восточных провинций принял решение ввести китайский язык в качестве обязательного во всех русских высших начальных и средних школах. Специальная двусторонняя комиссия составила «Проект программы по китайскому языку для высших начальных училищ средних учебных заведений О.Р.В.П.». На изучение языка отводилось пять лет, за которые русские ученики должны были овладеть 1 тыс. иероглифов и знать в транскрипции от 2 до 3 тыс. китайских слов.
В 1920-х гг. в Маньчжурии впервые появляются русские высшие учебные заведения. Вопрос об открытии в Харбине своего вуза обсуждался с 1915 г. На новый уровень эта проблема была поднята после того, как из-за революции в России выпускники средних учебных заведений не смогли поехать учиться в российские университеты. В июне 1918 г. был образован «Комитет по учреждению высшего учебного заведения в городе Харбине» во главе с директором коммерческих училищ Н. В. Борзовым. Как свидетельствует Г. В. Мелихов [1997. С. 120], «Комитет высказался о желательном для Харбина типе вуза, как об университете с юридическим и техническим факультетами». Вскоре Харбин стал крупным центром высшего образования для русских, где «в разные периоды действовали одиннадцать высших учебных заведений с блестящей русской профессурой» [Чэ Чуньинь, 2014. С. 45].
В числе первых вузов Харбина был основанный в 1920 г. Юридический факультет. Первый набор составил 75 студентов и 23 вольнослушателя. «Специфической чертой этого института по сравнению с подобными ему, существовавшими в бывшей Российской империи и в эмиграции, было включение в программу обучения востоковедческих предметов и создание специальностей, предусматривавших расширенное изучение ориенталистики» [Павловская, 2001. С. 12]. Вскоре Совет директоров Юридического факультета ввел курс китайского государственного права и процесса. Современники писали, что «учебный план носил ярко выраженный краеведческий уклон даже на юридическом отделении. Наиболее ясно он проявился на восточно-экономическом подотделе, где постановка изучения живого китайского языка, по отзывам и европейских синологов, носила пионерский характер (работа приват-доцента С. Н. Усова) и проложила новые пути в деле изучения китайского разговорного языка» (см.: [Автономов, 2005. С. 56]).
На Экономическом отделении Юридического факультета в 1925 г. был выделен Восточно-экономический цикл. Г. В. Мелихов [1997. С. 129] пишет: «Идя навстречу пожеланиям общественности и слушателей, а также велению времени, Юридический факультет на засе- даниях 14 и 23 января 1925 г. постановил открыть в своем составе... Экономическое отделение в составе двух “циклов” – железнодорожно-коммерческого и восточно-экономического... Эта реформа... сделала его одним из центров подготовки в Харбине и востоковедных кадров – квалифицированных китаеведов и японоведов». Декан Юридического факультета В. А. Рязановский писал в Ленинград В. М. Алексееву: «В частности, в 1923 г. Факультет по моему предложению ввел преподавание китайского права и изучение» [Письма…, 2001. С. 67].
Студенты восточники на Юридическом факультете изучали географию стран Восточной Азии, торговлю, промышленность, денежную систему Китая, китайское право и историю. На китайский язык на 4-м курсе отводилось 10 часов в неделю. В письме декана В. А. Рязановского говорилось: «Юридический Факультет существует 7½ лет в Китае по особому положению применительно к китайским законам и русским академическим обычаям. Профессорами могут быть китайские “боши” и “шоши”, и русские “доктора” и “магистры”. У нас есть два хороших преподавателя кит. языка: гг. Баранов и Усов» [Там же. С. 66]. В следующем письме в конце 1928 г. он писал: «Задумали мы большой новый труд: издавать сборник “Китаеведение” в трех томах (редакторы Е. М. Чепурковский, я и Г. Н. Дикий» [Там же].
Исследователи указывают: «Для преподавания востоковедения в 1924 г. Юридический факультет пригласил И. Г. Баранова... который читал курсы китайского языка, литературы, истории культуры Китая, его торговых обычаев, географии и этнографии Китая и Маньчжоу-Го» [Павловская, 2001. С. 14–15]. Сам И. Г. Баранов вспоминал, что «заведовал кафедрой китайского языка на восточно-экономическом отделении Харбинского политехнического института и в этом же институте преподавал русский язык китайским студентам. На Юридическом факультете в Харбине, на основании отзыва проф. Шмидта и после прочтения публичной лекции о современной художественной литературе Китая, было дано звание доцента по китайско-литературному языку при восточно-экономическом отделении факультета» 1 . По поводу других преподавателей исследователи пишут, что с 1924 г. «приват-доцент В. И. Сурин начал преподавать экономику Маньчжурии... Е. М. Чепурковский читал географию и этнографию Восточной Азии... В 1928–1929 гг. выпускник Санкт-Петербургского университета, востоковед Г. Г. Авенариус читал историю Восточной Азии... К. В. Успенский с 1928 по 1936 гг. преподавал китайский (по другим сведениям – маньчжурский) язык, введение в изучение китайского языка и историю Китая» [Павловская, 2001. С. 14–15]. Кафедрой на Факультете заведовал известный специалист в области китайского права В. В. Эн-гельфельд. С 1924 г. китайский язык стал преподавать выпускник Харбинского коммерческого училища и Юридического факультета С. Н. Усов, который, по отзывам коллег, «создал безупречную систему как теоретического и практического, так и предметного обучения» (см.: [Там же. С. 17]). С. Н. Усов преподавал китайский язык в разных учебных заведениях Харбина с 1922 по 1937 г.
В 1925 г. в Харбине был создан Институт ориентальных и коммерческих наук, одним из создателей и бессменным директором которого до 1940 г. был воспитанник Восточного института А. П. Хионин. Страноведческие предметы изучались в основном на Ориентальноэкономическом факультете, но китайский язык в качестве обязательного был введен на обоих факультетах, включая Коммерческий. На первом из них в учебные планы было заложено по 8 часов китайского языка в неделю на протяжении всех четырех лет обучения, на другом факультете – по 6 часов. Студенты Института учились в вечернее время в здании одной из гимназий. В число профессорско-преподавательского состава в первый год обучения вошли пять русских синологов и два китайца – лекторы по языку. Синологи вели следующие дисциплины: Ф. Ф. Даниленко – «История материальной и духовной культуры Востока» и «История китайской литературы и общественной мысли»; Н. К. Новиков – «Китайский язык» и «Политическая организация стран Дальнего Востока»; А. П. Хионин – «Китайский язык» и «Экономика стран Дальнего Востока»; П. В. Шкуркин – «География и история стран Дальнего Востока»; С. В. Шировский – «Китайский язык». Исследователи отмечают вклад в развитие китаеведческого образования А. П. Хионина: «Для того чтобы помочь студентам овладеть тонкостями китайского языка, А. П. Хионин подготовил подборку текстов, знакомящих с юридическими, административными и коммерческими терминами, с газетным стилем и с различными течениями общественной мысли дальневосточных стран» [Каневская, 2001. С. 25].
В 1920-х гг. харбинские синологи опубликовали учебные пособия по китайскому языку. В «Хронике основных событий культурной жизни русского Харбина (1900–1945)» первое издание такого пособия отмечено 1922-м годом – это «Учебник китайского разговорного языка» С. Н. Усова и Чжен Айтана. Известность получила работа П. В. Шкуркина «Пособие по изучению китайского языка» (1922). И. Г. Баранов [1929. С. 9] отмечал: «долгое время в училище в качестве обязательного учебника была принята “Хрестоматия разговорного китайского языка”, в четырех выпусках, составленная преподавателями И. И. Петелиным и Цзун-ганем. Из них наиболее удачным, по общему признанию, был первый выпуск. Но этот учебник был без иероглифов, без иллюстраций, китайский текст здесь приведен исключительно в русской транскрипции, грамматических объяснений почти нет, за исключением первого выпуска. Здесь предлагаются только текст и слова. Подбор материала, в особенности в первом выпуске, подходящ для детского возраста и приложим на практике».
В конце 1920 – начале 1930-х гг. работы по китайской лингвистике опубликовал в Харбине И. С. Скурлатов: «Записки по теории китайского разговорного языка» (1929) и «Первый шаг: Учебник китайского разговорного языка. Ч. 1» (1931). Целую серию пособий по китайскому языку издал в Харбине совместно со своими коллегами и учениками С. Н. Усов – такие книги как «Транскрипция и слова к второй части учебника китайского разговорного языка» (1928), «Русско-китайский словарь для учащихся» (1929), «Учебник соединений китайского разговорного языка» (1930). Не опубликованной осталась его работа «К вопросу об изучении письма иероглифов».
В русских учебных заведениях использовали учебники, составленные китайскими преподавателями. Это были и специальные учебники для русской школы Е Цзунганя и Е Цзунляня, и учебники для китайской школы. И. Г. Баранов [1929. С. 9] писал: «Китайские же новые учебники по языку, появившиеся в Китае после революции... имели и свои положительные качества: постепенный подход к изучению иероглифов, рисунки, дешевизну и одно время также употреблялись, в виде опыта, в Харбинском мужском коммерческом училище КВжд, наряду с учебниками преподавателей этого училища».
Русские китаеведы в Маньчжурии еще до революции имели свою научно-общественную организацию. В 1908 г. воспитанниками Восточного института создано Общество русских ориенталистов в Харбине, в 1922 г. – Общество изучения Маньчжурского края (ОИМК). Позднее в состав этой организации вошло и Общество русских ориенталистов. В феврале 1927 г. при ОИМК был основан кружок языковедения, преобразованный вскоре в секцию языковедения. Председателем ее был синолог Г. А. Софоклов, секретарем – В. В. Коханов-ский. В отчете секции за 1928 г. говорилось: «Обмен мнениями между членами секции выливался в форме докладов и собеседований. Так, А. И. Галич сделал обстоятельный доклад на тему: “Яфетилология (новая лингвистическая теория академика Мара)”. По вопросу о методах преподавания кит. языка С. Н. Усовым был прочитан доклад “О натуральном методе преподавания китайского языка”, собравший многочисленную аудиторию. Попутно, в связи с докладом С. Н. Усова, был выдвинут в дебатах вопрос о преподавании китайского языка самими китайцами и вопрос о современном “Гоюй”, и было решено устроить при секции витрину вообще учебников китайского языка, по которым ведется преподавание как в китайских, так и в железнодорожных школах. В связи с докладом И. И. Петелина – “Об изучении китайского языка по специальностям” вынесена была резолюция: в преподавании китайского языка сообразоваться с профессией и специальностью взрослых слушателей, но проводить для всех общий вступительный курс китайского языка. В связи с этим докладом была вынесена также резолюция в отношении метода составления словарей – русско-китайских и китайско-русских. Чтобы достигнуть максимума полезности словарей, необходимо их составлять по отдельным отраслям и специальностям. Эта резолюция нашла себе отклик на курсах китайского языка КВжд...» [Секция…, 1928. С. 89].
В мировой синологии остались многие имена русских ученых, работавших в то время в Харбине. Особую ценность имели работы по составлению словарей. Один из первых русско-китайских словарей («Русско-китайский словарь с русской транскрипцией китайских иероглифов: 3 000 слов, достаточных для разговора» Л. И. Гредякина) был издан еще в 1921 г. Исследователи добавляют: «В результате научной деятельности А. П. Хионина было издано три словаря: Русско-китайский словарь юридических, международных, экономических, политических и других терминов (Харбин, 1927. 400 с.); Новейший китайско-русский словарь в 2 т. (Харбин, 1928; 1930; общий объем 1302 с.). Словарь был составлен по графической системе и насчитывал более 10 тыс. иероглифов и около 60 тыс. словосочетаний)...» [Каневская, 2001. С. 25–26]. О большом двухтомном китайско-русском словаре А. П. Хионина упоминает Янь Годун [2012. С. 15]: “Новейший китайско-русский словарь” в двух томах – «最新 汉俄词典» (两卷) (Харбин: Шанъе иньшуа чан, 1928, 1930)».
В 1927 г. в Мукдене издали «Словарь китайских военных терминов» полковника Е. В. Грегори. Составитель писал: «Два с лишним года работы в качестве инструктора артиллерии, когда мне приходилось читать китайским офицерам лекции по артиллерии на китайском языке, убедили меня в необходимости составить настоящий словарь... Настоящий Словарь составлен мной по поручению Маршала Чжан Цзо-лина и Маршала Ян Юй-тина и при благосклонном содействии Начальника Штаба, генерала Юй Го-хана, который назначил специальную комиссию из офицеров Генерального Штаба для детальной проверки моего словаря. При составлении настоящего Словаря я старался заносить в него не только чисто военные и военно-технические термины, но и общепринятые в военной литературе выражения...» [Словарь…, 1927. С. I–II]. В словаре содержалось 8 384 словарных значения. Во введении Е. В. Грегори указал: «Настоящий Словарь состоит их трех частей: 1. Китайско-Русского Словаря, 2. Ключевого Указателя и 3. Указателя Русских Слов, вошедших в Словарь. В “Китайско-Русском Словаре” имеются три графы. В первой помещены китайские иероглифы, во второй – их транскрипция и в третьей – соответствующее русское значение. Китайские слова расположены по их транскрипции в алфавитном порядке... В своем Словаре я придерживался образцовой русской транскрипции, введенной известным русским синологом Архимандритом Палладием. Большинство русских синологов считает эту транскрипцию самой удачной» [Там же. С. III].
Судьба русского образования в Маньчжурии была не простой. Особенно противоречивой складывалась ситуация с конца 1920-х гг., когда власти Маньчжурии признали Нанкинское правительство Чан Кайши, а потом произошел советско-китайский военный конфликт 1929 г. Декан Юридического факультета В. А. Рязановский в 1929 г. написал: «дайте нам еще пять, даже три года спокойной работы, и наш Факультет оставит заметный след в китаеведении. Но будем ли мы иметь эти три, пять лет? И не по нашей вине, не в силу нашей мягкотелости. Нет, обстоятельства могут оказаться сильнее нас. Пока же работаем, и будем работать» [Письма…, 2001. С. 66].
После продажи Советским Союзом КВЖД в середине 1930-х гг. позиции и влияние русской колонии в Маньчжурии стали слабее. Большинство средних и высших учебных заведений были реорганизованы. К 1941 г. единственным вузом для русских в Маньчжурии остался открытый в 1938 г. в Харбине Северо-Маньчжурский университет. Но, несмотря на сложные политические события и разного рода преобразования в системе образования, русское китаеведение в Маньчжурии не исчезло.
Можно уверенно заключить, что история русского китаеведения в Китае, в основе которого было китаеведческое образование в Маньчжурии, является неотъемлемой страницей всей российской синологии ХХ в.
Список литературы Русское китаеведческое образование в Маньчжурии в первой трети ХХ века
- Автономов Н. П. Юридический факультет // Русский Харбин: 2-е изд. испр. и доп. М.: Изд-во МГУ; Наука, 2005. 352 с.
- Баранов И. Г. Преподавание китайского языка в русской начальной и средней школе Особого Района Восточных Провинций // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 7-8. С. 8-13.
- Буяков А. М. Офицеры-выпускники Восточного института: годы и судьбы // Изв. Вост. ин-та Дальневост. гос. ун-та. 1999. № 5. С. 97-116.
- Из истории востоковедения на Российском Дальнем Востоке: 1899-1937 гг.: Документы и материалы. Владивосток: Приморская краевая организация Добровольного об-ва любителей книги России, 2000. 256 с.
- Каневская Г. И. Оправдавший надежды Приамурского генерал-губернатора // Изв. Вост. ин-та Дальневост. гос. ун-та. 2001. № 6. 2001. С. 19-28.
- Комиссаров С. А. [Рецензия] // Сиб. международный. 2001. № 3. С. 66.
- Рец. на кн.: Аблова Н. Е. История КВЖД и российская эмиграция в Китае (первая половина XX в.). Минск, 1999.
- Курсы китайского языка в Харбине // Вестн. Азии. 1923. № 51. С. 356-357.
- Левитский В. В. История в мифах и воспоминаниях: Вокруг КВЖД: Историко-филологическое обозрение 2 / Краматорский эк.-гум. ин-т. Краматорск, 2003. 352 с.
- Маркизов Л. П. До и после 1945: Глазами очевидца: Сыктывкар, 2003. 208 с. (Прил. к мартирологу «Покаяние». Вып. 2)
- Мелихов Г. В. Российская эмиграция в Китае (1917-1924 гг.) М.: Ин-т рос. истории РАН, 1997. 245 с.
- Павловская М. А. Востоковедение на Юридическом факультете Харбина (1920-1937 гг.) // Изв. Вост. ин-та Дальневост. гос. ун-та. 2001. № 6. С. 11-19.
- Письма В. А. Рязановского В. М. Алексееву // Вост. архив. 2001. № 6-7. С. 65-68.
- Секция языковедения // Изв. Общ-ва изучения Маньчжурского края. 1928. № 7. С. 89-90.
- Словарь китайских военных терминов / Сост. инструктор артиллерии при штабе Маршала Чжан Цзо-лина Е. В. Грегори. Мукден: [б. и.], 1927. 451 с.
- Усов С. Н., Е Цзунжэнь. Русско-китайский словарь: Для учащихся. Харбин: [б. и.], 1929. 351 с.
- Хохлов А. Н. Подготовка военных переводчиков-востоковедов в старой России // 23-я науч. конф. «Общество и государство в Китае». М.: Ин-т востоковедения АН СССР, 1991. Ч. 2. С. 27-39.
- Чэ Чуньинь. Научно-образовательная и духовно-культурная деятельность российской диаспоры в Китае (1920-1940-е годы): Дис. … канд. ист. наук / Дальневост. фед. ун-т. Владивосток, 2014. 187 с.
- Янь Годун. Первый китайский словарь русского языка / Пер. с кит. О. П. Родионовой // Институт Конфуция. 2012. № 1. С. 15-16.