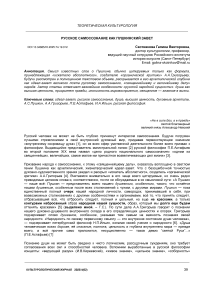Русское самосознание как пушкинский завет
Автор: Скотникова Г.В.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Теоретическая культурология
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Смысл известных слов о Пушкине, обычно цитируемых только как формула, принадлежащая «искателю абсолютного», создателю «органической критики» А.А.Григорьеву, будучи рассмотрен в полноценном текстовом объеме, раскрывается в его архетипической глубине как идеал-завет великого поэта русскому самосознанию, «священнейшему и величайшему делу» народа. Автор статьи отмечает важнейшие особенности «русской народной сущности»: душа как высшая ценность, приоритет правды, иконичность мировосприятия, священное — главное в жизни.
Идеал-завет, русское самосознание, душа, высшая ценность, духовные архетипы, А.С.Пушкин, А.А.Григорьев, П.Е.Астафьев, И.А.Ильин, русская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170211154
IDR: 170211154 | DOI: 10.34685/HI.2025.74.19.012
Текст научной статьи Русское самосознание как пушкинский завет
Русский человек не может не быть глубоко приникнут интересом самосознания. Будучи погружен лучшими стремлениями в свой внутренний духовный мир, придавая первенствующее значение «внутреннему сокровищу духа» [1], он из всех сфер умственной деятельности более всего призван к философии. Выдающийся представитель магистральной линии [2] русской философии П.Е.Астафьев во второй половине XIX века назвал «дело родного национального самосознания» «одним из священнейших, величайших, самое малое им причастное возвеличивающих дел жизни» [3].
Призвание народа к самосознанию, к этому «священнейшему делу», оказалось воплощено в светлом гении Пушкина как архетипический, жизнетворческий идеал-завет. Что с безошибочной точностью духовно-художественного зрения увидел и раскрыл «искатель абсолютного», создатель «органической критики» А.А.Григорьев [4]. Вчитаемся внимательно в его чаще всего цитируемые, но очень редко приводимые целиком слова и, соответственно, почти не обсуждаемые в их смысловой сути: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, всё то, что принять следует, отбрасывавший всё, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками , а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, образ, который мы долго еще будем оттенять красками» [5] ( выделено мной . – Г.С. ) . По сути дела А.А.Григорьев говорит о познании нашего духовно-душевного внутреннего склада в его определяющих ценностях и опорах. Григорьев подчеркивает слово душевное, особенное , указывая тем самым на важность познания своей народности. «Народность по своему первичному смыслу — это внутренне состояние души человека», — подчеркивает петербургский философ Н.П.Ильин, излагая своей учение о народности [6]. «Душа человеческая всего дороже , её спасение , полнота, цельность и глубина внутреннего мира — прежде всего, а всё прочее само приложится, несущественно — таков девиз “святой Руси”...» (П.Е.Астафьев) [7]
Познание души не может быть сведено к чисто логическим, рассудочным суждениям, оно требует согласования всех сил и способностей человека. Вспомним выработанные в русской философии концепты: «верующий разум» (И.В.Киреевский), «живое знание», «цельное знание», «соборность»
(А.С.Хомяков), «органическая критика» (А.А.Григорьев), «душа всего дороже» (П.Е.Астафьев), «свободно и предметно созерцающее сердце» (И.А.Ильин). Стержневую интенцию отечественного философского сознания выразил Ф.А.Степун: русская мысль «духовно влечется к церкви, как бы силясь вспомнить, осознать и философски высказать святоотеческий опыт» [8], опыт благодатного преображения души, опыт синергии. Не случайно в своих вершинных образцах отечественная философия становится «особым, описательным художеством» (И.А.Ильин). «Как скоро знание вызреет до жизненной полноты, оно стремится принять литые художественные формы: есть возможность художественной красоты даже в логическом развитии отвлеченной мысли...» — пишет А.А.Григорьев [9]. Русская философия рассматривается сегодня (например, такими разными по своим методологическим парадигмам философами, как Н.П.Ильин и А.Г.Дугин) как особый тип философского сознания, имеющая своеобразную природу, свой корень и исток в византийском церковноинтеллектуальном наследии, воспринятом на славянской почве, и отнюдь не вписывающаяся линейно в европоцентристские координаты.
В своё время А.А.Григорьев высказал мысль, о том, что никакими внешними реформами нельзя надломить народную жизнь, если в ней сохраняется духовное ядро или, как мы предпочитаем говорить сегодня, — духовные архетипы . Вся история русской жизни открывает картину внешней неустойчивости, едва ли не постоянной изменчивости, иногда катастрофичности в сочетании с какой-то таинственной внутренней силой, спасающей наше Отечество в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. Важным условием сохранения их жизненной благотворной действенности является во многом отчетливое их осознание, то есть работа нашего самосознания. Однако современные реалии вносят свои коррективы. Следует иметь в виду совершенную специфичность нынешней глобальной апостасийной цивилизации, в которой разрушение базовых традиций, то есть разрушение культуры как таковой, приобрело необратимый характер, и в которой формируется тип человека по модели «биосоциального автомата», не воспринимающего ничего, что выходит за рамки его эгоцентрического гедонизма. В этой ситуации, как пишет В.Ю.Даренский [10], культура уже не может быть ни «народной», ни массовой. Обретая как бы «оазисный» характер, «она транслируется по модели межличностных взаимодействий и личных духовных контактов», в которых важнейшую роль обретает сознательное воспроизведение базовых смыслов, составляющих «ядро» православной культурной традиции и передающихся на уровне нашего мировоззрения.
Обратимся к рассмотрению некоторых из них. Русский человек стремится к правде. Такова одна из основополагающих особенностей его духовно-душевной природы, ощущаемая и осознаваемая поэтическим и философским сознанием как важнейшая в нашем ценностном мире. В словах выдающихся соотечественников воплощены нетленные смыслы, обретающие иногда, в конкретных социально-культурных координатах, как, например, нынешние, потрясающе рельефную, пронзительную смысловую актуальность, бросая вызов нашему самосознанию.
Аполлон Александрович Григорьев («Театра зала вновь полна...» 1854 г.) :
Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой, Собачьей старостью больной… Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находите
Всё то, что человека благородит.
Михаил Юрьевич Лермонтов («Мой дом», впервые опубл. в 1889 г.):
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.
И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нём
И в нём лишь буду я спокоен.
Александр Трифонович Твардовский ( « Василий Тёркин», 1940-е гг.):
А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово; хочу правды…» — таков лейтмотив творчества Александра Сергеевича Даргомыжского. «Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы ни была солона, смелая, искренняя речь к людям… вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться» (М.П.Мусоргский).
В наши дни владыка, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов) пишет в одном из своих новых трудов: « Приоритет правды — возведем в закон нашей жизни, тогда все чада наши останутся с нами. А дети Церкви, наследники Христа, духовно разбогатеют» [11].
Обратимся к стержневым особенностям нашей национальной духовности .
«Мы являемся чадами византийской культуры», – провозгласил Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), обосновывая, как и полагается философу, фундаментальные опоры русской цивилизации, видя их в «византийской симфонии».
Византийское влияние – один из важнейших факторов, «давших нашей истории и всему культурному её строю свою определённую фигуру и своё лицо», – писал историк-византинист академик Фёдор Иванович Успенский (1845–1928).
Наш современник, «средиземноморский почвенник», несравненный знаток Византии академик Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004) рассматривал Византию и Русь как «два типа духовности», два преемственно связанных, но самобытных цивилизационных феномена.
Благодаря византизму в русском характере нет преувеличенного представления о земной человеческой личности, присутствует наклонность к разочарованию во всем земном, в устойчивости человеческой чистоты, нет надежды на всеобщее благоденствие народов, земное всеравенство, всесовершенство и вседовольство.
В отличие от римлян и романизированных народов, самого государственного народа в мире, создателя образцового права, понявшего христианство как богооткровенную программу общественного устройства, которая, будучи осуществленной на земле, непременно ведет к вечному спасению, византийцы, эллинизированные народы Восточной половины Римской империи, в соответствии со своим духовным складом, ярко выраженной мистической одаренностью поняли христианство преимущественно как богооткровенную метафизику, как свыше указанный путь ко спасению личности, на земле взыскующей Неба. Православная Византия явила собой иной по сравнению с христианским романизированным Западом тип культуры: не линейно-эволюционный, горизонтально-земной, а целостно-углубленный, духовно-Небесный. Её искусство, будучи сферой Богообщения, может быть определено как «динамика в статике», «врата в вечность», «благодатный путь в глубь личности — вертикаль к Небу».
Искусствовед-византинист, академик А.М.Лидов (1959-2025), раскрывая лик византийского искусства, выявляет очень важную для нашего самосознанию идею: главное в унаследованном нами от Византии – это «иконическое сознание», то есть восприятие мира как иконы, то есть образа-посредника. «Бог устроил этот мир, как некое отображение надмирного мира, – пишет в XIV веке святитель Григорий Палама, — чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некоей лестнице достигнуть оного мира» [12]. Понимание и ощущение иной высшей реальности как идеала всегда присутствовало в нас бессознательно благодаря подспудной силе духовной традиции, о чем свидетельствуют лучшие светские творения в области музыки, литературы, живописи, созданные в секуляризованное Новое и Новейшее время. Речь идёт об идеальной, вертикальной составляющей бытия, раскрывшейся [13] благодаря принятию Русью православия и ставшей одним из архетипов национального ментального склада, о котором современный человек предпочитает не думать, по сути дела пренебрегая корневой системой культуры, нарушая исконную органику своего бытия.
Самый разительный пример «вносителя света и правды», согласно А.А.Григорьеву, « имеем мы в нашем Пушкине, которого истинно художническая и, следовательно, в высшей степени правдивая и зрячая натура, все более и более свергая с себя кору чуждых наростов, отряхая прах наносных влияний, стала возвышаться наконец до коренных народных созерцаний, даже до созерцаний религиозных, составляющих высшую поверку жизненных и народных стихий, входящих в понятие о нравственности; укажу в этом отношении на такие стихотворения, как “Отрывок”, “Молитва”, на занятие поэта выписками из «Четьих Миней» и т. п.» [14]. И продолжает: «Не подлежит сомнению, что к области этих высших созерцаний приблизило его углубление в самого себя, обретение в самом себе стихий чистых, беспримесных, совпадающих со стихиями жизни народной, — стихий, к художественному воссозданию и просветлению которых влекла нашего поэта его натура» [15].
Ключевой ролью правды, этим исконным русским духовным архетипом нашего мироотношения, определяется и особое жизненно-ценностное восприятие искусства — как пути и проводника Правды.
Говоря о тесной взаимосвязи русского философского сознания и художественного начала, нельзя не подчеркнуть ряд моментов, являющихся основополагающими и для русского художника, и для русского философа.
-
1) Идея о благоустроении души, проистекающая из высокого представления о поэтическом и о философском даре.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был: хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел…
Тютчев. «Памяти Жуковского»
Обращаясь к личности и творчеству философов А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, Н.Я.Данилевского, А.А.Григорьева, Н.Н.Страхова, П.Е.Астафьева, К.Н.Леонтьева, И.А.Ильина, невозможно не заметить, какую важную роль для каждого из них имело состояние их внутреннего строя, чувство правды и истины, неотрывное от работы мысли, во многом её определяющее. У А.А.Григорьева находим: «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул и определений. Немногие в этом сознаются, ибо и немногие имеют счастье или несчастье рождать из себя собственные, а не чужие мысли» [16].
-
2) Идея духовной силы народа, творящей в художнике и в философе, по А.С.Хомякову «образ самосознающей жизни».
А.А.Григорьев в свой «органической критике», являющейся, по сути, философией культуры, обрисовал основное содержание русского типа христианской философии — философии «мыслителя, внимательно прислушивающегося к подземной работе зиждительных сил жизни », созидающего национальную культуру в свете идеала души человеческой ».
-
3) Вопрос о смысле искусства в жизни личности и народа, проблема подлинного художества всегда присутствует в русской философии, имея жизнеопределяющий характер.
Обратимся к словам И.А.Ильина о подлинном искусстве, которое он называл «художественным искусством»: «... художество дает опытное переживание священной глубины в привычно несвященных образах действительности; «...борьба за художественность произведения (здания, скульптуры, картины, сонаты, пьесы, танца, поэмы, романа) есть в то же время борьба за преодоление пошлости; и обратно»; «Истинное искусство говорить человеческому духу о Духе и духовном; и чем художественнее эта речь, тем ближе искусство подходит к религии, – не в том смысле, что оно выбирает конфессиональные образы и темы, но в том смысле, что оно раскрывает в самом простом, обыденном, светском образе, в с виду незначительной теме – сокровенную значительность, предметную глубину, духовный огонь, Божий луч, Божие веяние и присутствие. И в этом его очистительная сила» [17].
Русская культура в своих подлинных образцах есть художественно-свободное, духовно целостное закрепление волевого устремления к религиозному преображению жизни. Оттого художество и философия, будучи разомкнуты в Жизнь, открывают в ней вертикаль к Небу.
Источник духовной красоты, жизненной силы для русского всегда запредельный. Поэтому счастье — в стремлении за горизонт, в преодолении застывших, временных форм, ибо «священное есть главное в жизни», без него «жизнь становится унижением и пошлостью ». [18].