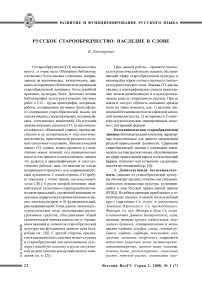Русское старообрядчество: наследие в слове
Автор: Кончаревич К.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969283
IDR: 14969283
Текст статьи Русское старообрядчество: наследие в слове
О старообрядчестве (СО) написано очень много... и очень мало. Обширную библиотеку составляют богословские сочинения, направленные на каноническое, догматическое, церковно-историческое обличение или оправдание старообрядческой доктрины, богослужебной практики, культуры, быта. Довольно велика библиография культурологических научных работ о СО – труды археографов, историков, работы, посвященные изучению философского содержания старообрядческой мысли (ее онтологических, гносеологических, историософских, эстетических концепций). Но изучение лингвистических аспектов СО, за исключением вопроса о «Никоновой справе», преимущественно в ее историческом и текстологическом аспектах, практически не развилось из самого зачаточного состояния. Лингвистический анализ СО, однако, можно провести и с качественно новых позиций, под принципиально иным углом зрения и в ином контексте, нежели это делается в археографических и текстологических работах: ведь это явление не только исторического прошлого, но и современной русской духовности. С одной стороны, СО требует описания с точки зрения лингвокультуро-логии (ЛК), в русле которой возможен двоякий подход: а) системно-структурный (системно-категориальный), уделяющий внимание отдельным, иерархически организованным классам лингвокультурем и б) функциональный, рассматривающий СО как единое лингвокультурологическое поле, включающее разноуровневые средства, объединенные общей семантической принадлежностью и отражением явлений и элементов старообрядческой культуры как фундамента данного поля (подробнее см.: [6]). С другой стороны, предметом языковедческого анализа может служить и старообрядческая коммуникативная культура (подобную попытку в русле ситуативной модели анализа коммуникативного поведения см. в: [2]).
Цель данной работы – провести лингвокультурологический анализ лексики, обслуживающей сферу старообрядческой культуры и являющейся ядром соответствующего лингвокультурологического поля. Лексика СО, как мы увидим, в идеографическом смысле представляет весьма разветвленную и в культурологическом смысле гетерогенную систему. При ее анализе следует обратить внимание прежде всего на такие моменты, как: 1) явления лексической безэквивалентности и фоновой неполной эквивалентности, 2) историзмы и 3) лингвокультурологические маркированные лексемы с внутренней формой.
Безэквивалентная старообрядческая лексика обозначает реалии и явления, характерные исключительно для данного направления русской православной духовности. Сравнение старообрядческой лексики с единицами лексического состава русского языка, обслуживающими сферу православной веры и господствующей Церкви, позволяет нам установить следующую типологию отношений (ср.: [4]):
-
1. Деннотативная безэквивалент-ность [лексема из старообрядческой культуры обозначает предмет, понятие или ситуацию, полностью неизвестные культуре, установившейся в лоне Русской православной церкви (РПЦ)]. Подобные примеры преобладают в тематических группах «годовой богослужебный круг» (праздники Св. свмуч. и исповедника Аввакума Юрьевскаго, Св. преподобномуч. Феодоры, Св. муч. Феодора и Луки, Св. свмуч. и исповедника Даниила Костромского ), «дом, жилище, трапеза» ( ручное кадило/кацея, тор-жищно брашно ), «священнические и монашеские одеяния» ( скуфья , схима, длинная рубашка, кафтан, кафтырь, подсхимник, надгрудник, лестовка, подручник ), «церковное искусство» [ наречное пение (истинноречие, новоистинноречие), наонное пение (хомония, хомовое пение, раздельноречие), знаменный распев, путевой распев, анененайки (ане-
- нашки, нененайки, ненайки), хабува], «богослужение, священнодействия, обряды» [начал (малый, большой; прощальный, общительный), приходные и исходные поклоны (семипоклонный начал); сугубая аллилуйя; Великий Нефимон]; «устройство Церкви» [большак (киновиарх), большуха (начальная матка), наставник, начетчик (начетчица), канунни-ца]; «органы церковной власти» (Освященный Собор Русской Православной Старообрядческой Церкви; Российский Совет Древлеп-равославной Поморской Церкви); отметим, что одна тематическая группа – «старообрядческие толки и их разделения» – целиком бе-зэквивалентна по сравнению с культурой господствующей Церкви [поповцы – австрийцы (Бе-локриницкое согласие), окружники, неокруж-ники; единоверцы; ветковцы (беглопопов-цы) – диаконовское согласие, лужковцы, тульское согласие, бугровцы; беспоповцы – федосеевцы, аристовы, титловцы, тропарщи-ки, даниловцы, филипповцы, адамантовы, аароновцы, поморцы, старопоморцы, ново-поморцы, самокрещенцы, рябиновцы, дырни-ки, мелхиседеки, странники (бегуны), средники, часовенные; нетовцы – отрицанцы, подначальники, староспасовцы, новоспасов-цы, отрицанцы, немоляки].
-
2. Деннотативная эквивалентность с неодинаковым языковым обозначением (реалия представлена в обеих культурах, но в одной из них она не имеет своего особого языкового обозначения). Лексемы из данной подгруппы распределяются главным образом по тематическим группам «православное искусство», «храм и его устройство». Например, словосочетанием наречное пение (истинноречие, новоистинноречие) в старообрядческой культуре обозначается стиль псалмодического чтения и произношения текста, отличный от хомо-нии , то есть вокализации редуцированных гласных в слабой позиции (типа: Христосо, Сопа-со, денесе, весехо и под.). В культуре РПЦ мы не находим особого языкового обозначения данного произносительного стиля именно потому, что оппозиции, о которой шла речь выше, в ней не существует ( наречное пение подразумевается и, как таковое, не имеет своего языкового обозначения).
-
3. Функциональное сходство различных реалий , например: лестовка (старо-
- обр.) – четки (правосл.), кацея – кадильница, крюк – нота, схима – аналав, длинная рубашка – власяница, кафтан – ряса, каф-тырь – камилавка, подсхимник – кукуль, надгрудник – апостольник, Освященный Собор РПСЦ – Священный Собор РПЦ, великий земной поклон – метания, дыра – икона и т. д.
-
4. Функциональное отличие одинаковых или сходных реалий : семипоклонный начал (старообр.) – метания (правосл.), семипоклонный начал – приветствие (в гостях) , наставник – священник, большак – игумен и т. д.
Особое внимание заслуживает описание фоновой старообрядческой лексики , представленной единицами, имеющими свои эквиваленты на понятийном уровне, но обладающими своей спецификой в плане семантико-ассоциативном (подробнее об этом см.: [1, с. 58]). Так, слово скит в старообрядческой среде ассоциируется с поселением поблизости от какого-либо монастыря, насельниками которого являлись лица обоего пола, причем не только монахи, но и миряне, тогда как в традиции РПЦ скит – особый тип монашеского пустыннообщежительства. Или: в обеих культурах словом догматик обозначается особый жанр богослужебных гимнов восьми голосов, которые поются на вечерней службе, но специфика его фона в старообрядческой среде состоит в: 1) пении догматиков по невмам, строго унисонно, без гармонизации и на другие мелодии по отношению к тем, которые слышатся на богослужениях РПЦ, 2) особых культурно-исторических ассоциациях (так, в условиях гонений в XVIII и XIX вв., отправляясь на каторгу или в ссылку, «ревнители древлего благочестия» торжественно пели догматик 4-го гласа «Подаждь утешение Своим рабом, Всенепорочная».
С лингвокультурологического аспекта обращают на себя внимание также историзмы, связанные со старообрядческой традицией: гари (XVII в.) – массовые самосожжения, мотивированные апокалиптическими опасениями и доктриной о воцарении антихриста в видимом мире, двоеданы/записные старообрядцы (из эпохи Петра Великого) – зарегистрированные старообрядцы, которые были обязаны платить двойные налоги, окружни- ки и неокружники (из 60–70-х гг. XIX в.) – поборники и противники знаменитого «Окружного послания» (1862) И.Г. Кабанова-Ксено-са, официально признанного частью Белокриницкой иерархии. Интересно отметить и случаи, в которых в одной культуре (РПЦ) лексема воспринимается как историзм, тогда как в другой (СО) она является частью активного лексического фонда: знаменное пение, де-мественное пение, крюки (знамена), ане-ненайки, подручник, торжищно брашно, правский (крест, икона, книга) и т. д.
Словами с внутренней формой , буквальный смысл которых складывается из значений корневых и аффиксальных морфем в их составе, также выражаются коллективные представления и фоновые представления, интересные с точки зрения лингвокультурологических исследований. Среди лексем, именующих реалии старообрядческой культуры, немало таких, чья семантика полностью прозрачна с синхронной точки зрения и поэтому культурологически информативна для сегодняшних носителей языка: поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, единоверцы, странники, нетовцы-отрицанцы, самокрещенцы, начал, подручник, однако в некоторых случаях внутренняя форма отличается большей степенью «отдаленности», и поэтому она раскрывается лишь с опорой на этимологию слова и реконструкцию соответствующего культурологического и исторического фона: дыр-ники – члены беспоповской фракции, которые отказывались от поклонения иконам, считая, что они осквернены «еретиками-нововерами», и которые молились через дыру, просверленную в восточной стене дома; хомовое пение, хомо-ния – произношение ъ и ь с вокализацией в любой позиции (название происходит от специфического произношения окончания 1 л. мн. ч. аориста – хомъ как– хомо : согрешихомо, без-законовахомо, неправдовахомо пред Тобою ); титловцы – беспоповцы-федосеевцы, поклонявшиеся исключительно кресту с так называемым титлом Пилатовым ( Iсусъ Назарянинъ Царь Iудейский ), в отличие от беспоповцев поморского и филипповского толков, не признававших подобный крест, считая, что он носит глумливый характер и не отражает истины.
Слабая представленность большей части старообрядческой лексики в словарях 1 яв- ляется свидетельством социальной маргина-лизованности старообрядческой культуры, ее самоизоляции, замкнутости. Дополнительным подтверждением этого может служить качественный анализ лексики, представленной в большинстве словарей: к этой группе относятся либо наиболее общие понятия старообрядческой культуры (старообрядец – 8 словарных подтверждений, старовер – 7, поповец – 6, беспоповец – 6, согласие – 7), либо понятия, общие для СО и культуры РПЦ (поклон – 8, скит – 8, титло – 7, аллилуйя – 7), либо лексемы, развившие еще какое-либо дополнительное значение (наставник – 7, начетчик – 7); единственной типично старообрядческой реалией, засвидетельствованной в большинстве словарей (7), является странник. Наиболее полный охват старообрядческой лексики характерен для Даля и ППБЭС (39 лексем), на втором месте БАС и СЭС с 31 лексемой, на третьем – Дьяченко и БСЭ с 24 лексемами, тогда как, скажем, в словаре Ожегова, представляющем лексическую основу современного русского языка, имеется всего лишь 17 старообрядческих лексем, что также является свидетельством маргинали-зованности культуры данного религиозного объединения в современных условиях. Интересно отметить, что словарь Скляревской, в котором засвидетельствовано возвращение в актив или актуализация примерно 300 лексем из религиозно-церковной сферы, не упоминает в данном контексте ни одной из лексем, свойственных старообрядческой культуре. С другой стороны, словарь архаизмов Сомова дает 4 старообрядческие лексемы: кацея, крюки, крюковой распев, лестовка. В «Русском ассоциативном словаре» под редакцией Ю.Н. Караулова мы не находим ни одну из старообрядческих лексем в качестве реакции на любой стимул из сферы религии, церкви, быта (Бог, церковь, христианство, храм, старина, деревня, печать), что, со своей стороны, показывает их периферийное положение в коллективном языковом сознании современных носителей русского языка. Старообрядческая лексика слабо представлена и в межъязыковых контактах: так, контактологический словарь русизмов Й. Айдуковича, в котором представлены заимствования из русского языка, отраженные во всех словарях современ- ного сербского литературного языка, дает лишь 8 лексем из интересующей нас сферы, но в 5 случаях без указания на принадлежность к старообрядческой культуре, поскольку их заимствование не было связано со старообрядческой средой (Домострој, кафтан, крјуки, начотник, сарафан); три лексические контак-темы – беспоповац, раскол, раскољњик – являются наиболее общими понятиями старообрядческой культуры, причем две последние отражают номинацию старообрядческих реалий с позиций кириархальной церкви.
Наше внимание привлекло и качество презентации старообрядческой лексики в словарях современного русского языка. Применяются два лексикографических поступка: трансляция – имманентная интерпретация значения в рамках кода старообрядческой культуры [ подручник – у старообрядцев: подстилка для рук, головы при земных поклонах на молитве (БАС); поповщина – одно из направлений в старообрядстве, признающее церковную иерархию и священников (БАС)] и трансмутация – интерпретация посредством кода другой – в данном случае – культуры, сложившейся в лоне РПЦ [ лестовка – четки, обычно кожаные, у старообрядцев, сделанные наподобие ступенек лестницы (БАС); скит – старообрядческий монастырь или поселок монастырского типа в глухой пустынной местности (БАС)]. Первый поступок, по нашему мнению, предпочтителен в процессе семантизации безэквивалентной и фоновой лексики, а второй – в случаях неполной эквивалентности реалий в двух сравниваемых культурах (см.: [5]). В обоих случаях при лексикографической обработке могут проявиться некоторые недостатки в количестве и качестве лексикографической информации. Наш материал показывает, что изменения происходят в трех основных направлениях:
-
1) редукция информации (либо вследствие объективного отсутствия условий для ее принятия в коде другой культуры, либо вследствие неосведомленности лексикографа): крюки – в древнерусских музыкальных записях – нотный знак особой формы (БАС) (отсутствует информация о том, что данные знаки-невмы применяются старообрядцами и сегодня); беловодье томс. – никем не засе-
- ленная, вольная земля (Даль) – лексема интерпретируется как диалектизм, несмотря на ее общеупотребительный характер, причем отсутствует ее соотношение со старообрядческой средой и не дается объяснение ее мистического смысла;
-
2) идентификационная акультурация , «склонение на собственные нравы» (в терминологии Ю.Е. Прохорова [3, с. 21]), то есть отождествление семантизируемой старообрядческой лексемы с реалиями и представлениями из культуры РПЦ: антиминс – вместопре-стольник; освященный плат с изображением положения во гроб Иисуса Христа, кладется на престол церковный при совершении св. Евхаристии (Даль) – вид реалии истолковывается лишь с позиции практики РПЦ, причем теряется из вида факт, что у старооб-рядцев-поповцев, в соответствии с древней практикой, на антиминсе изображаются лишь восьмиконечный крест с орудиями страданий Христовых – тростию и копием – по сторонам; аллилуйя – песнь в честь Триединого Бога, поемая или читаемая при богослужении по трижды, с присоединением славословия Богу: слава Тебе, Боже! (Дьяченко) – информация о троекратном произношении относится лишь к современной практике РПЦ, тогда как в старообрядческой среде практикуется так называемая сугубая аллилуйя;
-
3) расширение информации , то есть придание семантизируемой лексеме свойств, не замечаемых представителями кода данной культуры, или расширение объема ее значения: мирщиться – у раск.: общаться с православными (Даль) – истолкование слишком широкое, ибо под мирщением подразумеваются лишь общая молитва и общая трапеза старообрядцев с верующими РПЦ. Все это склоняет нас к выводу, что при лексикографической обработке лексем, относящихся к старообрядческой культуре, необходимо учитывать и данные из литературы, написанной самими старообрядцами.
Проведенный нами анализ показывает, что система лексических лингвокультурем, обслуживающих сферу старообрядческой культуры, весьма разветвлена и иерархически организована. Специфические особенности старообрядческой культуры нашли отражение в разных классах культурно маркированной лексики – прежде всего в сфере безэкви-валентной и фоновой лексики, в историзмах, в словах с внутренней формой. В целом, лексика СО показывает предельную замкнутость, резистентность к любым посторонним влияниям, а с другой – тенденцию выработать систему понятий и представлений, альтернативной как к доминирующей православной, так и к секулярной культуре.
Список литературы Русское старообрядчество: наследие в слове
- Ајдуковић Ј. Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације: Речник. Београд, 1997.
- Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948-1965.
- Большая советская энциклопедия: В 30 т. М., 1969-1978.
- Вургафт С.Г., Ушаков И.А. Русское старообрядчество: Энцикл. слов. М., 1996.
- Даль В.И. Толковый словарь живаго великорусскаго языка. М., 1935.
- Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1993.
- Русский ассоциативный словарь: В 2 т./Под ред. Ю.Н. Караулова. М., 1994.
- Словарь русского языка: В 4 т. М., 1957-1961.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973.
- Полный православный славный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. М., 1992.
- Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения/Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998.
- Словарь редких и забытых слов. М., 2003.
- Советский энциклопедический словарь. М., 1979.
- Толковый словарь русского языка: В 4 т./Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940.
- Верещагин Е.М. Язык и культура/Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. М., 1983.
- Кончаревич К. О некоторых аспектах коммуникативной культуры старообрядцев/К. Кончаревич//Коммуникативное поведение славянских народов/под ред. И.А. Стернина, П. Пипера. Воронеж, 2006. С. 97-120.
- Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев/Ю.Е. Прохоров. М., 1997.
- Томахин Г.Д. Проблематика сопоставительного лингвострановедения/Г.Д. Томахин, Б.Н. Фомин//VI конгресс МАПРЯЛ: докл. совет. делегации. М., 1986. С. 254-256.
- Кончаревић К. Руска лексика из религијско-црквене сфере и њена лексикографска обрада (социолингвистички и лингвокултуролошки приступ)/К. Кончаревић//Творбена и лексичка семантика у српском и другим словенским језицима. Радови са IV лингвистичког скупа «Бошковићеви дани» (Подгорица, 8-9.10.1998). Подгорица, 1999. С. 215-217.
- Кончаревић К. Руско старообредништво кроз призму лингвокултурологије (оглед фунционалне анализе)/К. Кончаревић//Црквене студије. Ниш. 3. 2006. С. 143-172.