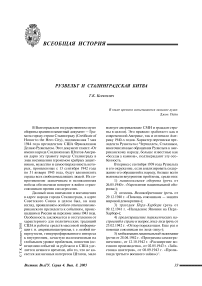Рузвельт и Сталинградская битва
Автор: Коноплич Татьяна Климентьевна
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14971455
IDR: 14971455
Текст обзорной статьи Рузвельт и Сталинградская битва
Т.К. Коноплич
В такие времена испытываются людские души.
Джон Пейн
В Волгоградском государственном музее обороны хранится памятный документ — Грамота городу-герою Сталинграду (Certificate of Honor to the Hero City), подписанная 7 мая 1944 года президентом США Франклином Делано Рузвельтом. Этот документ гласит: «От имени народа Соединенных Штатов Америки дарю эту грамоту городу Сталинграду в знак восхищения героизмом храбрых защитников, мужество и самоотверженность которых, проявленные с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года, будут вдохновлять сердца всех свободомыслящих людей. Их сопротивление захватчикам и великолепная победа обозначили поворот в войне стран-союзников против сил агрессии».
Данный знак внимания и восхищения в адрес народа города Сталинграда, в адрес Советского Союза в целом был, на наш взгляд, проявлением особого отношения американского президента к событиям, происшедшим в России на переломе зимы 1943 года. Особенность заключается в отступлении от характерного для политических традиций США и работы средств массовой информации т. н. американоцентризма, т. е. особой по-вернутости, гипертрофированного интереса к внутренним, зачастую малозначимым на глобальном уровне проблемам, новостям (освещению событий за рубежом в США уделяется немного времени, ибо то, что не касается жизненных интересов Штатов, мало волнует американские СМИ и граждан страны в целом). Это правило «работает» как в современной Америке, так и отличало Америку 1940-х годов. Характер переписки президента Рузвельта с Черчиллем, Сталиным, многочисленные обращения Рузвельта к американскому народу, больше известные как «беседы у камина», подтверждают эту особенность.
В период с сентября 1939 года Рузвельта и его окружение, если анализировать содержание его обращений к народу, больше всего волновали внутренние проблемы, среди них:
-
1) национальная оборона (речь от 26.05.1940 г. «Укрепление национальной обороны»);
-
2) помощь Великобритании (речь от 29.12.1940 г. «Помощь союзникам — защита мировой демократии»);
-
3) трагедия Перл-Харбора (речь от 09.12.1941 г. «Нападение Японии на Перл-Харбор»);
-
4) предотвращение пораженческих настроений в стране и вопрос ленд-лиза (речь от 23.02.1942 г. «Отпор пораженцам. Еще раз о помощи союзникам по ленд-лизу»);
-
5) мобилизация национальной экономики (речи от 28.04.1942 г. «Программа самоограничения», от 12.10.1942 г. «Расширение военного производства», от 02.05.1943 г. «Забастовка шахтеров», от 08.09.1943 г. «Пропаганда третьего военного займа») 1 .
Анализ военной ситуации, складывающейся в России, появляется в обращениях Рузвельта к нации и его переписке с Черчиллем после 22 июня 1941 года Рузвельт пристально следит за ситуацией в Советской России, его беспокоит отступление Красной армии. В Белом доме даже обсуждался вопрос о возможном выступлении Рузвельта «по русскому вопросу» в конгрессе. Но впоследствии, как полагают историки, из-за влияния докладов военных специалистов о безнадежности положения Красной армии (здесь можно вспомнить меморандум военного министра Стимсона, предрекавшего разгром Красной армии гитлеровцами в течение 3 первых месяцев после начала войны), президент США отменил свое решение. Выступление в конгрессе, намеченное на 27 июня 1941 года, так и не состоялось.
Как свидетельствует история, в самый ответственный момент — начальный период — в отношении Рузвельта к России возобладал здравый смысл, и президент США прислушался не к Стимсону, а к доводам американского посла в СССР Джозефа Дэвиса. Именно Дэвис 7 июля 1941 года по просьбе Белого дома приготовил меморандум относительно перспектив военного, экономического и политического сотрудничества СССР и США в период войны.
Посол Дэвис настаивал на том, что США должны договориться с Советами о сотрудничестве. И это, несмотря на то что СССР несет тяжелейшие потери на всех фронтах. Дэвис уверил своего президента в том, что Советская Россия располагает всеми возможностями противостоять вероломному натиску гитлеровской Германии на Восток и способна переломить ситуацию. Рузвельт и его советник Гарри Гопкинс приняли веские аргументы меморандума Дэвиса. Более того, несмотря на свое слабое здоровье, в самом начале войны — в конце июля 1941 года — Гопкинс посещает СССР, встречается со Сталиным 2. В ходе этой поездки советник президента убедился в высоком моральном духе и воинской доблести Советской армии. По возвращении в Вашингтон Гопкинс уверил своего босса в том, что сила Советской армии значительно недооценена военной разведкой большинства стран. США это надо учесть и в реальности идти на сближение с сильным союзником — СССР.
В результате под влиянием объективных фактов проблема военного сотрудничества США с Советами было решена положительно.
Таким образом, в самом начале Второй мировой войны сценарий отношений американского президента с СССР и его руководством стал развиваться в максимально возможном на тот период позитивном русле. Этому способствовала имевшая место между Сталин и Рузвельтом особая симпатия и понимание стратегических интересов друг друга3.
Так, в конце октября 1941 года, когда всему миру было понятно, что гитлеровский блицкриг провалился, Рузвельт сообщает Сталину о решении американской стороны предоставить СССР беспроцентный заем на 1 млрд долларов. По этому поводу американский президент открыто заявил, что помощь Советскому Союзу он считает своей главной задачей4. В ответном послании Сталин поблагодарил американского президента за его предложение.
С этого времени Рузвельт в своих обращениях к нации начинает проявлять особое внимание и уважение в адрес советского народа, мужественно сражающегося с нацистскими захватчикам. Анализируя содержание знаменитых «бесед у камина», можно проследить эволюцию отношения президента США к войне в России и мужеству советского народа.
Тенденции «потепления» этих отношений проявляются все ярче с каждой последующей речью Рузвельта: все больше и больше внимания уделяет он рассмотрению ситуации на «русском фронте». При этом тон его рассуждений становится все более и более приветливым и сострадательным.
Первоначально в одном из первых обращений к нации военного периода — речи «Нападение японцев на Перл-Харбор» от 23 февраля 1942 года — Рузвельт лишь однажды упоминает о России, замечая о том, что «успешное наступление русских облегчает нашу задачу» (с. 174).
Сравнивая ситуацию в России и США, американский президент ставит в пример своим согражданам героизм русских, подчеркивая, что «тем американцам, которые ворчат и жалуются по поводу вынужденных ограничений в нашей жизни здесь, в США, полезно узнать, что переживает гражданское население наших союзников — Британии, Китая и России, — а также всех стран, оккупированных нашим общим врагом» (с. 223).
В речи от 28 апреля 1942 года, известной под названием «Программа самоограничения», Рузвельт обращает внимание своих сограждан на то, что «на европейском фрон- те самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем остальные Объединенные нации, вместе взятые» (с. 186-187).
Анализируя положение на фронтах и в тылу, в своем обращении к нации от 07.09 1942 года американский президент говорит о «русском фронте»: «Русский фронт. Здесь немцам по-прежнему не удается одержать сокрушительную победу, о которой Гитлер объявил еще почти год назад... [что] ...Германия захватила важную часть территории России. Тем не менее, Гитлер не смог уничтожить единую русскую армию <...>» (c. 201— 202). Далее Рузвельт прогнозирует судьбу нацистской армии. Ее, по мнению американского президента, ожидает крах. «По всей вероятности, — утверждал президент, — миллионам германских солдат предстоит пережить еще одну суровую зиму на русском фронте. Русские истребляют больше нацистских солдат, уничтожают больше вражеских самолетов и танков, чем противники Гитлера на любом другом фронте. Русские сражаются не только отважно, но и искусно. Несмотря на все временные неудачи, Россия выстоит и, с помощью своих союзников, в конце концов, изгонит со своей земли всех нацистов до последнего» (там же).
В другом обращении к нации — в «Падении Муссолини» от 28 июля 1942 года — Рузвельт резюмирует: «Сегодня самые тяжелые и решающие сражения идут в России». <...> В 1941—42 годах русские отступали, но не сдавались. Им удалось перевести многие военные заводы из западной части России вглубь страны. Весь русский народ в полном единении встал на защиту своей родины. Успехи русской армии показали, как опасно предрекать что-либо по их поводу. Великому стратегу Гитлеру, с его мистической интуицией, надо зарубить это себе на носу» (с. 223).
Практически никто из современных исследователей не спорит о том, что перелом в войне на «русском фронте» и в отношениях между союзниками по вопросу об открытии второго фронта наступил именно после Сталинградской битвы. Именно в этом городе Красная армия сделала недостижимыми планы Гитлера по завоеванию мирового пространства.
Героическая оборона Сталинграда вызвала восхищение и признание со стороны демократически настроенных слоев США. Именно после событий февраля 1943 года в Америке выросло число сторонников движения солидарности и военного сотрудничества с СССР, выступавших за открытие второго фронта, поскольку Сталинградская битва доказала всему миру жизнеспособность Советской России и ее огромный политико-экономический потенциал.
Президент США принадлежал к числу людей, искренне симпатизировавших и восхищавшихся мужеством героических защитников города на Волге. В этой связи он неоднократно выступал в СМИ, чьи представители интересовались оценкой победы русских на Волге для мирового сообщества. Вспоминается выступление Рузвельта на страницах журнала «Soviet Russia Today» по случаю 25-летней годовщины создания Красной армии. По случаю этого юбилея американский президент заявил, что «рад воздать дань уважения Красной армии <...>. Успехи Красной армии в этой войне представляют собой выдающиеся военные достижения последних веков. В течение 18 месяцев она защищает свое отечество против нападения сильнейшего за всю историю военного противника . В ходе навечно вошедшей в историю Сталинградской битвы она не только остановила врага, но и предприняла контрнаступление, которое развивается сейчас по всему огромному фронту— от Ленинграда до Кавказа (выделено нами. — Т К.). Красная армия, ее доблестные солдаты, мужчины и женщины, ее талантливые военачальники, поддерживаемые усилиями всех граждан России — мужчин, женщин и детей, заложили фундамент неотвратимой победы над армией Гитлера»5.
После Сталинграда изменилось военностратегическое положение сил в мире. Американцы первыми отреагировали на это. «Завершение грандиозной русской победы в Сталинграде, — подчеркивал американский историк Р. Шервуд, — изменило всю картину войны и перспективы ближайшего будущего. Эта битва — по своей продолжительности и ужасным потерям сама может быть приравнена к большой войне — выдвигала Россию в положение великой державы, которого она давно заслуживала в силу характера ее народа и его численности. Рузвельт понял, что должен теперь взглянуть в более далекое будущее, чем военная кампания 1943 года, и заняться рассмотрением вопросов послевоенного мира»6.
Этот вопрос был рассмотрен на Тегеранской конференции, в ходе которой Рузвельт смог выразить свое восхищение подвигом героев Сталинграда. Это произошло 29 ноября 1943 года в момент передачи У. Черчиллем меча Георга VI в дар жителям Сталинграда. Данный эпизод подробно описан в мемуарах личного переводчика Сталина В.М. Бережкова. На клинке была выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа». Как вспоминает Бережков, Сталин показал меч Рузвельту. «Черчилль поддерживал ножны, а Рузвельт внимательно оглядел огромный клинок. Прочтя вслух сделанную на клинке надпись, президент сказал: “Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца”»7. После этого, как свидетельствует Бережков, на террасе дома, где происходила встреча, была сделана фотография участников Тегеранской конференции руководителей трех великих держав — СССР, США и Великобритании. Эта фотография облетела весь мир и вошла в историю как символ единения прогрессив но мыслящих и свободолюбивых народов. Скрепляющим стержнем этой свободы, ее символом стал Сталинград — город-герой, город-мемориал, живущий своей жизнью современный город, с которым связана судьба многих людей во всем мире.
Список литературы Рузвельт и Сталинградская битва
- Рузвельт Ф. Д. Беседы у камина. М.: ЕАВ., 1995. С. XI-XII (далее при ссылке на это издание в тексте в скобках указываются номера страниц); Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 1995.
- Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. С. 217;
- Энциклопедия российско-американских отношений. М., 2001. С. 154-155.
- Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. М., 1987. С. 268-271;
- Энциклопедия... С. 512-513.
- Советско-американские отношения во время Великой отечественной войны, 1941-1945: В2т.М., 1983.Т. 1. С. 135.
- Hopkins to J. Smith. FDRL. Papers of H. Hopkins. Box 220. 1943. February, 8.
- Sherwood R. Roosevelt and Hopkins: An Intimate History. 2 vol. Vol. II. N. Y., 1950. P. 304.