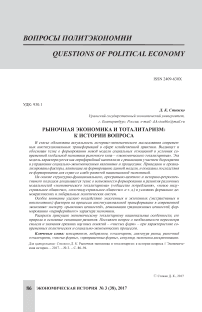Рыночная экономика и тоталитаризм: к истории вопроса
Автор: Стожко Дмитрий Константинович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Вопросы политэкономии
Статья в выпуске: 3 (38), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснована актуальность историко-экономического исследования современных институциональных трансформаций в сфере хозяйственной практики. Выдвинут и обоснован тезис о формировании новой модели социальных отношений в условиях современной глобальной экономики рыночного типа - «экономического тоталитаризма». Эта модель характеризуется как периферийный капитализм с решающим участием бюрократии в управлении социально-экономическими явлениями и процессами. Приведены и проанализированы факторы, влияющие на формирование данной модели, и показаны последствия ее формирования для стран со слабо развитой национальной экономикой. На основе структурно-функционального, программно-целевого и историко-ретроспективного подходов доказывается тезис о возможности формирования и развития различных модальностей «экономического тоталитаризма» («общество потребления», «новое индустриальное общество», «постиндустриальное общество» и т. д.) в условиях формально демократических и либеральных политических систем. Особое внимание уделено воздействию эндогенных и экзогенных (экстрактивных и инклюзивных) факторов на процессы институциональной трансформации в современной экономике: экспорту «рыночных ценностей», девальвации традиционных ценностей, формированию «периферийного» характера экономики. Раскрыты присущие экономическому тоталитаризму национальные особенности, его природа и основные тенденции развития. Поставлен вопрос о необходимости пересмотра смысла и значения прежних научных понятий - «чистых форм» - при характеристике современных политических и социально-экономических процессов.
Консерватизм, либерализм, тоталитаризм, диктатура рынка, рыночный тоталитаризм, "чистые формы", "превращенные формы", симулякр, экономика дискриминации
Короткий адрес: https://sciup.org/14723862
IDR: 14723862 | УДК: 930.1
Текст научной статьи Рыночная экономика и тоталитаризм: к истории вопроса
В научном лексиконе существуют так называемые «чистые» и «превращенные» «формы», под которыми подразумеваются абстрактные и конкретные понятия (категории). Понятие «тоталитаризм» относится к числу «чистых форм» или общих понятий. В целом это общепринятое и при этом достаточно условное понятие. Еще в Древнем Риме шла борьба между популярами и оптиматами за либеральный (республиканский) строй. Приход к власти Суллы показал, что демократия и либерализм мало чем отличаются от тоталитаризма. Демократично принятые сенатом проскрипционные списки оказались основой тоталитарного строя в Древнем Риме, а конфискация имущества врагов Отечества – чуть ли не основой римской экономики.
С тех пор прошли тысячелетия, но в области использования «чистых» понятий мало что изменилось. Зато существенно изменилось конкретно-историческое содержание, которое ученые обозначают такими «чистыми» понятиями.
Было бы наивным полагать, что рыночная экономика – это всегда и во всем экономика либеральная. Ее всеобщий характер и директивные методы организации – яркое тому доказательство. Начиналось формирование рыночной экономики в России «картофельными» методами, когда Екатерина II своим рескриптом внедряла повсеместно в России картошку [9, с. 122]. Позднее власть своими указами и распоряжениями интенсивно внедряла в стране вексельное обращение, кредитные отношения, конкуренцию и многие другие инструменты рыночной организации хозяйства. Таким образом, осуществлялась экономическая «революция сверху». «Перестройка» и «ускорение» 80-х гг. ХХ в. – из числа та- ких же искусственных мероприятий по тотальному обновлению национальной экономики. Это как бы вертикальный срез экономического тоталитаризма. Но есть и горизонтальный срез экономического тоталитаризма, проявляющийся в охвате рыночными отношениями новых областей хозяйствования: социальной сферы, коммунального хозяйства, духовного производства. Даже рабочая сила превратилась в товар.
Термин total означает всеохватность, всеобъемлющий характер. Рыночные отношения в современной России как раз и носят всеохватывающий и всеобъемлющий, а по существу еще и принудительный характер. Никто не спрашивает, например, преподавателей вузов, хотят ли они переходить на так называемые «эффективные контракты». Точно так же никто не интересуется мнением педагогов о качестве балльно-рейтинговых систем, разработанных чиновниками, на основе которых начисляется стимулирующая часть заработной платы. То обстоятельство, что критерии таких систем оставляют желать много лучшего, – факт, не требующий доказательств.
Аналогичным образом обстоят дела и в сфере ценообразовании. В условиях инфляции, как часто любил повторять академик В. В. Новожилов, «цены разговаривают на языке лжи». Отсюда понятно, что они – вовсе и не цены. То, что мы все сегодня по инерции продолжаем называть ценами, – это симулякр, который не соответствует ни качеству продуктов (товаров и услуг), ни затратам на их производство и сбыт. Простой факт: сегодня в структуре стоимости сельскохозяйственной продукции на долю ее производства приходится 77 %, а получает аграрий 27 %. Тогда как на долю переработки – 15 %, а получает переработчик 31 %. В выигрыше остается перекупщик – спекулянт. На долю торговли приходится 8 % затрат, а получает продавец 42 % от цены продукции [8, с. 108].
Такая организация рыночной экономики «сверху» порождает бюрократизм и коррупцию, превращает экономику в некий дискриминационный механизм распределения и перераспределения благ.
Складывается глубинное противоречие между формально демократичным (федеративным) устройством государства и тоталитарным устройством рыночной экономики (сверхцентрализованной бюджетной и налоговой системами, монополией власти на многие виды хозяйственной деятельности, разрешительно-запретительным принципом организации предпринимательской деятельности и др.).
Методы
Для осмысления феномена экономического тоталитаризма используются методы сравнительного, структурно-функционального, программно-целевого и историкоретроспективного анализа, позволяющие выявить сущность, основные признаки, специфику и конкретно-исторические модальности предмета исследования.
На основе этих методов установлено, что современная рыночная терминология находится в явном противоречии с конкретно-историческим содержанием тех явлений, которые она обозначает. Потому что смысл, который в эти понятия вкладывается в ХХI в., во многом иной, нежели тот смысл, который в эти понятия вкладывался раньше. Например, полноценные деньги превратились сначала в бумажные, а последние – в электронные. Такие деньги перестали выполнять функцию накопления и роль всеобщего эквивалента, но их по-прежнему называют деньгами. Произошло то, что можно назвать подменой понятий. По сути, многие научные понятия в экономике превратились в симулякры.
В связи с этим применяется метод экономической герменевтики, который позволяет выяснить, каким образом старые понятия наполняются новым содержанием и приобретают свой «научный» статус. При этом необходимо верифицировать такое понятие практикой, т. е. сверять «копию» с «подлинником». К понятиям «экономический тоталитаризм» и «экономический либерализм» это относится в первую очередь. Всеобщий либерализм – тот же тота- литаризм, его обратная сторона. В экономике это видно невооруженным взглядом. Когда в стране львиную долю валового внутреннего продукта (ВВП) производит и большую часть национального дохода (НД) присваивает два десятка крупных корпораций, то рыночная экономика напоминает государственно-монополистический капитализм (ГМК), который только выдается за рыночную экономику. Несоответствие сущности и содержания здесь очевидно. Когда государство объявляет важнейшим двигателем экономики конкуренцию, которая по факту оказывается недобросовестной, то и в этом случае несоответствие сущности и содержания так же очевидно. Понятие «экономический тоталитаризм» оказывается синонимом современной «либеральной рыночной экономики».
Результаты
Для того чтобы лучше понять природу экономического тоталитаризма, необходимо углубиться в контекст исторических событий. Потому что экономический тоталитаризм точно так же исторически детерминирован, как и политический тоталитаризм.
Известно, что три четверти своего исторического времени Россия провела в оборонительных войнах. В ХVI в. боевые действия длились 43 года, в ХVII в. – 48 лет, в ХVIII в. – 56 лет [3, с. 160]. Ни одна другая страна в мире за свою историю не находилась в такой ситуации, как наша. ХХ в. в этом отношении не стал исключением.
Естественно, что такая ситуация не могла не сыграть свою роль в истории политического и экономического тоталитаризма в стране. В военное время, как известно, не до сантиментов. Здесь требуются полная мобилизация и жесткая дисциплина. Поэтому становится понятной определенная особенность современной рыночной экономики России, в которой «рыночные ценности» с огромным трудом приживаются в общественном и личном сознании. Тем более, что и международная ситуация складывается не лучшим образом (международный терроризм, многочисленные во- енные конфликты, санкции против РФ и др.).
В связи с тем, что открытое противостояние «рыночных ценностей» и российской цивилизации оказалось неэффективным, появилось понятие «мягкая сила» (Джозеф Най, 1990 г.), означающее постепенное продавливание ситуации и, по существу, принудительное инкорпорирование либеральных схем и установок в экономическую жизнь российского общества. Возникла идея «управляемой демократии».
Важным условием возникновения тоталитарных экономических моделей является современная технология, которая оказывается незаменимой в функционировании централизованно управляемых экономик.
Принудительное и насильственное насаждение рыночных ценностей в нашей стране в конце прошлого столетия породило диктатуру рынка. Эта модель обладает всеми признаками тоталитаризма и использует самые современные технологии: манипулирование сознанием, тотальную пропаганду, ювенальную юстицию и т. д. [4, с. 111].
Характерными признаками экономического тоталитаризма являются:
– охват всех сфер (публичной и частной) жизни людей рыночными отношениями, превращение личности в товар;
– разрыв между государством как инструментом реализации общественных отношений и бюрократией как новым классом, приватизировавшим государство;
– функционирование рыночных институтов под жестким контролем бюрократии;
– сохранение формальной свободы хозяйственной деятельности при жесткой ее регламентации «сверху» на уровне подзаконных актов;
– растущее несоответствие норм закона (права) и правоприменительной практики, постепенная дегуманизация норм законодательства;
– растущий разрыв между нормами закона (права) и общественного сознания (психологии), рост числа «институциональных ловушек»;
– действие рыночных правил исключительно в период благоприятной конъюнктуры и прекращение их действия в условиях кризиса (когда становятся допустимыми жесткие ограничения со стороны государства);
– снижение уровня социальной безопасности личности в условиях нарастающих проявлений социальной оппозиции (девиантное поведение, терроризм и т. д.).
О способности тоталитаризма к мимикрии в свое время писал и К. Фридрих [14].
Следует подчеркнуть, что экономический тоталитаризм все в большей степени ассоциирует себя с «экономикой услуг», главным принципом которой является «любой каприз за ваши деньги». По сути, это модель отсталого «периферийного капитализма», которую сформулировал аргентинский экономист и историк Р. Пребиш. Он, в частности, доказывал, что нет никакого спонтанного развития рыночной экономики, а есть целенаправленное и центростремительное развитие капитализма (экономическая экспансия с последующей ассимиляцией). Термин «капитализм» оказался заменен симулякром «рыночная экономика». Современный капитализм распространяется вширь, способствует вовлечению в свою орбиту экономик других стран и регионов. Но формирующийся в этих странах «периферийный капитализм» отличается от капитализма развитых стран не степенью зрелости, а способами производства и распределения материальных благ. Ключевой фактор здесь состоит в том, что интересы экономик главных капиталистических стран определяют характер и динамику формирования «рыночной экономики» в других странах [10, с. 21–22].
Имитация экономической демократии начинается с создания тотального и открытого для сильных экономик рынка. Ведь такие экономики нуждаются в новых источниках сырья и рынках сбыта собственной продукции. В реальности же вместо настоящего рынка создается крайне неэффективный механизм распределения, в котором за видимостью рыночных правил (свобода предпринимательства, неприкосновенность собственности и др.) скрывается самый махровый волюнтаризм. Современный финансово-экономический кризис проиллюстрировал это в полной мере. Замораживание и даже конфискация банковских вкладов на Кипре, в Греции, Португалии, на Украине и в некоторых других странах показали, что государство соблюдает видимость рыночных правил и свобод ровно до того момента, когда это становится ему невыгодно. Оно с легкостью переходит от демократических процедур к тоталитарным и делает модель распределения кричаще несправедливой. В РФ также существуют установленные «сверху» ограничения прав и свобод субъектов хозяйственной деятельности. Начиная от предписаний Центробанка, выполняющего роль «всеобщего регулятора» в банковской системе, и заканчивая ограничениями на выдачу наличных средств со счетов клиентов. С последними отнюдь не рыночными ограничениями может столкнуться любой гражданин, пожелавший снять единовременно в банкомате больше 50 тыс. руб.
«Правила игры» в условиях «периферийного капитализма» вполне сочетаются с тоталитарными политическими режимами, но никакого процветания народам они не несут. Поэтому было бы наивным ожидать от существующей ныне экономической модели в России роста благосостояния ее народа.
В этой ситуации вызывает особую тревогу то обстоятельство, что господствующая бюрократия как в нашей стране, так и в других странах делает акцент на внешнюю причинность, внешнюю помощь [11, с. 31–32].
Эта оглядка и иждивенчество обусловлены массовой практикой прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые в ХХ в. США предоставляли своим сателлитам. Но времена изменились. Государственный долг США превысил 20 трлн долл. Прежний экономический донор оказался в ситуации малокровия. Поэтому и поддержка «периферийного капитализма» в странах, ставших адресатом экспорта капиталов и рыночных ценностей, неуклонно снижается. Вспомним: первое, что сделал Д. Трамп на посту президента США, – аннулировал Соглашение о Тихоокеанском партнерстве. Надежда на иностранные инвестиции, приток капитала в отечественную экономику из-за рубежа – пустое занятие. Вот и приходится в этой ситуации все чаще ужесточать, квотировать, лимитировать, фондировать, наказывать и т. д.
При этом российская бюрократия продолжает рассматривать свои действия априори как общественно полезные услуги по управлению, нисколько не соотнося их с подлинной экономической и социальной эффективностью. Ей не нужен никакой внешний аудит в виде институтов гражданского общества и правового государства. Это классическое проявление «экономического тоталитаризма», поскольку функция управления и функция контроля (оценки эффективности управления) соединены в одном лице – российском чиновнике. Принцип разделения властей в современной российской экономике практически отсутствует.
Обсуждение
Исследование феномена экономического тоталитаризма наиболее активно началось лишь в 50-е гг. XX в. в рамках его сравнительного анализа с концепцией экономического либерализма. Именно в это время происходит наиболее ожесточенная полемика между представителями различных политических течений: консерватизмом, с одной стороны, и либерализмом – с другой.
В работах Р. Арона, Э. Мунье, Л. фон Мизеса, П. Самуэльсона, Э. Тоффлера, Ф. фон Хайека и других философов и экономистов была глубоко исследована проблема экономического либерализма как антипода экономическому тоталитаризму. Именно тогда возникло и преобладает до сих пор мнение о том, что эти понятия взаимно исключают друг друга. Но жизнь вносит свои коррективы в такие суждения. Как показывает практика, экономический либерализм оказывается возможным и при политическом тоталитаризме, а политический либерализм вполне уживается с экономическим тоталитаризмом.
Как показывает история последних лет, экономический либерализм вполне может трансформироваться в экономический тоталитаризм при одной и той же политической системе. Все происходит строго по логике А. Тойнби «Вызов – Ответ» [12, с. 89–117].
Поэтому дискуссия о сущности тоталитаризма и либерализма, их формах и способах осуществления продолжается уже достаточно давно. Так, в российской истории были примеры соединения этих явлений в форме «консервативного либерализма» П. Б. Струве или «охранительного консерватизма» К. П. Победоносцева [13, с. 38–97].
«Побочным» результатом исследований проблематики экономического тоталитаризма стало появление теории «дискриминационной экономики». К разработчикам этого направления в США можно отнести Г. С. Беккера, В. Нисканена, В. Ойке-на, М. Спенса, К. Эрроу. В Германии это Ф. Бем, Г. Вильгеродт, Ф. Лутц, В. Ойкен, В. Репке.
Вариациями теории экономического тоталитаризма могут служить концепции «экономического порядка» и современного корпоративизма. Называя тоталитарное государство устаревшим, В. Ойкен, например, выступал за создание «экономического государства». В этом случае он признавал утрату государством собственной воли и самостоятельности в ее формировании, понимая под этим возрастающее значение бюрократии [7, с. 17].
Философское обоснование основных проявлений экономического тоталитаризма можно обнаружить также в сочинениях зарубежных исследователей: Дж. Бьюкенена, П. Бьюкенена, Т. Веблена, Ф. Мах-лупа, А. Токвиля, Н. Лумана, Г. Маркузе, М. Фуко, Ф. Фукуямы, Й. Шумпетера и др.
Среди более поздних концепций в рамках исследования феномена экономического либерализма отметим концепции «потребительского общества» Ж. Бодрийяра, «одномерного универсума» Г. Маркузе,
«постиндустриального общества» Д. Белла, «нового индустриального общества» Дж. Гэлбрейта. Одновременно с формулировкой разных концепций экономического тоталитаризма в науке происходит то, что принято называть стэндингом – символизация сознания, подмена понятий и разрушение культурного ядра (традиционных ценностных систем) [5, с. 127–133].
Рассматривая, например, «общество потребления» в контексте «герметизации политического универсума», Г. Маркузе начинает свое главное сочинение с параграфа под символичным названием «Новые формы контроля». Стремление к расширению сферы и функций контроля – признак тоталитаризма. Таких проявлений в современной жизни нашего общества более чем достаточно: начиная от «тотального диктанта» или ЕГЭ и заканчивая обязательным начислением пенсий и зарплат на пластиковые карточки. Выбора нет. Экономический тоталитаризм его не оставляет.
Г. Маркузе признает как факт то обстоятельство, что раз «население принуждается к принятию этого общества», то «тотальный характер достижений развитого индустриального общества оставляет критическую теорию без рационального основания для трансцендентирования данного общества». Далее следует вывод: «Чем более рациональным, продуктивным, технически оснащенным и тотальным становится управление обществом, тем труднее представить себе средства и способы, посредством которых индивиды могли бы сокрушить свое рабство и достичь собственного освобождения» [6, с. 16–17].
Заключение
Развитие феномена современного рыночного тоталитаризма предполагает обращение к проблеме экстрактивных и инклюзивных институтов, посредством которых этот феномен реализуется в обычной повседневности, а не только в экономической политике государства или корпоративной политике экономических структур. Анализ этого аспекта исторического развития разных стран способен дать ответы на вопросы о трансформации «чистых форм» в «превращенные формы», а также об институциональных метаморфозах в условиях современного глобализма [2, с. 18].
Результаты функционирования модели рыночного тоталитаризма – «экономики дискриминации» – в России в условиях современной политической системы существенным образом сдерживают формирование институтов гражданского общества и самого правового и социального государства. В ст. 7 Конституции РФ записано, что современное российское государство социальное, однако экономические последствия от функционирования рассматриваемой экономической модели оказываются в противоречии с положениями Конституции. Отмеченные антагонистические противоречия (дихотомия) между политическим и экономическим устройством нашей страны (федеративное устройство и централизованные бюджетная и налоговая система и др.) требуют срочного преодоления подобных «институциональных ловушек» (термин академика В. М. Полте-ровича).
Первым средством на пути их устранения является дебюрократизация управления экономикой. Потому что носителем тоталитаризма и в политике, и в экономике всегда является именно бюрократия. Именно она осуществляет различные реформы и контрреформы для того, чтобы закрепить свои потребительские привилегии [15, с. 26–28].
Вторым средством по устранению проявлений тоталитаризма в экономике служит максимальное распространение практики социального самоуправления, в том числе на местном уровне. Это позволит в полной мере учесть и территориальные особенности хозяйства. При этом необходимо иметь в виду, что сама по себе «эффективность рынка не является ни достаточной, ни необходимой для того, чтобы рыночные институты могли быть “предпочтительным” способом общественной организации» [1, с. 290].
Список литературы Рыночная экономика и тоталитаризм: к истории вопроса
- Батор Ф. М. Анатомия провала рынка//Вехи экономической мысли. Т. 4: Экономика благосостояния и общественный выбор: пер. с англ. -СПб.: Экономическая школа, 2004.
- Бородкин Л. И. Инклюзивные и экстрактивные институты: о взаимовлиянии исторических и экономических исследований//Экономическая история. -2016. -№ 3 (34). -С. 14-19.
- Дробышев А. А., Бандура С. И. Основы политологии. -Омск: ОмГМА, 2002. -282 с.
- Лившиц Р. Л. Homo postsoveticus: упования и реальность//Мировоззрение и культура. -Екатеринбург: Банк культурной инициативы, 2002. -С. 110-117.
- Луценко Д. А. Проблема оценки статуса в социальной стратификации//Гуманитарные стратегии российских трансформаций: материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. -Тюмень: Изд-во ТГНГУ. -2008. -Т. 2. -С. 127-130.
- Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества: пер. с англ. -М.: REFL-book, 1994. -368 с.
- Ойкен В. Структурные изменения государства и кризис капитализма//Теория хозяйственного порядка. «Фрайбургская школа» и немецкий либерализм: пер. с нем. -М.: Экономика, 2002. -С. 5-33.
- Основы социального государства/под ред. К. П. Стожко: в 2 ч. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. -2015. -Ч. 1. -216 с.
- Перламутров В. Л. Финансово-денежная политика и рыночные реформы в России. -М., Экономика, 2007. -281 с.
- Пребиш Р. Периферийный капитализм: Есть ли ему альтернатива: пер. с исп. -М., 1992. -337 с.
- Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии российской цивилизации (ХVIII -начало ХХ в.). Екатеринбург: УрО РАН, 2014. -248 с.
- Тойнби А. Постижение истории. -М.: Прогресс, 1996. -608 с.
- Экономические реформы в России. К 110-летию аграрной реформы П. А. Столыпина/под ред. Б. А. Воронина, К. П. Стожко, Н. Н. Целищева. -Екатеринбург: ИД «Ажур». -2017. -508 с.
- Friedrich C., Brzezinski Zb. Totalitarian dictatorship and autocracy. -Cambridge: Harvard university pres, 1965. -456 p.
- Mandel E. Zehn Thezen zur socialokonomishen Gezetzmassigkeit der Ubergangsgesellshaft zwischen Kapitalismus und Socialismus//Probleme des Socialismus und der Ubergangsgesellschaften. -Frankfurt a/M, 1973. -305 p.