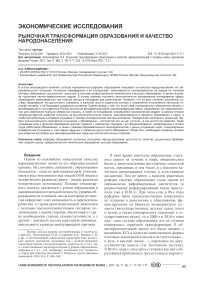Рыночная трансформация образования и качество народонаселения
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Экономические исследования
Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние, которое перманентные реформы образования оказывают на качество народонаселения, его образовательный потенциал. Основные нововведения и их последствия анализируются последовательно на каждой из ступеней системы образования: дошкольной, школьной, в системе профессионально-технического и высшего образования, а также на уровне подготовки научно-педагогических кадров. В основу анализа положены многочисленные эмпирические исследования сферы образования, реализованные при участии автора в последние два десятилетия. Показано, что на всех ступенях российской системы образования его доступность снижается, а качество, если в отдельных случаях и сохраняется относительно неплохим, то, скорее, вопреки, а не благодаря созданным условиям. Сделан вывод о том, что отсутствие положительных результатов связано с возобладавшим в постсоветской России рыночным фундаментализмом, рассматривающим сферу образования как предназначенную для извлечения прибыли сервисную отрасль, а также со спецификой сложившейся экономической модели, в рамках которой преимущественное развитие получили не высокотехнологичные отрасли, заинтересованные в развитии образования и науки, а слабо востребующие инновации сырьевые и торгово-посреднические сектора экономики. Преодоление негативных тенденций требует принципиального пересмотра отношения к образованию - восприятия его не как «услуги», а как института развития. Такое понимание роли и функций образования должно привести к пересмотру подходов к его финансированию, нормированию и оплате труда работников образования, а также к ревизии образовательного законодательства с целью устранения норм, стимулирующих коммерческие отношения и, тем самым, ведущих к снижению доступности образования. Кроме того, необходимо создание условий для развития востребующих квалифицированные кадры высокотехнологичных отраслей
Реформы образования, рыночные отношения, народонаселение, доступность, качество, дошкольное образование, средняя школа, профессионально-техническое образование, высшее образование
Короткий адрес: https://sciup.org/143178384
IDR: 143178384 | DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.2.1
Текст научной статьи Рыночная трансформация образования и качество народонаселения
Одним из важнейших показателей качества народонаселения1 является его образовательный уровень. Не случайно, связанный с образованием показатель – один из трёх индикаторов, учитываемых в рассчитываемом под эгидой ООН индексе человеческого развития (ранее – индекс развития человеческого потенциала). Помимо гуманитарного аспекта, связанного с ролью образования в самореализации отдельной личности, уровень образованности основной массы населения во многом определяет саму возможность и перспективы развития в стране производительной экономики с весомым высокотехнологичным сектором, позволяющим, с одной стороны, обеспечивать стране необходимую степень самодостаточности, а с другой – извлекать весьма ощутимую инновационную ренту в рамках международной торговли.
В своё время советское образование считалось одним из лучших в мире, общеизвестны были и многочисленные достижения советской науки, связанные, в том числе, и с высоким качеством преподавания точных и естественных дисциплин. Тем не менее, с началом рыночных реформ система образования стала одним из перманентно реформируемых институтов (к радикальному реформированию науки приступили уже в 2010-х). При этом если в 90-е годы реформы были преимущественно направлены на создание в дополнение к образованию, финансируемому из бюджета, коммерческого сегмента (негосударственных детских садов, школ и вузов, а также коммерческих отделений в государственных вузах), то в 2000-е и 2010-е годы уже сама система образования, все её ступени подверглись серьёзной трансформации. В общеобразовательной школе это было связано с введением ЕГЭ в качестве единственной формы итоговых испытаний в школе и вступительных – в вузе, в высшей школе – с переходом на двухступенчатую модель (т.н. Болонскую систему). В 2010-е годы к этим двум ступеням высшего образования прибавилась третья в лице аспиранту- ры. Но главные изменения были связаны с переводом в эти годы образования в разряд «услуг» – в ходе подготовки присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), которая, как следует из обязательного для стран-участниц ВТО Генерального соглашения по торговле услугами, включает эту сферу в число сервисных отрас-лей2. А также с принятием в 2010 году Федерального закона №83-ФЗ3: заложенная в него система экономических стимулов радикально изменила целеполагание образовательных учреждений и отношения между, как это стало с тех пор называться, поставщиками и потребителями услуг. Нельзя не упомянуть и об укладывающейся в общее русло реформ начала–середины 2010-х годов «оптимизации» сети образовательных учреждений (от детских садов до университетов); о стоящих как будто особняком, но в реальности также способствовавших сокращению штатов сотрудников «майских указах» президента 2012 года (о доведении заработной платы работников организаций системы образования до средней по региону); о внедрении в социальную сферу «эффективного контракта».
Казалось бы, такое количество реформаторских усилий (выше перечислены далеко не все нововведения), да еще и приложенных к некогда весьма успешной, демонстрировавшей свою эффективность системе, должно было дать превосходный эффект. Однако этого не происходит: показатели читательской, математической и естественнонаучной грамотности российских школьников снижаются или, в лучшем случае, стагнируют, особенно это касается детей из небогатых семей4; не наблюдается паломничества в российские университеты иностранных студентов (особенно среди жителей развитых и стремительно развивающихся стран); нет и всплеска научных достижений мирового уровня (притом, что сфера науки также активно реформируется – Российская академия наук подверглась реорганизации, а университетам вменено в обязанность развивать науку в своих стенах); работодатели по-прежнему недовольны знаниями и умениями выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования и нередко вы- нуждены заниматься их «доводкой» до нужной кондиции на рабочем месте5.
Возникает естественный вопрос о причинах, в силу которых декларируемые цели многочисленных реформ в системе образования не приводят к обещанным позитивным эффектам, и о том, как всё это сказывается на образовательной составляющей качества народонаселения России. Таким образом, объектом исследования выступает образовательная составляющая качества народонаселения; предметом – трансформация российской системы образования. Цель работы: оценка влияния специфики трансформации системы образования на качество народонаселения России. Гипотеза состоит в том, что возобладавший в постсоветской России рыночный фундаментализм наряду со спецификой сложившейся экономической модели, в рамках которой преимущественное развитие получили не высокотехнологичные, а сырьевые и торгово-посреднические сектора экономики, снижает доступность и качество образования на всех ступенях соответствующей системы, что не может не оказывать негативный эффект на качество народонаселения.
Исследованию функций образования в современном обществе, его влиянию на социальную структуру и социальные изменения посвящены многочисленные работы известных российских [3, 9] и зарубежных обществоведов [18]. Во многих работах особый акцент делается на роли образования в развитии экономики, темпах и качестве экономического роста [16, 17, 18, 20, 21, 22], в становлении экономики знаний, в том числе, в современной России [5, 10]. Отдельного внимания заслуживают работы, посвященные эволюции образовательного законодательства в России [11] и анализу результатов проведённых реформ [2, 8, 12:168-177, 15].
Методология исследования
Ответы на сформулированные выше вопросы были получены в ходе многочисленных исследований, реализованных при участии автора, начиная с середины 2000-х годов и посвящённых, в частности, доступности6 и качеству высшего образования7 (2003–2005 гг.), анализу образова- тельного законодательства (2011 г.) [22: 128-164]; влиянию реформы бюджетных учреждений на доступность и качество школьного образования (2011 г. и 2012 г.)8 [6], процессам оптимизации в столичном образовании (2012–2013 гг.), влиянию на качество школьного образования реализации «майских указов» (2013 г.)9; оценке доступности и качества дошкольного10, школьного и профессионально-технического образования11 в типичном российском городе (2014 г.), проблемам подготовки кадров для приоритетных отраслей промышленности (2016–2018 г.)12, проблемам формирования кадрового потенциала научных учреждений (2015 г.)13 и условий работы научно-педагогических работников (2020 г.). В ходе перечисленных исследований проводился анализ соответствующей нормативно-правовой базы, статистических данных, а также результатов многочисленных социологических исследований, реализованных с помощью количественных (массовый анкетный опрос) и качественных (экспертные и фокус-груп-повые интервью, контент-анализ) методов.
Результаты исследования
С учётом того, что, хотя и не сразу (первые, но на тот момент неуспешные попытки предпринимались еще в 1997 году т.н. правительством «младореформаторов»), но образование удалось превратить в сферу извлечения коммерческой выгоды, попробуем посмотреть на происходящее с системой образования и той «продукцией», которую она «выпускает», используя взятую из сферы бизнеса метафору о «цепочке стоимости». Как и в промышленном производстве, где каждый следующий этап обработки, добавляя стоимость, увеличивает ценность конечной продукции, в системе образования каждая её ступень вносит свой вклад в рост образовательного потенциала и, таким образом, качества народонаселения. В советский период «массовое производство» образованных граждан начиналось в детских садах, в подготовительных группах которых неплохо готовили к школе. Последняя, в свою очередь, была нацелена на то, чтобы выучить каждого и, что важно, обеспечивала системность знаний и формирование понятийного мышления; кроме того, существовало немало школ с углубленным изучением отдельных дисциплин. Дополняла все это широкая сеть всевозможных учреждений дополнительного образования для детей, в том числе, популярного в те времена детского технического творчества. Что касается профессионального образования, прежде всего, техникумов и вузов, то здесь акцент делался, с одной стороны, на основательности теоретических знаний, а с другой – плотных контактах с промышленными предприятиями.
Как же эта условная «цепочка стоимости» работает сегодня, что происходит с доступностью и качеством образования на каждой его ступени?
Начнём с дошкольной ступени – чрезвычайно важной с учетом того, что именно в этом возрасте формируются такие значимые для будущего развития качества как внимание, память, мышление, воображение, речь и др. В первые десятилетия рыночных реформ, как и вся социальная сфера, эта ступень также, прежде всего, страдала от резкого снижения бюджетного финансирования и, как следствие, текучести кадров. Кроме того, из-за массовой передачи в начале рыночных реформ зданий детских садов под нужды бизнеса в 2000-е годы резко обострился дефицит соответствующих мест. К сожалению, методы решения этой проблемы трудно признать адекватными. Так, увеличение «пропускной способности» уже имеющихся дошкольных учреждений достигнуто за счет снижения требований к санитарно-гигиеническим и строительным нормам, что привело к росту числа воспитанников в группах и, соответственно, повышению нагрузки на воспитателей, численность которых тогда же «оптимизировали». Ставка на привлечение в эту сферу бизнеса решает проблему лишь отчасти, поскольку основной формой частных дошкольных учреждений, открытию которых содействует государство, являются т.н. центры времяпрепровождения. Такое название – неслучайно, поскольку эти учреждения выполняют лишь функцию присмотра за детьми, образовывать же, тем более бесплатно, они никого не обязаны. Более того: в учреждения лишь по присмотру и уходу за детьми массово преобразуются муниципальные детские сады, поэтому и в них даже самая элементарная подготовка к школе теперь – платная услуга. Переводу образовательной функции на платную основу содействовало, можно предположить, далеко не случайное исчезновение слова «занятия» применительно к дошкольной ступени в новом (2012 года) законе об образовании. Очевидно, что такое снижение доступности дошкольного именно образования не может не сказаться на результатах обучения детей из малообеспеченных семей в начальной школе. Усугублять проблемы обучения в начальной школе будет и ликвидация имевшихся ранее в детских садах ставок логопедов. Эта «услуга» (а, на самом деле, важная составляющая речевого и последующего развития детей) теперь также преимущественно платная и для многих семей недоступная – в силу незначительности числа бесплатных поликлинических логопедов, а также «оптимизации» сети специализированных детских садов для детей с подобными проблемами. Ко всему перечисленному следует добавить переход к инклюзивной форме обучения (послуживший предлогом для заметной «оптимизации» системы специализированного (коррекционного) образования – как дошкольного, так и школьного), в рамках которой дети, имеющие инвалидность, причем разной нозологии, находятся в одних группах / классах с детьми, не имеющими проблем со здоровьем. Очевидно, что инклюзия, реализуемая в переполненных группах / классах; без необходимого числа сопровождающих детей-инвалидов тьюторов; с воспитателями / учителями, не имеющими полноценной профессиональной подготовки для работы с детьми, имеющими ту или иную инвалидность, негативно влияет на качество образования как здоровых, так и не вполне здоровых детей и в будущем сказывается на возможностях реализации последних в сфере труда [7]. Попутно заметим, что прошедшая «оптимизация» сети специализированных образовательных учреждений с перекладыванием функции обучения таких детей на прошедших краткосрочные курсы воспитателей / учителей наносит удар по системе профессиональной подготовки педагогов-дефектологов, притом, что в советские времена достигнутые ею результаты в деле обучения инвалидов получили международное признание.
Сравним наши тенденции с тем, что происходит, например, в демонстрирующей в последние десятилетия серьезные успехи в сфере образования Финляндии. Там подготовка к школе (4 утренних часа для детей с 6-ти лет) является абсолютно бесплатной и по закону от 2015 года – обязательной для всех (притом, что и до принятия этого закона подготовку к школе не посещало совсем немного детей). Что же касается инклюзивного образования, то в таких группах на одного воспитателя приходится не более 4-х детей в возрасте до 3-х лет, и не более 7 детей старше 3-х лет14.
Поднимаемся на следующую – школьную – ступень. Здесь, помимо уже перечисленных выше общих с дошкольной ступенью проблем, связанных с неадекватно низким размером подушевого финансирования; «оптимизацией» сети общеобразовательных учреждений путем слияния школ, а также присоединения к ним дошкольных учреждений; сокращением педагогических штатов (с соответствующим ростом нагрузки на оставшихся педагогов) ради выполнения «майских указов» президента по повышению заработной платы учителей в отсутствие дополнительных ассигнований на эти цели, необходимо сказать о методическом обеспечении образовательного процесса и контроля знаний, которые в нынешних условиях напрямую касаются доступности образования. Так, опрошенные нами директора школ еще в 2011 году указывали на то, что школьная программа (бесплатный сегмент) меняется таким образом, что без дополнительных платных услуг учащиеся не смогут подготовиться к ЕГЭ на таком уровне, чтобы поступить в вуз. И действительно: по данным нашего исследования, в 2014 г., ещё до нового витка платности, в типичном российском городе (г. Таганрог) почти четверть семей, чьи дети учились в 9 и 11 классах платили в своей школе (!) за дополнительные занятия, готовящие к сдаче ГИА или ЕГЭ, и 55 % семей с этой же целью нанимали репетиторов не из своей школы; с целью же просто повышения текущей успеваемости каждая десятая семья платила за дополнительные занятия в своей школе, а каждая пятая – сторонним репетиторам. Помимо этого семьи несли бремя расходов на учебники, охрану, хозяйственные нужды, питание, дополнительные развивающие занятия [13: 145-188].
За прошедшие с тех пор годы ситуация только усугубилась. Так, согласно мнению родителей, выявленному в рамках очередного (2019 г.) выборочного наблюдения РОССТАТа, посвященного качеству и доступности услуг в отраслях социальной сферы15, их дети, прежде всего, нуждаются в дополнительных занятиях, призванных восполнить знания, которые в необходимом объеме или с необходимой глубиной теперь на обычных уроках не изучаются (таблица 1).
Как видим, в целом по России почти половина семей отметила необходимость дополнительных занятий по основным (!) предметам и еще почти треть – занятий, призванных помочь школьникам более успешно сдать ЕГЭ.
Обращает на себя внимание асимметрия в подаче информации государственным статистическим ведомством: при таком спросе на дополнительные занятия по основным предметам эта позиция почему-то «выпала» из списка вариантов ответа, представленных в таблице с информацией о том, какие именно занятия посещают школьники (таблица 2), притом, что важную информацию дает именно сравнение образовательных потребностей и возможностей их реализации.
Тем не менее, о степени доступности дополнительных занятий, восполняющих недодаваемые школой знания, можно судить по называемым семьями причинам непосещения их детьми-школьниками подобных занятий (таблица 3).
Как видим, одной из ключевых причин отказа от посещения школьниками дополнительных занятий семьи называют отсутствие возможности платить за эти услуги. Кстати, ещё в относительно благополучном с точки зрения динамики доходов населения в 2013 году порядка трети опрошенных нами жителей региональных столиц (Новосибирска и Твери) прогнозировали, что в случае существенного расширения платности образования (притом, что на тот момент они ещё не представляли, какие масштабы всё это примет) будут вынуждены отказаться от платных услуг: от 50 % до 67 % (в зависимости от города) – частично, и от 22 % до 35 % – полностью. С тех пор реальные располагаемые доходы населения стагнировали либо снижались. Доля же финансирования школьного образования непосредственно из карманов граждан, напротив, возрастала (таблица 4).
Кстати, статистика говорит и о снижении, по сравнению с советскими временами, вовлечённости школьников во внеучебные занятия, не связанные со школьными предметами. В советский период охват детей – жителей типичного российского города (г. Таганрог) различными видами внеучебных занятий в среднем составлял порядка 60 % (71 % детей в возрасте 11–14 лет и 55 %–57 % детей более младшего и более старшего возрастов). В то же время, исследование, проведенное нами в том же Таганроге в 2014 году, показало, что в бедных и малообеспеченных семьях порядка 40 % детей вообще нигде не занимаются.
Таблица 1
Виды дополнительных занятий, в которых, по мнению родителей, нуждаются дети-школьники (2018/2019 уч.г.), %
Table 1
Types of Additional Activities that, According to Parents, Schoolchildren Need (2018/2019 Academic Year), %
|
Виды занятий |
В целом по России |
Города |
Города-миллионники |
Сёла |
|
дополнительные занятия по основным предметам |
49,2 |
47,2 |
38,6 |
53,9 |
|
углублённое изучение отдельных предметов, учебно-исследовательская работа, подготовка к ЕГЭ |
28,7 |
28,7 |
27,0 |
28,8 |
|
обучение иностранному языку |
48,5 |
47,6 |
33,6 |
50,7 |
|
изучение и конструирование техники, информатика и программирование |
11,3 |
12,0 |
20,8 |
9,6 |
|
занятия творчеством (живопись, прикладное творчество, литература, кино-фото-видеосъемка) |
11,1 |
112,5 |
23,6 |
7,5 |
|
обучение музыке, пению, танцам, музыкальное и театральное искусство |
13,0 |
112,9 |
21,7 |
13,2 |
|
изучение природы, культуры, краеведение, туризм |
4,3 |
44,0 |
1,4 |
5,0 |
|
спортивные и оздоровительные занятия |
36,4 |
337,0 |
41,5 |
35,0 |
|
другие занятия |
1,3 |
00,9 |
0,8 |
2,3 |
Источник: Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2020 / под ред. д.э.н., проф. А.В.Ярашевой. М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2020. 123 с. ISBN 978-5-4465-2933-9
Таблица 2
Виды дополнительных занятий, посещённых детьми-школьниками в 2018/2019 учебном году, %
Types of Additional Activities Attended by Schoolchildren in the 2018/2019 Academic Year, %
Table 2
|
Виды занятий |
В целом по России |
Города |
Города-миллионники |
Сёла |
|
углублённое изучение отдельных предметов, учебно-исследовательская работа, подготовка к ЕГЭ |
25,1 |
26,9 |
35,9 |
18,9 |
|
обучение иностранному языку |
24,5 |
28,3 |
35,4 |
11,3 |
|
изучение и конструирование техники, информатика и программирование |
4,4 |
4,2 |
3,5 |
5,4 |
|
занятия творчеством (живопись, прикладное творчество, литература, кино-фото-видеосъёмка) |
15,7 |
15,6 |
17,1 |
16,0 |
|
обучение музыке, пению, танцам, музыкальное и театральное искусство |
30,1 |
29,8 |
28,1 |
31,1 |
|
изучение природы, культуры, краеведение, туризм |
2,0 |
1,6 |
1,2 |
3,4 |
|
спортивные и оздоровительные занятия |
52,4 |
50,7 |
49,4 |
58,2 |
|
другие занятия |
2,9 |
3,0 |
2,3 |
2,5 |
|
другие занятия |
1,3 |
00,9 |
0,8 |
2,3 |
Источник: Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2020 / под ред. д.э.н., проф. А.В. Ярашевой. М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2020. 123 с. ISBN 978-5-4465-2933-9
Таблица 3
Причины непосещения дополнительных занятий детьми-школьниками в 2018/2019 уч. году, %
Table 3
Reasons for Non-attendance of Additional Classes by Schoolchildren in the 2018/2019 Academic Year, %
|
Причины |
В целом по России |
Города |
Города-миллионники |
Сёла |
|
таких образовательных организаций рядом с местом проживания нет |
20,2 |
8,4 |
3,8 |
49,0 |
|
в таких образовательных организациях нет свободных мест |
3,2 |
3,8 |
4,2 |
1,8 |
|
нет возможности сопровождать ребёнка на занятия |
12,0 |
11,8 |
10,0 |
12,6 |
|
имеем ограниченные возможности из-за отсутствия денежных средств |
31,3 |
33,7 |
25,1 |
25,4 |
|
у ребёнка нет желания |
25,4 |
28,6 |
32,0 |
17,5 |
|
у ребёнка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся перегрузки |
9,7 |
11,6 |
10,0 |
4,8 |
|
по другим причинам |
20,2 |
22,2 |
21,4 |
15,4 |
|
затруднились с ответом |
2,4 |
3,3 |
13,5 |
0,1 |
Источник: Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2020 / под ред. д.э.н., проф. А.В. Ярашевой. М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2020. 123 с. ISBN 978-5-4465-2933-9
При этом детским техническим творчеством из всех социальных групп занимаются буквально единицы, что также явно отличает нынешние времена от советского периода [13: 145-188].
От проблем материального характера обратимся к вопросам содержания школьного образования. По словам педагогов и социальных психологов, изменения, происходящие в школьной
Таблица 4
Финансирование школ, в % к предыдущему году
Financing of Schools, in % of the Previous Year
Table 4
|
Источники финансирования |
2015 |
2016 |
2017 |
|
бюджетные средства |
102,0 |
116,9 |
95,1 |
|
средства организаций |
96,4 |
90,1 |
99,2 |
|
средства населения |
129,0 |
110,5 |
112,1 |
|
внебюджетные фонды |
97,8 |
287,1 |
94,9 |
|
иностранные источники |
40,4 |
186,1 |
109,0 |
Источник: Финансовое поведение населения. Мониторинг. 2020 / под ред. д.э.н., проф. А.В. Ярашевой. М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2020. 123 с. ISBN 978-5-4465-2933-9
программе, когда на смену «пирамиде знаний» приходит эклектичная смесь обрывочной информации, не позволяют сформировать у школьников стройную систему знаний, развить понятийное мышление, способность к настоящему творчеству, а не к поверхностной «креативности». Помимо проблем со школьной программой и школьными учебниками, издание которых давно превратилось в прибыльный бизнес, серьезный урон качеству образования населения наносит итоговый контроль знаний в форме ЕГЭ. Не затрагивая традиционных претензий к ЕГЭ как форме, стимулирующей т.н. натаскивание на правильные ответы (что, действительно, имеет место), обратим внимание на два других важных момента. Во-первых, ЕГЭ является лишь имитацией выпускных экзаменов за среднюю школу, поскольку обязательными для всех являются только 2 экзамена. Это разрушает традицию советской школы «учить всех» [4] и ведёт к заключению между педагогами и учениками непродуктивного консенсуса: первые могут, по сути, не учить тех, кому их предмет не нужен, а вторые – могут не учиться. Во-вторых, поскольку результаты, которые школьники показывают в рамках ЕГЭ, являются индикатором успешности работы системы образования, которая, как указывалось выше, подвергается перманентному, нередко вызывающему изначальный скепсис, а то и протесты педагогической и иной общественности, реформированию, у образовательного ведомства возникает желание закамуфлировать негативные последствия реформ. Отсюда – последовательная примитивизация содержания основной части контрольно-измерительных материалов, а также регулярное снижение минимального порога для успешного прохождения ЕГЭ, в том числе, с использованием «хитрых» шкал пересчёта уже по ходу проверки результатов ЕГЭ. К сожалению, такое лукавство может иметь лишь бюрократический успех, что же до реальных знаний, то преподаватели вузов отмечают неуклонное снижение качества математической подготовки абитуриентов: если в конце 1990-х математической культурой, необходимой для инженерного образования, обладали 90 % выпускников школ, то теперь – не более 20 %.
Теперь поднимемся на ступень системы образования, связанную с профессиональной подготовкой. В части среднего профессионального образования (по сути, включающего в себя и ступень начального профессионального образования) всё те же, связанные с реформами образования, проблемы – переход на подушевой принцип финансирования и неадекватный норматив подушевого финансирования, не позволяющий, без сокращения штатов, платить преподавателям приемлемую зарплату, приобретать и обновлять необходимое оборудование, закупать расходные материалы и т.д., усугубляются проблемами, связанными с весьма плачевным положением предприятий реального сектора экономики, для которых учреждения профессионально-технического образования (техникумы, колледжи и т.п.) и готовят кадры. Низкий уровень зарплат на предприятиях соответствующих отраслей приводит к тому, что в эти образовательные учреждения приходит учиться самый слабый и немотивированный контингент (даже в авиастроительные и т.п. техникумы). При этом, в силу необходимости выдерживать определённый норматив численности учащихся на одного преподавателя, отчисления нерадивых учащихся практически не происходит, что ведёт к дальнейшему снижению среднего уровня мотивации и, соответственно, знаний. Обусловленное финансовыми причинами сокращение штатов преподавателей снижает эффективность и столь важной для этой ступени образования производственной практики: у предприятий сегодня нет возможности выделять наставников из числа своих работников, а мастеров производственного обучения, которые могли бы взять эти функции на себя, на всех практикантов, разбросанных по нескольким предприятиям, не хватает. Важно и то, что подготовка кадров в этих образовательных учреждениях основывается на количественных показателях, которые им указывают соответствующие предприятия. Последние же нередко не в состоянии обозначить свои кадровые потребности, поскольку в силу специфики российской экономики имеют очень короткий горизонт планирования (согласно проведённому нами экспертному опросу, надежный горизонт планирования у промышленных предприятий даже в стратегически важных отраслях, например, в авиастроении, – всего один год). В результате, учреждения профессионально-технического образования не только не могут принять решения об открытии новых, в принципе, нужных направлений подготовки, но и вынуждены прекращать подготовку по невостребованным молодёжью, но нужным предприятиям специальностям. В частности, так предприятия текстильной промышленности оказались без новых поколений ткачей, прядильщиков и т.д. [1].
Что касается высшего образования, то в 1990-е – начале 2000-х связанные с ним проблемы, прежде всего, касались девальвации вузовского диплома, обусловленной массовой профанацией высшего образования на фоне его коммерциализации при отсутствии надлежащего контроля. Заметим, что помимо чисто корыстных интересов за этим стояли и соображения политической целесообразности: как непублично поясняли апологеты происходящих процессов, в условиях проблем с занятостью вузы берут на себя роль своего рода «социальных сейфов», задерживающих приток молодежи на не ждущий её рынок труда.
Сегодняшние проблемы высшей школы во многом порождены теми же причинами, что и на предшествующих ступенях образования.
Во-первых, это неадекватный уровень бюджетного финансирования, вынуждающий вузы излишне лояльно относиться к абитуриентам, поступающим на коммерческие отделения, а затем – к обучающимся на них студентам.
Во-вторых, массовое принятие лихорадящих высшую школу не обоснованных какими-либо адекватными причинами волюнтаристских решений об объединении вузов. Аргумент о том, что подобная перекройка позволит российским университетам встать в один ряд с лучшими зарубежными вузами, не выдерживает критики, поскольку никакой прямой зависимости между размером вуза и качеством подготовки не существует. Искомое качество обеспечивается совсем другими факторами, а именно: эффективностью работы системы образования на предшествующих вузу ступенях; устойчивым развитием отраслей, для которых вузы готовят кадры; масштабным бюджетным финансированием либо созданием условий для массового притока в высшую школу частных инвестиций.
В-третьих, массовое сокращение преподавателей ради достижения показателей, заложенных в «майские указы» президента, и, как следствие, увеличение числа студентов, приходящихся на одного преподавателя, что явно не способствует повышению качества образования. Не говоря уже о негативном влиянии на него резко возросшей нагрузки на профессорско-преподавательский состав: при перманентно растущей аудиторной нагрузке и вале бюрократической отчетности в рамках «эффективного контракта» от преподавателей требуется еще и участие в НИР и повышение своих наукометрических показателей. Однако никаких положительных эффектов при этом не достигается. Ни в науке: как показывают наши исследования, абсолютное большинство вузовских преподавателей связывают рост числа публикаций российских авторов в журналах, входящих в международные базы научного цитирования, не с расцветом российской науки и не с ростом мастерства написания научных статей, а с усилением требований вузов к числу публикаций и ростом объёма средств, которые педагоги платят из своего кармана за возможность опубликоваться. Ни в качестве преподавания: на реальное повышение квалификации (чтение научной литературы и т.п.) у вузовских преподавателей не остается ни времени, ни сил.
Наконец, необходимо сказать о таком механизме ограничения возможности получить полноценное высшее образование как резкое сокращение числа бюджетных мест в магистратуре.
Последней, третьей ступенью высшего образования с недавних пор является призванная готовить научно-педагогические кадры аспирантура. Провозглашалось, что ещё три года полноценной учебы должны улучшить ситуацию с качеством диссертационных исследований и увеличить число аспирантов, выходящих на защиту диссертации. Однако, как и в случае с выпускниками вузов, факторы, обуславливавшие действительно имевшие место проблемы с качеством подготовки кадров высшей квалификации, имеют совершенно иную природу, нежели это представляется реформаторам образования. И связаны, прежде всего, с невостребованно-стью в современной России научного труда, в силу чего те, кто, всё же, решится им заняться, обрекают себя, свои семьи на весьма скромный материальный достаток и достаточно невысокий социальный престиж (еще одно явное отличие от советских времён). Как и на предыдущих ступенях системы образования, в аспирантуре также царит коммерция (это и резкое сокращение бюджетных мест, и разного рода ухищрения, вынуждающие оплачивать прикрепление с целью защиты и т.п.), что пагубно сказывается и на возможностях кадрового обновления научных учреждений. При этом стипендиальное обеспечение аспирантов, по-прежнему, абсолютно неадекватно стоимости жизни, что вынуждает их сочетать обучение с работой (часто по совсем другой специальности) и нередко – не в пользу учёбы (необходимость в которой, во всяком случае, в таких объёмах, вызывает серьёзные сомнения16) и исследовательской деятельности.
Заключение
Как следует из анализа ситуации на всех ступенях российской системы образования (условной «цепочки стоимости»), доступность образования снижается, а его качество, если в отдельных случаях и поддерживается, то, скорее, вопреки, а не благодаря сложившимся условиям. В любом случае, на качестве народонаселения России это сказывается отрицательно. При сохранении наблюдаемых тенденций поддерживать необходимый для устойчивого экономического развития и национальной безопасности научно-технический потенциал будет все сложнее; кроме того, будет нарастать связанная с ограничениями в образовании социальная дифференциация.
Преодоление описанных негативных тенденций требует, во-первых, принципиального пересмотра отношения к образованию – вос- приятия его не как «услуги» (как того требует неолиберальная идеология и правила ВТО), а как института развития. Такое понимание роли и функций системы образования должно привести к радикальному изменению политики государства. В частности, к пониманию необходимости приведения доли расходов на образование в соответствие с показателями развитых и стремительно развивающихся стран (сегодня, как и все годы рыночных реформ, Россия направляет на эти цели существенно меньше ассигнований, чем в среднем страны ОЭСР и страны «Большой двадцатки»17); вернуть статье расходов на образование статус защищённой (не подлежащей секвестированию) статьи бюджета; отказаться от принципа подушевого финансирования либо использовать его более гибко, учитывая все особенности ситуации, в которой могут находиться образовательные организации, и, разумеется, приведя его норматив к размеру, адекватному потребностям образовательных учреждений. Кроме того, в рамках выполнения посвящённых работникам образования «майских указов» необходимо приводить в соответствие с указанной в них пропорцией по отношению к средней заработной плате по региону не заработную плату, в которую включены и стимулирующие надбавки, а базовую ставку (например, для школьных учителей – 18 часов). Необходима также ревизия образовательного законодательства и иных нормативно-правовых актов (СанПинов и т.д.) с целью устранения норм, стимулирующих коммерческие отношения и схемы и, тем самым, ведущих к снижению доступности образования. Во-вторых, необходимы не декларативные, а реальные промышленная политика и стратегическое планирование, позволяющие предприятиям реального сектора экономики строить долгосрочные планы, в том числе, в отношении своих кадровых потребностей. Реализация этих мер могла бы существенно изменить ситуацию в системе образования и значительно улучшить образовательную составляющую качества народонаселения России.
Список литературы Рыночная трансформация образования и качество народонаселения
- Александрова О.А., Ненахова Ю.С., Ярашева А.В. Возможности стратегического планирования трудового потенциала в легкой, пищевой промышленности и АПК // Народонаселение. 2017. №1. С. 35-45.
- Болдышева Н.О. К вопросу о стимулировании труда учителей в условиях реформы образования в России // Экономика и управление: проблемы и решения. 2017. Т.2. №1. С. 95-99.
- Ильинский И.М. Образовательная революция. М.: Издательство Московской гуманитарно-социальной академии, 2002. 594 с. ISBN 5-85085-757-5
- Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От великой победы до краха. Харьков, Издательство: Книжный клуб, 2007. ISBN: 978-5-9910-0182-3
- Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России // Вестник РАН. 2003. Т.73. №5. С. 450-456.
- Народонаселение современной России: воспроизводство и развитие / под ред. проф. Локосова В.В. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015. 411 с. ISBN 978-5-9906832-3-5
- Ненахова Ю.С. Трудовой потенциал инвалидов: проблемы реализации // Народонаселение. 2018. Т.21. №3. С.96-108.
- Общее образование: мониторинг эффективности // под науч. ред. Е.М. Авраамовой, Г.С.Токаревой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 470 с. ISBN 978-5-7749-0980-3.
- Овсянников А.А. Система образования в России и образование России // Мир России. 1999. N3. С. 73-132.
- Смолин О.Н. Экономический рост и образовательная политика: технологии и идеология // Экономическое возрождение России. 2019. №1 (59). С. 29-40.
- Смолин О.Н. Российское образовательное законодательство. Философско-методологические и социально-правовые проблемы. Ч.1 // Философские науки. 2016. № 1. С. 9-20.
- Соболева И.В. Справедливость и эффективность в сфере образования: есть ли дилемма? // Альтернативы коммерциализации и бюрократизации образования, науки и культуры/ под ред. Н.Г. Яковлевой. М.: Культурная революция. 422 с.
- Таганрогские исследования: полвека спустя: Коллективная монография / Под науч. ред. чл. корр. РАН, проф. Н.М. Ри-машевской и проф. В.В. Локосова. М.: Экономическое образование, 2017. 288 с. ISBN: 978-5-7425-0185-5.
- Эволюция нормативной базы социальных реформ / науч. ред. - Авраамова Е. М. М.: ИСЭПН РАН, 2011. 244 с. ISBN 978-5-903198-24-5.
- Яковлева Н.Г. Некоторые вопросы трансформации сферы образования и рынка труда, и их государственного регулирования // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Том 16. №2. С. 76-82. DOI: 10.19181/lsprr/2020.16.2.7
- Breton Th. The Role of Education in Economic Growth: Theory, History, and Current Returns. Educational Research. 2012. Vol. 55 No. 2. November. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2184492 (дата обращения: 24.02.2021) DOI: 10.2139/ssrn.2184492
- Breton Th. Schooling and national income: How large are the externalities? Education Economics, 2010. Vol. 18. No.1. March. P. 67-92. DOI: 10.1080/09645290801939645
- Glaeser E., Porta R., Lopez-de-Silanec F., Shleifer A. Do Institutions Cause Growth? Journal of Economic Growth, 2004, 9(3) July. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556370 (дата обращения: 17.02.2021) DOI: 10.2139/ssrn.556370
- Ozturk I. The Role of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective. Journal of Rural Development and Administration, Volume XXXIII, No. 1, Winter 2001, pp. 39-47. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1137541 (дата обращения: 24.02.2021)
- Parsons T. The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society. Exploring Education: An Introduction to the Foundations of Education. By Alan R. Sadovnik, Peter W. Cookson, Susan F. Semel, Ryan W. Coughlan. N.Y. Routledge 2017. 606 p. DOI: 10.4324/9781315408545
- Soto M., Cohen D. Growth and Human Capital: Good Data, Good Results, Journal of Economic Growth, 2007 February, 12(1):5 1-76. DOI: 10.1007/s10887-007-9011-5
- Tan J.-P., Lee K.H., Flinn R., Roseth V., Nam Y.-J.J. 2016. Workforce Development in Emerging Economies: Comparative Perspectives on Institutions, Praxis, and Policies. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0850-0