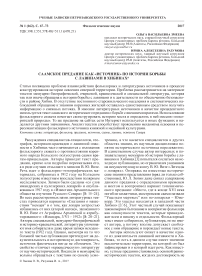Саамское предание как "источник" по истории борьбы с лавинами в хибинах
Автор: Змеева Ольга Васильевна, Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (162), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме взаимодействия фольклорных и литературных источников в процессе конструирования истории освоения северной территории. Проблема рассматривается на материале текстов мемуарно-биографической, очерковой, краеведческой и специальной литературы, которая так или иначе обращена к истории борьбы с лавинами и к деятельности по обеспечению безопасности в районе Хибин. В отсутствие постоянного старожильческого населения и систематических наблюдений обращение к знаниям коренных жителей оставалось единственным средством получить информацию о снежных потоках. В массиве литературных источников в качестве прецедентного используется текст саамского исторического предания о борьбе с внешними врагами. Использование фольклорного сюжета помогает сконструировать историю места и определить в ней миссию «покорителей природы». То же предание на сайтах сети Интернет используется в иных функциях и наделяется другими значениями. Анализ текстов способствует прояснению механизма освоения и пересемантизации фольклорного источника книжной и медийной культурами.
Литература, фольклор, предание, источник, саамы, лавины, освоение севера
Короткий адрес: https://sciup.org/14751148
IDR: 14751148 | УДК: 398.1:551.578.48(=511.1)(470.21)
Текст научной статьи Саамское предание как "источник" по истории борьбы с лавинами в хибинах
Рассуждения специалистов-гляциологов, географов, историков-краеведов о лавинной опасности в Хибинах часто начинаются с изложения фольклорного сюжета о противостоянии коренного народа Кольского полуострова саами врагам-пришельцам. Авторы приводят текст предания, кратко или подробно пересказывая его, а в ряде случаев отсылают к записям В. Ю. Визе. Речь идет о фольклорно-этнографических материалах, собранных в 1912 году на Кольском полуострове известным впоследствии полярным исследователем. Записи были сделаны «со слов имандрских и пулозерских лопарей» и опубликованы в 1917 году в «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера» [8: 15–24]. Во всех рассмотренных нами литературных текстах приводятся варианты «Сказания о нашествии “немцев” и о том, как лопари хитростью избавились от них (второй нагон)», записанного В. Ю. Визе от Аграфены Архиповой и атрибутированного: «Имандра, 3/VI – 1912» [8: 20–21]. Авторы специальной, мемуарно-биографической и историко-краеведческой, литературы упоминают имя собирателя и даже время записи исходного текста (1912 год). Однако, несмотря на то что большей частью публикации претендуют на документальность и историческую достоверность, источник фактически нигде не обозначен. Это свойство отличает «краеведческую» литературу от научно-исторической. Писатели и мемуаристы вольны обращаться с текстами по своему усмо-
трению, а что касается специалистов в других областях знания, их научным дисциплинам понятие исторического источника нерелевантно. В единственном случае автор интересных и познавательных мемуаров об истории борьбы с лавинами в Хибинах [3] попытался сослаться на исходную публикацию, но ограничился указанием на несуществующую книгу В. Ю. Визе «Легенды о лопарях». Опираясь на известные исторические знания и представления (вряд ли только собственные), Ю. Л. Зюзин даже связал содержание данного предания с определенными временем и местом и воспроизвел вариант топонимического предания: «Место, где в конце XVI века погибли захватчики, екостровские саами назвали “Ущельем мертвых” или по-лопарски – Юме-корр. Это ущелье находится в западной части Хибин» [3: 6]. Этот частный случай показывает закономерное бытование и восприятие фольклора как совокупности текстов, которые принадлежат всем и никому в отдельности. Фольклорный текст имеет собирателя, публикатора, но не имеет автора, а потому вполне допускает свободное с ним обращение и порождает новые тексты.
Авторы используют сюжет в качестве одного из доказательств лавинной активности в Хибинах, то есть в данном случае имеет значение исключительно территория, на которой он был зафиксирован и о которой идет речь. Как известно, устные предания становились основой раннеисторических текстов, когда их достоверность не подвергалась сомнению носителями культуры, в частности летописцами. Маловероятно, чтобы современные литераторы не видели различий между документальным и фольклорным источником. Но, во-первых, будучи когда-то и кем-то опубликованным, текст уже приобретает свойства документа, во-вторых, в целостном повествовании он используется не только в качестве исторического доказательства. «Сказание о нашествии “немцев”» прозаик Г. А. Горышин называет «единственным письменным “документом” о лавинах» [2: 162]. Слово «документ» он естественным образом заключает в кавычки. Такое же отношение к фольклорному источнику подтверждают устные высказывания т. Семерова, одного из участников «Заседания комиссии по принятию мер против снежных обвалов», которое проходило 17 декабря 1935 года: «Я интересовался снежными обвалами в Хибинах, потому что наблюдал их. После обвала, который произо- шел с Айкуайвентчорра и который поразил меня, я стал искать литературу, но не нашел ничего, кроме записи лопарских преданий, сделанных Визе в 1912 году»1.
Признавая и принимая фольклорную природу исходного рассказа, авторы называют его «преданием», «легендой», «сказанием», «сказкой». Сам факт, что это фольклорное произведение, и тем более его жанр большого значения не имеют. В конце концов, обладающий интересным сюжетом (без чего просто не сохранился бы) фольклорный рассказ украшает и разнообразит любое историческое повествование, географическое описание, биографию или документальный очерк, то есть он служит литературным целям. Разумеется, эти цели важнее для журналистов и краеведов, чем для физиков снега и технических специалистов.
Приведем исходный текст предания в записи Визе и два его варианта:
«Сказание о нашествии “немцев” и о том, как лопари хитростью избавились от них (второй нагон)» [8: 20–21]
«Шли немцы нагоном грабить и убивать лопарей. Лопари убежали в Хибины3 (Umptek), на очень крутую пахту около Yimjegorr'а4.
Когда лопари пустились в бегство, оставалась в погосте лишь одна старушонка, которая и стала просить лопарей: “Не оставьте меня, возьмите с собой!” Лопари ее взяли, не бросили. Ничего старушка не захватила с собой, только осоку5, скрученную в жгуты. “Куда осоку то берешь?” спросили ее лопари, старуха же только ответила: “пригодится”.
На крутом склоне той пахты, куда бежали лопари, снегу было очень много, на самом же верху пахты он сильно нависал. Зная опасность, с какой связан подъем по этой крутизне, лопари взобрались на пахту не прямым, а обходным путем. Когда они добрались до вершины пахты, старуха начала бросать вниз на крутой покрытый снегом склон осоку.
Вскоре стали показываться и немцы. Подойдя к пахте, они увидели наверху народ, на склоне же заметили разбросанную осоку и, решив, что лопари поднялись с этой стороны, начали вставать6.
Труден был подъем по оледенелому твердому снегу, стал топором ступеньки в снегу рубить. Тут внезапно снег обвалился и всех засыпал, похоронил.
“Мой свекор на том месте нашел немецкую пуговицу”, закончила рас-сказчица»7.
Саамское «Сказание о нашествии немцев»2
«Шли немцы грабить и убивать лопарей. Лопари убежали в Хибины, на очень крутую пахту8 Юлевчорра9.
Когда лопари пустились в бегство, оставалась в погосте лишь одна старушка, которая и стала просить лопарей: “Не оставьте меня, возьмите с собой!” Лопари ее взяли, не бросили. Ничего старушка не захватила с собой, только осоку, скрученную в жгуты. “Куда осоку-то берешь?” – спросили ее лопари. Старушка же только ответила: “Пригодится”.
На крутом склоне той пахты, куда бежали лопари, снегу было очень много, на самом же верху пахты он сильно нависал. Зная опасность, с какой связан подъем на этой крутизне, лопари взобрались на пахту не прямым, а обходным путем. Когда они добрались до вершины пахты, старушка начала бросать вниз на крутой, покрытый снегом склон осоку.
Вскоре стали показываться и немцы. Подойдя к пахте, они увидели наверху народ, на склоне же заметили разбросанную осоку и, решив, что лопари подымались с этой стороны, начали вставать10.
Труден был подъем по оледенелому твердому снегу, стали топором ступеньки в снегу рубить. Тут внезапно снег обвалился и всех засыпал, похоронил».
Саамское «Сказание о нашествии немцев» [2: 162–163]
«…Шли немцы грабить и убивать лопарей. Лопари убежали в Хибины на очень крутую пахту11 Юловчорра.
Когда лопари пустились в бегство, оставалась в погосте лишь одна старушка, которая и стала просить лопарей: “Не оставьте меня, возьмите с собой”. Лопари ее взяли, не бросили. Ничего старушка не захватила с собой, только осоку, скрученную в жгуты. “Куда осоку-то берешь?” – спросили ее лопари. Старушка же только ответила: “Пригодится”.
На крутом склоне, куда бежали лопари, снегу было очень много, на самом же верху пахты он сильно нависал. Идти прямо опасно было, и лопари забрались на пахту обходным путем. Когда они взошли на вершину, старушка начала бросать вниз на крутой, покрытый снегом склон, осоку.
Вскоре стали показываться и немцы. Подойдя к пахте, они увидели наверху народ, на склоне же заметили разбросанную осоку.
Приняв ее за следы поднявшихся лопарей, начали немцы рубить в оледенелом лесу ступеньки и лезть по пахте наверх. Тут снег обвалился и всех засыпал, похоронил».
Фактически это три литературных текста. Собиратель В. Ю. Визе пересказал предание в соответствии с литературными нормами русского языка, взяв в кавычки только последнюю фразу исполнительницы. Это не точная передача фольклорного произведения. Научные нормы запи- си и публикации устной речи к началу ХХ века были уже выработаны фольклористами, но по разным причинам они далеко не всегда соблюдались. Собиратель уточнил топонимы, передав их латиницей, указал в примечаниях местонахождение объектов, пояснил один севернорусский диалектизм, а также сделал одно примечание этнографического характера, касающееся саамской обуви и объясняющее важную для сюжета реалию. Заметим, что диалектное «нагон» (здесь: в значении «набег» или «натиск», «нагоном нагнать – пригнать кого-л. в большом количестве» [7: 423]), отсутствующее в словаре В. И. Даля, собиратель не пояснил.
Текст Визе спустя полвека дословно воспроизвел И. К. Зеленой – первый руководитель противолавинной службы в Хибинах. Предание включено в его неопубликованную рукопись, в которой обобщен опыт начального этапа борьбы с лавинами (см. примеч. 2). В этом варианте предания есть дополнительное пояснение к диалектному «пахта», исключены латинские обозначения топонимов, которые теперь передаются по-русски, вместо названия ущелья (Yimjegorr) приводится название горы (Юлевчорр). Пока трудно сказать, использовал автор публикацию Визе, или источником для него служил какой-то другой текст. Это касается и остальных вариантов, цепочку которых можно восстановить только на основе выявления всех републикаций и печатных пересказов сюжета. В варианте писателя Г. А. Горышина текст подвергся некоторому литературному вмешательству, стиль в нескольких местах стал легче для восприятия. Обратим внимание на то, что в вариантах Зеленого и Го-рышина из оригинала убрана заключительная фраза о «немецкой пуговице». Она содержала мотив, важный для фольклорного сюжета, но не имеющий значения с точки зрения той функции, которую предание выполняет в истории борьбы с лавинами.
Главное, что сделало рассказ, записанный в начале ХХ века, прецедентным текстом, – это, в первую очередь, смысл, который был нужен пишущим, но совершенно отсутствовал в фольклорном источнике: утверждение лавиноопасно-сти Хибинских гор как природного объекта. Все рассмотренные нами сочинения (кроме самой публикации Визе) имеют определенную прагматику и, соответственно, идею. Они призваны доказать жизненную необходимость изучения движения снега в Хибинах и значение противо-лавинной деятельности. История этой деятельности предстает как преодоление людьми, осваивающими Север, разного рода препятствий, что и составляет внутренний стержень нарративов, какие бы конкретные задачи они ни выполняли и в рамках каких жанров, уже литературных, ни были написаны. Одновременно утверждаются социальные ценности: прославляется самоотверженный труд во имя безопасности человека и производства, а также его результаты. В конце концов, история должна иметь «предысторию», и она находится в квазиисторическом прошлом.
Обращение специалистов по физике снега, мемуаристов, биографов, очеркистов, которые совместно создают историю борьбы с лавинами в Хибинах, к единственному имеющемуся преданию вызвано несколькими обстоятельствами. В отсутствие в Хибинах постоянного старожильческого населения и, как следствие, систематических наблюдений и достоверных данных о лавинной опасности обращение к знаниям коренных жителей оставалось единственным средством получить хоть какую-то информацию о снежных потоках. «Что и говорить, небогатый арсенал знаний имелся в распоряжении хибинских новоселов для защиты от стихии», – пишет В. М. Смирнов, мемуарист и биограф В. Н. Аккуратова – одного из руководителей противолавинной службы [13: 7]. Специалисты вынуждены были ориентироваться на сведения, полученные от аборигенного населения. Будучи во власти устойчивых представлений о том, что фольклор аккумулирует «знания и опыт народа», они интерпретировали и использовали устный источник. Утверждение «сказка – ложь, да в ней намек» позволяет истолковывать себя не только в этическом или «философском», но и в натуралистическом смысле. Ссылаясь все на то же саамское предание, В. М. Смирнов подчеркивает: «Сказка – сказкой, но верно в ней подмечена и сокрушительная сила лавин, и одна из причин их образования – обрушение карнизов на заснеженные склоны» [13: 6].
Использование фольклорного сюжета помогает сконструировать историю места и определить в ней свою миссию. Если для людей, пришедших осваивать Север, сход лавины является событием, происшествием, то для местных жителей он представляется одним из условий существования, к которому аборигены вполне адаптировались. Один из смыслов «Сказания…» для автора книги о снеге и снежных обвалах заключается в том, что саамы знакомы со снежной опасностью с «незапамятных времен» [1: 49]. В повествованиях путешественников XIX – начала XX века факты происшествий, в том числе связанных со снежными обрушениями, практически отсутствовали. Хибины описывались как географический объект, жизнь саамов – в виде совокупности рутинных практик. Предание о нашествии немцев выполнило функции предыстории не только цивилизации, но и движения снега в Хибинских горах как части глобального процесса. Оно становится свидетельством постоянства, «привычности» лавинных обрушений в прошлом и одновременно знаком «гибельности» места для пребывания людей. Именно такое прошлое и должно быть преодолено усилиями «нового человека».
Снежные обвалы служат предостережением для «покорителей гор», которые убеждены в том, что коренные жители именно по этой причине не использовали Хибинский горный массив для постоянного места пребывания. В описании, выполненном в «эпическом» стиле, создается красочный романтизированный образ саама: «Бежит по тундре упряжка, быстрее ветра несет ездока, а он подгоняет оленей, поглядывая на горы. Умен житель северных снегов. Он умеет задобрить злых духов Хибин приятными им словами, намекнет о своей храбрости, пригрозит осторожно царем-оленем, который принесет на рогах солнце и оно лишит духов силы, растопив весной снег. Мудр житель северных снегов. Он мало верит в свои заклинания, саами больше надеется на стремительный бег сытых оленей. Сколько раз он видел в ущельях Хибин кладбища диких животных, заживо погребенных под снегом. Видно, неопытный вожак увел стадо навстречу гибели. Опасное место надолго запомнит саами и никогда больше не вернется туда» [1: 49].
Главным стимулом для обращения авторов, которые пишут историю освоения Хибинских гор, лавинных катастроф, анализируют свойства снега и т. д., к конкретному преданию послужило наличие в тексте, во-первых, указаний на географические объекты, во-вторых, мотива гибели людей как последствия снежного обрушения. При этом слова «обвал», «лавина» в устном предании, естественно, не употреблялись, не использовал их и собиратель Визе. В исходном тексте снег «сильно нависал» на верху горного склона. Для установления соответствия авторы прибегли к внешним аналогиям: способ обрушения снега с горы и коллективная смерть врагов в предании очень похожи на сход лавины и ее гибельные последствия в реальности. Персонажи предания применили свое, неведомое врагам-чужеземцам знание для того, чтобы погубить пришельцев. Структурно-семантическая основа сюжета сохраняется во всех его литературных вариантах. Рассказ драматизирует историческое прошлое места, но в первую очередь он служит совсем иным целям. Снег в предании является средством спасения людей, он на стороне «своих». Новые «пришельцы» под снегами погибать не должны, и они сделают для этого все возможное. Их персонифицированным врагом являются не люди, а горы и порождаемое ими явление – лавины. В пересказах начинает использоваться именно это понятие. Один из самых кратких и четких пересказов принадлежит доктору наук, специалисту в области гляциологии и лавиноведения К. С. Лосеву и включен в его научную монографию: «Здесь еще в 1912 году со слов местных жителей саами было записано предание о том, как чужеземцы напали на них, и они были вынуждены спрятаться на вершине горы, куда поднялись по безопасному склону. Враги же стали подниматься по лавинному склону, на который мудрая старуха-саами набросала сухие стебли осоки, чтобы создать впечатление, что именно здесь саами поднялись на гору. Снег обвалился, и враги погибли в лавине» [6: 9].
По существу в приведенном рассказе изложена схема сюжета предания, перечислены основные его мотивы: нападение врагов, попытка избавления от них бегством, избавление от врагов хитростью, уничтожение врагов, – в полном соответствии с международной фольклорной традицией и классификацией мотивов преданий о борьбе с внешними врагами. Попытка систематизации мотивов таких преданий (среди прочих) в севернорусском фольклоре была предпринята Н. А. Криничной [4: 288–291]. Разновидности сюжета и отдельные варианты создаются за счет конкретизации мотивов и их комбинаторики: «каждое воспроизведение, как правило, включает элементы, которые отсутствовали в непосредственном источнике, но принадлежат арсеналу жанра (т. е. подмножеству текстов данного типа) или целой традиции» [10: 7]. Реализуя в конкретных текстах прототипические образцы, предание «вносит архаические схемы и мифологизирующие “коррективы” <…> в представления о мирской истории» [5].
Мотивы рассматриваемого саамского предания, растиражированного к настоящему времени в литературных и медийных вариантах, находят аналогии в восточнославянском, прибалтийско-финском, скандинавском фольклоре. Данный сюжет можно соотнести не только с преданиями о борьбе с внешними врагами, но и с преданиями о чуди – мифологическом аборигенном народе, который некогда жил на территориях расселения русского и ряда финно-угорских народов. Цикл преданий о чуди изучен достаточно глубоко, в том числе на севернорусском и норвежском материале [15], [16]. Группа мотивов об исчезновении «чужеродного» населения разнообразна, в том числе включает мотивы самопогребения путем обрушения на себя строения или «ухода в землю» [14].
При всем том мотив гибели антагонистов или чуждых аборигенов собственно под снежным обвалом относится к редким. По крайней мере, в имеющихся публикациях полных соответствий нет. Зато есть варианты, в которых враги погибают под обрушившейся скалой, и, очевидно, эту форму мотива следует считать наиболее близкой варианту Визе. Среди опубликованных текстов преданий о борьбе с иноплеменниками встретились типологически сходные рассказы о «Немецкой щелье» (скале), записанные в 1960-е годы в деревне Вирма Беломорского района Карелии [4: 156–157]. В обоих вариантах бог «свалил скалу» на иноземных захватчиков, в одном случае они именуются шведами, в другом – немцами. С нашим преданием их сближает и мотив «следа», оставленного неприятелем. Если в тексте Визе знаком присутствия немцев оказывается пуговица, якобы найденная родственником рассказчицы, то в русских вариантах из Карелии – оставленный «сапог», на который указывает «дыра» под горой и которым пугают детей.
Как правило, скала или камни с горы обваливаются на врагов в результате действия магической силы, спасительного «чуда» или хитрости воинов, которые заводят противника под камнепад.
Распространенной воинской хитростью является случай «мнимого проводника». В русской истории и культуре его символизирует фигура Ивана Сусанина. Собственно этот мотив и является сюжетообразующим в саамском «Сказании…». Среди текстов Интернета встретился такой вариант, размещенный одним из пользователей сети в 2010 году: «Юмъекорр – “Ущелье мертвых”. И связана с ним легенда. Что де во времена гостомысловы (или иные столь же древние времена) шло шведское войско брать дань с саамов. Но саамы дань платить не хотели. Откочевали они подальше от своих обычных стойбищ. И вызывался меж них саамский Иван Сусанин, и согласился он вести шведов якобы к саамскому лагерю как раз через этот перевал. А его сородичи уже ждали наверху, и обрушили на незадачливые шведские головы обвал из каменных глыб (все, кто был в Хибинах, поймут, насколько это серьезно). И стал перевал братской шведской могилой, и назван поэтому “Юмъе-корром”, Ущельем Мертвых. А может, были те иноземцы и не шведы (а к примеру норвежцы или финны)»12. Текст заслуживает подробного комментария. Пока ограничимся тем, что отметим не только его соответствие кросскультурной фольклорной модели и русскому историческому мифу, но и отсутствие в нем какого-либо упоминания о «лавине», несмотря на то, что воспроизводится тот же сюжет, что у авторов, которые пишут об истории лавин, и связанный с тем же природным объектом. В достоверности сведений о «противнике» саамов пишущий сомневается, не будучи уверенным в своих знаниях, но в любом случае этноним «немцы», уместный для периода, когда так именовали всех иноземцев, уже исключен.
Приведенный текст обнаруживает сущностную черту преданий, которая не выражена ни в варианте Визе, ни в поздних литературных компиляциях и перелицовках, но свойственна устной традиции. Речь об этиологической функции фольклорных исторических рассказов, которые в живом бытовании чаще не просто ассоциированы с местом, но объясняют его название, то есть являются топонимическими. В силу этого их можно считать просто предназначенными для экскурсионных, презентационных и туристических программ и сайтов. Текстуально самый близкий «Сказанию…» вариант размещен на сайте, который презентирует Кольский полуостров как «реальность» и фольклор (в виде «легенд», «сказок», «историй»). В этом варианте, в отличие от многих других, есть мотив оставленных захватчиками следов пребывания: «Потом на том склоне лопари оружие нашли, да монеты, которые от врагов остались»13.
Естественно, что предание о саами, погубивших иноземного неприятеля, часто фигурирует на сетевых сайтах с целью представительства географического объекта, причем как с упоминанием о «лавине», так и без него: «Ущелье Юмъ-екорр, или, Яммейкорр, от саамского “яммей” – мертвый (Ущелье Мертвых; название связано с преданием о гибели шведов, напавших на саами в конце XVI века), разделяет массивы Хибин-пахкчорр и Юмъечорр»14; «Перевал Юмъекорр (“Ущелье мёртвых”, от “яммей” – “мёртвый”). Старое предание гласит, что в конце XVI века на Екостровский погост напали “шветы”. Часть неприятелей саамы заманили в это ущелье и убили. Остальные погибли под лавиной, сошедшей с крутого склона горы»15 (ср. вариант Ю. Л. Зюзина [3: 6]). К тому же природному объекту в силу его названия привязывается совсем другой сюжет о гибели врагов – известное этиологическое предание о происхождении минерала эвдиалита, именуемого «лопарской кровью», которое воспроизводится, как правило, в версии А. Е. Ферсмана [12: 68]. Так и в варианте, найденном в одном из туристических дневников в Интернете: «Юмъекорр – в переводе с саами (лапландского) это значит – ущелье мертвых. <…> Согласно существующей легенде, в далекие времена воинственные шведы напали на страну саамов, увели оленей, забрали пастбища, убили людей. Лопари смогли прогнать завоевателей. Последний бой состоялся в мрачном ущелье. Тогда погибло много лопарей, и их кровь навечно застыла на камнях алыми каплями. Уникальные минералы с алыми вкраплениями, называемые эвдилитами (орфография оригинала. – О. З., И. Р.), встречаются только в Хибинах»16. Необходимость объяснить появление «крови» на камне исключает иной способ победы над врагом, кроме как открытый бой.
Столь же редким, как мотив погребения противника под снегом, является в «Сказании…» мотив ложного следа, по которому направляют врагов. Обыкновение класть в обувь высушенную осоку, отмеченное собирателем в примечании и проигнорированное остальными авторами, относится к этнографической реальности саами. Такая «частность» легко поддается варьированию, но между тем она запоминается именно в силу своей экзотичности. Эта деталь отсылает еще к одному мотиву военной хитрости: имитации своего присутствия (здесь – направления пути) с провокационной целью. Большей частью этот способ используется, когда нужно имитировать многочисленность или наличие войска. В целом способы, которыми хитрые воины заставляют антагониста вступить на гибельный путь, различаются в зависимости от типа гибели. Например, одним из распространенных является мотив подрубленного льда, когда противника заманивают и топят в реке, озере или болоте. Он типичен для преданий о чуди и не только.
Таким образом, можно проследить, как предание, глубоко укорененное в фольклорной традиции, «присваивается» книжной и медийной культурами. Процесс этот сложен. С одной стороны, при включении фольклорного текста в поле литературы происходит его формальная стабилизация, которая «приводит к увеличению количества значений подобного текста, к множественности конкурирующих во времени истолкований», тогда как «многовариантное устное произведение, как правило, предполагает одно значение и не требует особых усилий истолкователя для его понимания» [11]. В зависимости от целей, установок, знаний интерпретатора, фольклорный текст, будучи по природе «знаковым», может означать разные вещи, указывать на разные исторические, природные, социальные реалии – по выбору того, кто его использует. В свою очередь, восприятие текста как «фольклорного» способствует свободному с ним обращению и смыслопорождению. В особенности это касается бытования в сетевых коммуникациях. Возможности выбора ограничены исключительно логикой повествовательных структур, которые и «удерживают» реальность в фольклоре: «Только через посредство этих структур общественному сознанию могут быть предоставлены матрицы, которые способны обеспечить сохранение и передачу информации, потребной для разных аспектов жизнедеятельности человеческого сообщества» [9]. Наполнение их содержанием и наделение смыслами детерминировано личностно и институционально. Так предание о победе саамов над иноземными захватчиками становится свидетельством исторической значимости работы противолавинной службы в Хибинах.
* Статья выполнена при поддержке грантов РГНФ по проектам № 15-11-51004 “а(р)” «Локализация саамских преданий на территории Кольского полуострова» и № 16-11-51002 “а(р)” «Осмысление опыта советской урбанизации арктической территории в мемуарно-биографических источниках: социально-антропологический ракурс».
THE SAMI SAGA AS A “SOURCE” ON THE HISTORY
OF AVALANCHE DEFENSE IN KHIBINY
P. 160–198.
Список литературы Саамское предание как "источник" по истории борьбы с лавинами в хибинах
- Материалы из фондов Историко-краеведческого музея г. Кировска. КП-243 ОДФ-243. Заседание комиссии по принятию мер против снежных обвалов. Машинопись (копия). 1935. С. 13.
- Материалы из фондов историко-краеведческого музея г. Кировска. КП-2925 ОДФ-1614. Зеленой И. К. Опыт первых лет борьбы с лавинами в Хибинах. Машинопись. 1961. Л. 4-5.
- Хибины. «Ущелье мертвых» . Режим доступа: http://arkthur-kl.livejoumal.com/781345.html (дата обращения 12.09.2016).
- Как лопари хитростью от врагов избавились//Кольский полуостров -Реальность. Легенды. Сказки. Истории . Режим доступа: http://www.shvedirina.ru/kak-lopari-khitrostyu-ot-vragov-izbavilis (дата обращения 12.09.2016).
- Юмъекорр . Режим доступа: http://www.1543.su/khibiny/pass/2/info.htm (дата обращения 12.09.2016).
- Перевал Юмъекорр (Ущелье Мертвых) . Режим доступа: http://wikimapia.org/7844912/ru (дата обращения 12.09.2016).
- Безумные похождения москвичей в Хибинах . Режим доступа: http://factum.diary.ru/p127315556.htm (дата обращения 12.09.2016).
- Анисимов М.И. Снег и снежные обвалы/Акад. наук СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 99 с.
- Горышин Г.А. Лавина//Хибины: Повести, рассказы, очерки. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 160-198.
- Зюзин Ю.Л. Хибинская лавиниада. Вологда: ООО ПФ «Полиграф-Книга», 2009. 332 с.
- Криничная Н.А. Предания Русского Севера. Л.: Наука, 1991. 328 с.
- Левинтон Г.А. Предания и мифы . Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/levinton4.htm (дата обращения 12.09.2016).
- Лосев К.С. По следам лавин. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 136 с.
- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. М.: Олма Медиа Групп, 2007. 784 с.
- Народный эпос русских лопарей. Материалы/Собр. В.Ю. Визе//Известия Архангельского общества изучения Русского Севера (Журнал жизни Северного Края). 1917. № 1. С. 15-24.
- Неклюдов С.Ю. Заметки об «исторической памяти» в фольклоре//АБ-60: Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб: Изд-во Европейского университета в С.-Петербурге, 2007. С. 77-86.
- Неклюдов С.Ю. О мифологических моделях в устной традиции//Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве: Сб. статей/Сост. А. Архипова. М.: РГГУ, 2013. С. 7-15.
- Неклюдов С.Ю. Традиции устной и книжной культуры . Режим доступа: http://www.mthenia.ru/folklore/neckludov6.htm (дата обращения 12.09.2016).
- Пация Е.Я., Разумова И.А. Genius loci (А.Е. Ферсман)//Северяне: Проблемы социокультурной адаптации жителей Кольского полуострова. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2006. С. 60-69.
- Смирнов В.М. Снежный человек из Хибин: . Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 147 с.
- Смирнов Ю.И. Самопогребение чуди//Народные культуры Русского Севера: Материалы российско-финского симпозиума (3-4 июня 2001 года)/Отв. ред. Н.В. Дранникова. Архангельск: Поморский государственный университет, 2002. С. 58-64.
- Чудь в устной традиции Архангельского Севера/Сост., подгот. текстов, коммент., указатель, словарь Н.В. Дранниковой; Под ред. Н.В. Дранниковой. Архангельск: Поморский университет, 2008. 148 с.
- Drannikova N., Larsen R. "Tsjudefolket" i norsk og russisk folklore//Haloygminne. Harstad, Halogaland historielag. 2006. № 2. S. 109-123.