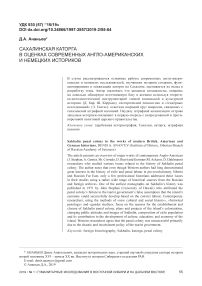Сахалинская каторга в оценках современных англо-американских и немецких историков
Автор: Ананьев Денис Анатольевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные работы современных англо-американских и немецких исследователей, изучавших историю создания, функционирования и ликвидации каторги на Сахалине, оценивается их вклад в разработку темы. Автор заключает, что западные специалисты, опираясь на довольно обширную источниковую базу и активно используя теоретико-методологический инструментарий «новой социальной и культурной истории» (Д. Бир, Ш. Коррадо), «исторической пенологии» и «гендерных исследований» (Э. Гентес), осветили широкий круг вопросов, связанных с сахалинской штрафной колонией. Неудачу штрафной колонизации острова западные историки связывают в первую очередь с непродуманной и противоречивой политикой царского правительства.
Зарубежная историография, сахалин, каторга, штрафная колония
Короткий адрес: https://sciup.org/170175899
IDR: 170175899 | УДК: 930 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/55-64
Текст научной статьи Сахалинская каторга в оценках современных англо-американских и немецких историков
Сто пятьдесят лет назад, 18 апреля 1869 г., Александр II утвердил своим указом «Положение Комитета об устройстве каторжных работ», официально положив начало созданию всероссийской каторги на Сахалине [1; 2]. История каторги и штрафной колонизации острова, продолжавшейся до 1906 г., освещалась не только в отечественной, но и в зарубежной историографии. В данной статье содержится обзор основных работ современных англо-американских и немецких исследователей, изучавших различные вопросы истории сахалинской каторги, и оценивается их вклад в разработку данной темы.
В ХХ в., несмотря на повышенное внимание зарубежных авторов к сибирской каторге и ссылке «позднеимперского» периода, лишь немногие профессиональные историки посвятили данной теме специальные исследования. Одним из первых к изучению истории штрафной колонии на Сахалине обратился Дж. Стефан, сотрудник Гавайского университета, известный специалист по истории российского Дальнего Востока. По признанию Дж. Стефана, интерес к истории острова, игравшего роль «пограничной зоны» между Китаем, Россией и Японией, пробудился у него в первой половине 1960-х гг. Исследователь работал в библиотеках и архивах СССР, США, Великобритании, изучал труды дореволюционных и советских ученых, широко использовал источники, опубликованные на китайском, немецком, французском, польском, английском языках. Итогом многолетней исследовательской работы явилась публикация в 1971 г. монографии, посвященной истории Сахалина [18].
В разделе, посвященном штрафной колонизации острова, автор отмечает, что поначалу русские связывали с освоением Сахалина большие надежды. Н.В. Буссе, М.И. Венюков, Я.Н. Бутковский писали о его выгодном географическом положении, перспективах превращения Сахалина в сельскохозяйственный «оазис», населенный вставшими на путь исправления заключенными [18, p. 67]. Дж. Стефан напоминает читателям, что впервые заключенных привлекли к разработке открытых угольных пластов в районе Дуэ в 1859–1861 гг. Еще несколько человек были высланы на остров в качестве сельскохозяйственных колонистов в 1862 г. В представлении историка, до конца 1860-х гг. ссылка на Сахалин осуществлялась хаотически, без какого-либо плана. Главной задачей было удовлетворение потребностей угольных рудников в рабочей силе и увеличение численности русского населения, чтобы, по определению Дж. Стефана, «держать в страхе и повиновении проживавших на острове японцев». Историк использует статистические данные из публикаций Дж. Маккарти, С. Патка-нова, Ю.А. Жукова, согласно которым после 1868 г. заселение Сахалина продвигалось более быстрыми темпами: если в 1873 г. численность русского населения на острове не превышала 3 тыс. чел., то к 1897 г. она достигла 28 тыс., а к 1904 г. – 35 тыс. чел.
В 1870 г. правительство, рассматривавшее возможность превращения Сахалина в штрафную колонию, направило на остров комиссию, один из руководителей которой, агроном М.С. Мицуль, назвал местные условия «идеальными» для развития сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Закоренелые преступники могли быть перевезены с континента на остров, возможность побегов с которого исключалась. Тем самым достигалась двоякая цель: ликвидировались поселения ссыльных в Сибири, что должно было улучшить социальный климат на континенте, а также решались задачи обороны и хозяйственного развития пограничной территории, слишком близко расположенной к Японии, чтобы оставлять ее незаселенной. Вторая комиссия, направленная на Сахалин в 1880 г., подтвердила эти рекомендации.
Историк рассматривает изменения в системе управления Сахалина: с 1881 г. местная администрация подчинялась одновременно военному губернатору Приморской области (с центром в Хабаровке) и Главному тюремному управлению МВД. В 1884 г. Сахалин приобрел своего собственного начальника, чья резиденция находилась в Александровске. Он сосредоточил в своих руках всю полноту административно-полицейской, военной и гражданской власти. В том же году территория острова была разделена на три административных района: Александровский, Тымовский и Корсаковский.
По заключению Дж. Стефана, упорядочение системы управления усилило приток ссыльных. После 1884 г. на остров ежегодно направлялось по тысяче человек, на переполненных судах, которые в течение двух месяцев проделывали путь из Одессы через Суэцкий канал, Индийский океан и Восточно-Китайское море. В Дуэ и Корсакове строились новые тюрьмы. Количество ссыльнопоселенцев на Сахалине выросло с 1–2 тыс. в 1875 г. до более чем 20 тыс. в 1904 г.
Опираясь на сведения из работ советских исследователей (М.В. Теплинского, И.А. Сенченко, А.Н. Рыжкова), Дж. Стефан сообщает, что в период с середины 1880-х гг. до 1906 г. на острове находилось около 50 политических заключенных, в том числе члены польской партии «Пролетариат» (Эдмунд Плосский и др.), Л.А. Волкенштейн, М.Н. Тригони, Б.И. Еллин-ский и др. «Политические» вели среди других заключенных разъяснительную работу; некоторые из них осуществляли эту деятельность и за пределами штрафной колонии, как, например, В.П. Бражников, распространявший брошюры среди гиляков. Дж. Стефан упоминает также и о секретной организации «Коммуна политкаторжан», созданной в Александровской тюрьме, но результаты ее деятельности оценивает как незначительные [18, p. 66–72].
Американский историк характеризует условия жизни различных категорий ссыльного населения; пишет о тяжелой участи женщин (как осужденных, так и тех, кто прибывал на остров добровольно, вслед за ссыльными членами семей); о злоупотреблениях администрации. По словам Дж. Стефана, «полукрими-нальные», получавшие небольшое жалованье, изнемогавшие от скуки надзиратели «неизбежно скатывались к садизму, который сдерживался одним лишь безразличием». Автор уверен, что А.П. Чехов уловил самую суть проблемы, когда заметил, что обращение с заключенными менялось в зависимости от степени их приближенности к высшему начальству. Наиболее лестную оценку историка заслужил начальник Сахалина, генерал В.О. Кононович, о котором в свое время высоко отзывались современники, в том числе А.П. Чехов и Дж. Кеннан. Но, как полагает Дж. Стефан, при всех своих замечательных личных качествах В.О. Кононович не мог изменить человеческую природу и зло, укоренившееся в самой системе наказаний.
В целом, три десятилетия (с 1875 по 1905 гг.), в течение которых Сахалин безраздельно принадлежал царской России, Дж. Стефан называет «мрачным периодом» в его истории, в течение которого надежды сменились разочарованием, во многом из-за «фатально ошибочного расчета на то, что развитие экономики острова можно обеспечить трудом заключенных» [18, p. 67].
В новейшей западной историографии проблемами «исторической пенологии» на материале дореволюционной Сибири и Дальнего Востока занимается американский историк Эндрю Гентес. Вопросам истории сахалинской ка- торги он посвятил серию статей [11; 12; 13; 15; 16], а также специальный раздел диссертации [14], которую в 2001 г. защитил в Университете Брауна (США). В своих исследованиях Э. Ген-тес опирается на обширный документальный материал из фондов российских центральных (ГАРФ, ЦГАЛИ) и местных (ГАИО, ГАПК, РГИА ДВ) архивов, публикации отечественных и зарубежных специалистов.
В центре внимания американского историка – система управления сибирской ссылкой и состав ссыльного населения. Для Э. Гентеса ссылка – универсальный феномен, существовавший во все времена и эпохи. Особенность уголовно-исполнительной системы в Российской империи, в отличие от, например, Британской, он усматривает в том, что преступники и различные «нежелательные элементы» ссылались в пределах страны, а не высылались в заморские колонии. Историк подчеркивает, что система ссылки возникла и развивалась в России постольку, поскольку это было необходимо государству. Каторжные работы как вид наказания, возникший в петровскую эпоху, также отражал утилитарное отношение царя-реформатора к подданным, являвшимся инструментом в руках государства. После 1725 г. система исполнения наказаний пережила, по словам американского исследователя, период «хаоти-зации», сопровождавшийся, возможно, самыми высокими за всю историю показателями смертности среди осужденных.
На рубеже ХVIII–ХIХ вв. возникла идея «реабилитации» заключенных, что нашло отражение в учреждении «исправительных домов» или тюрем современного образца. Благодаря деятельности М.М. Сперанского процесс «систематизации» и упорядочения пенитенциарной системы возобновился, однако вновь был прерван после 1863 г., когда в Сибирь сослали тысячи поляков, что привело к коллапсу всей системы наказаний. В 1868 г. генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков писал главе МВД о невозможности задействовать на каторжных работах всех «ссыльнорабочих» и просил перевести часть из них (по крайней мере, поляков) в Алтайский горный округ. Из-за тяжелых условий на Нерчинской и Карийской каторге возникали беспорядки, в основном с участием политических заключенных, и местные власти опасались, что это приведет к еще большим волнениям. В итоге Александр II признал положение дел в данной сфере неудовлетворительным.
Причиной официально признанного «коллапса каторги» Э. Гентес называет нехватку средств, административный хаос, неуважение к существующим законам и «институционализированную жестокость». В 1868 г. по указу царя создается Комитет об устройстве каторжных работ, участие в котором принимали представители министерств юстиции, внутренних дел и финансов. В 1869 г. одним из результатов его деятельности явилась отправка на Сахалин в порядке эксперимента 800 заключенных. Эксперимент закончился неудачей, что не помешало впоследствии членам Комитета продолжать считать Сахалин идеальным местом для создания штрафной колонии. Власти также проигнорировали научно обоснованные данные о непригодности климата и почвы Сахалина для развития производительного сельского хозяйства, которое предполагалось сделать основой экономики острова [12].
В дальнейшем глава МВД А.Е. Тимашев уверял, что Сахалин был выбран только после тщательного изучения записки В.И. Власова, члена Главного управления Восточной Сибири и одновременно руководителя Департамента полиции исполнительной1. Американский историк подвергает сомнению утверждения А.Е. Тимашева. По заключению Э. Гентеса, решение было вынужденным, а главным мотивом послужило стремление как можно скорее избавиться от ссыльных и проблем, создаваемых ими на материке. Более других в таком решении был заинтересован именно глава МВД, которого поддержали генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков и лично император.
По официальной версии, изложенной А.Е. Тимашевым, окончательное решение было принято в конце 1872 г., а фактически – еще в 1871 г. После нескольких лет бездействия в марте 1872 г. в Санкт-Петербурге была образована Комиссия по организации каторжных работ, выработавшая общую политику и определившая систему управления новой штрафной колонией. Кроме того, комиссия должна была передать угольные копи Дуэ акционерной ком-
-
1 В.И. Власов опирался на сведения, предоставленные агрономом С.В. Мицулем не позднее 1871 г. В записке, поданной осенью того же года генерал-губернатору Восточной Сибири Н.П. Синельникову и главе МВД А.Е. Тимашеву, В.И. Власов писал о природных условиях на Сахалине, пригодных для штрафной колонии (с населением не менее 25–30 тыс. чел.) и для развития не только сельского хозяйства, но также лесной отрасли и рыболовства (см.: [5, c. 12–13]).
пании «Сахалин», учредителем которой был надворный советник Я.Н. Бутковский.
Поначалу некоторые члены комиссии поставили под сомнение пригодность Сахалина для организации каторжных работ, но генерал-лейтенант Л.А. Соколовский напомнил присутствовавшим, что данный вопрос уже был решен в период между 1869 и 1871 гг. Осенью 1872 г. Комиссия приняла решения о том, что колония будет постоянной, а не временной; о создании административного органа, отвечающего за развитие сельского хозяйства; а также о том, что суд в отношении ссыльного населения на острове должен вершить командующий вооруженными силами [12, p. 23].
В полной мере каторга начала функционировать с середины 1880-х гг., превратившись, по словам историка, «в рукотворный ад», о мрачных реалиях которого писали как в России, так и за рубежом (Ч. Хоуз, У. Чизхолм). Впрочем, по признанию Э. Гентеса, некоторые авторы (Т. Нокс, Дж. Ральф, Дж. Бьюэл, Г. Де Виндт и др.) выступали в поддержку российских властей и утверждали, что сосланные на Сахалин преступники вполне заслужили свою участь. Историк допускает, что за такого рода публикациями, в действительности, могло стоять царское правительство, надеявшееся тем самым опровергнуть заявления американского журналиста Дж. Кеннана, имевшие широкий резонанс во всем мире.
-
Э . Гентес также указывает на двойственность отношения официальных российских властей к ссыльным, которые рассматривались и как рабочая сила (для выполнения каторжных работ), и как колонисты (для аграрного освоения огромных пространств Азиатской России), что, по определению историка, отражало растущий разрыв между «анахроничным государством и медленно модернизировавшимся обществом».
Противоречивость правительственной политики проявилась, в частности, в различиях позиций В.А. Соллогуба и К.К. Грота – руководителей комиссии по тюремному преобразованию, существовавшей в 1870-х гг. В 1872 г. В.А. Соллогуб по итогам обследования пенитенциарной системы России рекомендовал построить каторжные тюрьмы в Европейской России и не ссылать людей за Урал. Спустя несколько лет К.К. Грот, напротив, рекомендовал, чтобы каторга «развивалась традиционным образом», и именно его позиция определила пенитенциарную политику правительства до конца существования царского режима. В итоге, самодержавие, использовавшее ссылку в масштабах больших, чем это было действительно необходимо, по словам Э. Гентеса, «вырыло себе могилу».
В ряде работ Э. Гентес анализирует положение женщин на сахалинской каторге [14; 15]. Так, отдельный параграф диссертации посвящен подробному рассказу о том, как в 1878 г. по распоряжению МВД женщины, содержавшиеся в Александровской центральной каторжной тюрьме в Восточной Сибири, были переведены в Приамурье и на Сахалин. Власти объясняли данную меру стремлением устранить гендерный дисбаланс и способствовать созданию семей, без чего полноценная колонизация острова невозможна.
Американский исследователь предлагает собственное объяснение того, почему правительство, изначально стремившееся к проведению либеральных реформ, создало сахалинскую каторгу – «полицейский институт, предвещавший эксцессы позднейших времен». По его мнению, намерения верховной власти, лежавшие в основе реформ, неверно интерпретируются историками, априори полагающими, что реформа должна была привести к заключению своего рода либерального договора между государством и обществом, характерного для западных демократий. Соответственно, в научной литературе реформаторской называют ту политику, которая соответствовала западным либеральным представлениям о системе управления, и игнорируют или считают реакционным те меры, которые Э. Гентес называет «одновременными и компенсаторными» [11].
По заключению историка, влияние «лега-листов» и либеральных реформаторов в правительстве было довольно слабым. Верховная власть всегда имела только одну цель – укрепление самодержавия – и в большей степени была привержена парадигме «регламентированного государства» (Reglamentsstaat), нежели «правового» (Rechtsstaat), т. е. закон воспринимался, скорее, как бюрократический инструмент, а не как «философская идиллия». Благодаря идее бюрократизации сторонники «полицейского государства» нашли точку соприкосновения со сторонниками «регламентированного государства». Итогом объединения их усилий стал бюрократический полицейский аппарат, который отменял, а не поддерживал юридически закрепленные права. Пример сахалинской штрафной колонии является тому подтверждением. Каторга унижала людей, заставляла ненавидеть собственное государство, способствовала со- хранению того самого рабства, отмена которого декларировалась в 1861 г.
В 2010 г. американская исследовательница Шерил Коррадо, выпускница Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, защитила диссертацию, в которой предприняла попытку определить место Сахалина в «русском имперском воображении» [9]. Исследование охватывает хронологический период с 1849 по 1906 гг. Для Ш. Коррадо история штрафной колонизации Сахалина интересна в той мере, в какой она отражала амбиции и двойственность российской имперской политики предреволюционных десятилетий. Свою главную задачу исследовательница обозначила как определение той роли, которую играл Сахалин в «истории имперской экспансии» и «институционализации исправительных работ».
Ш. Коррадо работала в архивах России, США, Японии; наряду с документальными источниками (материалами из фондов Совета Министров Российской империи, Главного тюремного управления, канцелярий Приамурского генерал-губернатора и военного губернатора Сахалина и др.), автор широко использовала нарративы тех, кто побывал на Сахалине в изучаемый период (записки путешественников и журналистов, воспоминания ссыльных и т. д.), а также материалы периодической печати.
Следуя парадигме «новой культурной истории», автор помещает историю Сахалина в более широкий исторический контекст «русского империализма» и «модерна». Давая оценку современному состоянию западного россиеведения, Ш. Коррадо полагает, что для него характерен отказ от тезиса об имманентно присущей России культурной и экономической отсталости, внимание к проблемам трансформации подданных российского самодержавия в граждан современного государства, «интернализации» власти как компонента «модерна».
Западные историки указывают на осознание российской властью в рассматриваемый период ценности знаний как инструмента контроля над процессами и явлениями, происходящими в самых разных сферах. В ответ на проявления кризиса и меняющиеся отношения между государством и обществом, характерные для эпохи «русского модерна», самодержавие пыталось усилить контроль над территорией и социумом, что ярко проявилось в истории колонизации Сахалина.
В новейших «постколониальных» исследованиях подчеркивается, что политика и «иден- тичность» многонациональной Российской империи в значительной мере определялись взаимодействием колонизаторов и колонизуемых, анализируется дискурсивная роль восточных окраин как колониального «Другого» для России. Еще один способ постижения «русскости» для западных исследователей заключается в изучении имперской пенитенциарной системы (работы Э. Гентеса, Б. Адамса, Дж. Дэли, Э. Шредер, Ю. Ульянниковой). Ш. Коррадо резюмирует, что в разное время Сахалин воспринимался и как безлюдная российская территория, требующая заселения, и как населенная часть Азии, и как олицетворение «Другого», что повлияло и на создание каторги, и на ее последующее упразднение.
Ориентируясь на подходы, предложенные в работах М. Бассина по истории освоения Приамурья, а также статьях и монографии Ю. Слезкина о взаимоотношениях русских и коренных народов Крайнего Севера, Ш. Коррадо на примере Сахалина изучает эволюцию представлений русских о собственной идентичности. Анализируя различные представления русских о Сахалине (от идеи «органичной части России» до метафоры «края земли»), автор исследует меняющиеся значения самого понятия «русскость» в эпоху, когда государство пыталось превратить отсталую империю в современную колониальную державу. В итоге, носители самых разных культур, языков и мировоззрений, оказавшиеся на острове, уже не обязательно должны были говорить по-русски и «молиться русскому Богу», но, скорее, эффективно трудиться и приносить прибыль государству.
Штрафная колония на Сахалине сама по себе должна была быть чем-то большим, чем просто местом для отбывания каторжных работ; она должна была способствовать перевоспитанию, осуществлению социального контроля над осужденными и их переплавке в законопослушных граждан. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что развивать на острове сельское хозяйство крайне сложно, а сахалинский уголь так и не принес ожидаемой прибыли, поскольку труд заключенных оказался непроизводительным. Вместо того, чтобы перевоспитывать заключенных, условия жизни на острове и режим каторжных работ превращали даже самых покладистых арестантов в угрозу для общества.
Ключевым элементом «модерна», который, по мнению Ш. Коррадо, можно увидеть на примере истории Сахалина, являются попытки усмирения природы для удовлетворения по- требностей современного государства. Такие попытки часто приводили к катастрофам, как экологическим, так и человеческим, поскольку централизованное государство не могло в полной мере уяснить и контролировать природные и культурные особенности отдаленных окраин. Ш. Коррадо подчеркивает, что колонизация русскими Сахалина в конце ХIХ в. демонстрирует ту же самую «модерновую» идеологию, которая потерпела крах.
Как заключает американская исследовательница, Сахалин так и не принес каких-либо выгод империи, а японская оккупация привела к уступке южной части острова и полной ликвидации сахалинской каторги в 1906 г. В глазах российской и западной общественности неудачная попытка колонизации Сахалина символизировала отсталость и жестокость Российской империи, хаотичность и неопределенность правительственной политики «переходного периода».
История сахалинской каторги освещается и в современной немецкой историографии. Так, в 2007 г. в издательстве Института Восточной Европы в Мюнхене увидела свет небольшая работа выпускника Университета Цюриха Маркуса Акерета, посвященная политкаторжанам, отбывавшим наказание в Восточной Сибири и на Сахалине [7]. В качестве источников автор использовал в основном материалы из журнала «Каторга и ссылка» (1921–1935 гг.), а также путевые заметки и записки русских и иностранных наблюдателей.
М. Акерет призывает осторожнее оценивать работы современников (Ч. Хауза, Г. Де Виндта, В.М. Дорошевича, А.П. Чехова), писавших преимущественно об уголовниках, чья жизнь на Сахалине была, безусловно, очень тяжелой. По замечанию М. Акерета, судьбы политических заключенных могли сложиться на острове совершенно иначе.
Официально политкаторжан начали ссылать на Сахалин с 1886 г., и в течение первых полутора десятилетий режим их содержания (совместно с уголовными) отличался крайней суровостью. Стремясь не допустить ведения агитационной работы, власти с самого начала распространяли на «политических» те же правила, что и на уголовников, в том числе применяли телесные наказания. Вместе с тем, администрация каторги довольно быстро решила задействовать образованных «политических» в управленческих структурах. Автор не согласен с советским исследователем И.А. Сенченко, по- лагавшим, что делалось это, в первую очередь, для усиления контроля над политкаторжанами. М. Акерет объясняет все нехваткой грамотного и квалифицированного персонала. В итоге, как свидетельствуют источники, некоторые каторжане жили не хуже, чем ссыльнопоселенцы, а границы между каторгой и ссылкой постепенно размывались.
По наблюдениям М. Акерета, в любом случае все категории осужденных находились полностью во власти чиновников, решавших, кому и сколько оставаться в тюремных застенках. В отношениях политических с администрацией имели место и произвол, и жестокость, но нередко – симпатия и доверие. Так, один из мемуаристов, А. Ермаков, прибывший на остров в начале ХХ в., не изображал каторжные порядки как совершенно бесчеловечные, поскольку к этому времени они существенно смягчились.
По мнению М. Акерета, политические ссыльные не были достаточно сплоченными, большое значение для них имели социальные различия. Приведенные в советской историографии сведения о революционной работе, которую удавалось вести на Сахалине, лишь свидетельствуют о слабости контроля со стороны властей. Попытки местного начальства заставить ссыльнопоселенцев заниматься сельским хозяйством М. Акерет расценивает как малоуспешные; в то же время сообщает о плодотворной научной деятельности Б.О. Пилсудского и Л.Я. Штернберга.
В рецензии на работу М. Акерета М. Ка-миссек справедливо задается вопросом о том, насколько вообще возможно плодотворное изучение «мира каторги» в позднеимперский период, если автор анализирует лишь источники, созданные немногочисленной группой политических заключенных (на рубеже веков их доля среди приговоренных к каторжным работам составляла 1,6%), причем каторжные работы в ту пору играли явно второстепенную роль [17].
По мнению рецензента, главной заслугой М. Акерета следует признать обозначение ряда важных проблем, заслуживающих внимания будущих исследователей темы: «контекстуали-зация восприятия места ссылки заключенными под влиянием групподинамических процессов и социально-психологических факторов»; различение подходов к изучению «жизненного мира» осужденных за уголовные и политические преступления; а также проблема сопоставления мемуарной литературы с архивными источниками, позволяющими получить представле- ние о тех аспектах тюремной повседневности (сексуальность, смертность, конфликты между группами заключенных), которые отсутствуют в мемуаристике.
На работу М. Акерета в своем исследовании ссылается известный немецкий историк, профессор Боннского университета Д. Дальман – автор обобщающего труда по истории Сибири, специальный раздел которого посвящен каторге и ссылке [10]. Критически оценивая советскую историографию, Д. Дальман опирался преимущественно на работы современных зарубежных специалистов – Дж. Стефана, Э. Качинской, Э. Гентеса, А. Вуда и др. Наряду с Б. Адамсом и Дж. Дэли автор доказывает, что в царской России условия жизни для ссыльных и каторжан были не хуже, а порой и лучше, чем в других странах [10, p. 165]. По наблюдениям немецкого историка, большинство осужденных ссылались на Сахалин на поселение, а из тех, кто присылался на каторжные работы, в заточении пребывали менее половины.
По заключению Д. Дальмана, печальную славу сибирской ссылке создали, прежде всего, представители оппозиционного лагеря – либералы и социалисты. Во многом их стараниями повсеместно циркулировали сообщения, в которых Сибирь по аналогии с американским Диким Западом представала как «Дикий Восток России», как место, где царило беззаконие. С точки зрения Д. Дальмана, исключительно объективно и трезво жизнь на острове описал А.П. Чехов, посетивший Сахалин летом 1890 г. и показавший «жалкое и скучное» существование его обитателей (как представителей администрации, так и осужденных). Писатель также поведал о произволе и беззаконии местных властей, однако, по замечанию Д. Дальмана, в чеховском описании отсутствует моралистический тон и «поднятый кверху палец», характерный для сочинений Дж. Кеннана.
В 2016 г. сотрудник Университета Роял Холлоуэй (Лондон) Дэниэл Бир опубликовал монографию по истории сибирской каторги и ссылки ХIХ – начала ХХ вв. Автор присоединяется к выводам тех западных исследователей (Ю. Слезкин, Г. Даймент, В. Кивельсон), кто полагает, что система ссылки во многом обусловила амбивалентность образа Сибири в восприятии современников. Сибирь одновременно считалась и «средоточием тьмы» для России, и краем новых возможностей и процветания. По мнению многих, мрачное настоящее восточных окраин империи должно было уступить доро- гу яркому будущему, и ссыльным предстояло сыграть ключевую роль в этой трансформации [8, p. 3–4]. Одновременно в зарубежных периодических изданиях печатались карикатуры на тему «цивилизаторской миссии» России в Азии.
Британский историк пишет не только о сосланных в Сибирь известных деятелях революционного движения, но и о тысячах обычных уголовников, чьи судьбы запечатлены в полицейских отчетах, апелляциях, судебных протоколах и официальной ведомственной переписке. Делопроизводственные материалы Д. Бир изучал в архивах Москвы (ГАРФ, РГВИА), Санкт-Петербурга (РГИА, ААН СПб, ЦГИА СПб), Тобольска (ГА в г. Тобольске), Иркутска (ГАИО). Наряду с архивными документами исследователь широко привлекал опубликованные источники личного происхождения. Д. Бир демонстрирует хорошее знание литературы по истории сибирской каторги и ссылки, активно используя работы как западных (Э. Гентес, Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе, Дж. Дэли, Э. Шредер и др.), так и отечественных авторов (А.А. Иванов, А.Д. Марголис, П.Л. Казарян, В.А. Дьяков, К.К. Кораблин и др.)
Специальную главу британский историк посвятил сахалинской каторге. Вслед за Э. Генте-сом он полагает, что ее истоки лежали в медленном крушении системы каторжного труда на материке [8, p. 248]. На Сахалине штрафная колония оформлялась по мере роста числа арестантов, ежегодно прибывавших на остров. В 1890 г. на острове находилось около 6 тыс. каторжных и 4 тыс. ссыльных, а к 1897 г. общая численность ссыльного населения достигла 22 тыс. [8, p. 251; 4].
Как и Ш. Коррадо, Д. Бир полагает, что для правительства Сахалин был tabula rasa, поскольку давал возможность применить богатый опыт управления крупными штрафными колониями в Сибири и показать, что наказание может привести к реабилитации ссыльных и их превращению в мелких сельскохозяйственных колонистов. Но и здесь властей постигла трагическая неудача.
После публикации книги А.П. Чехова, вызвавшей большой общественный отклик, был создан секретный комитет для обсуждения будущего сахалинской колонии. Результаты расследования, проведенного комитетом, были представлены царю и министру юстиции Н.В. Муравьеву; одновременно в прессу попали данные из отчета врача Л.В. Поддубского [3; 8].
Как пишет Д. Бир, окончательное решение вопроса по инерции затягивалось. В 1898 г.
посетивший Сахалин начальник Главного тюремного управления А.П. Саломон убеждал местные власти, что проект, на который с конца 1870-х гг. было потрачено более 20 млн. руб., не мог быть просто закрыт [8, p. 267]. Спустя несколько лет мрачный правительственный эксперимент на Сахалине был все же прекращен, но не из-за перемен в умонастроениях правительства, а благодаря военному превосходству Японии. После победы в Цусимском сражении в мае 1905 г. японские войска оккупировали южную часть Сахалина, преодолев слабое сопротивление регулярных войск и отрядов дружинников, сформированных из бывших каторжников. Последним русские власти обещали амнистию, если те будут сражаться против захватчиков.
Одновременно происходила хаотичная эвакуация заключенных на континент. Более 7 тыс. чел. (в том числе женщин и детей) бесцеремонно бросили на берегу залива Де-Кастри (ныне – залив Чихачева). Оттуда им пришлось преодолеть путь в 60 км по почти непроходимой тайге до ближайшего поселения в Мариинске. В течение следующего года их содержали в бараках, а затем развезли по территории Забайкальской области. Окончательно штрафная колония была ликвидирована указом от 1 июля 1906 г. [6; 8]. В целом, по заключению Д. Бира, в глазах общественности Сахалин превратился в «главный позор» самодержавия, в гротескную карикатуру на планы правительства по совмещению аграрной и штрафной колонизации.
Таким образом, для современной англо-американской и немецкой историографии характерен возрастающий интерес к вопросам истории сахалинской каторги. Работы западных исследователей свидетельствуют о применении ими к изучению исторического материала штрафной колонизации Сахалина теоретического и методологического инструментария «новой социальной и культурной истории» (Д. Бир, Ш. Коррадо), «исторической пенологии» и «гендерной истории» (Э. Гентес).
Опираясь на довольно широкий круг исторических источников (документальные материалы из российских и зарубежных архивов; эго-документы и др.), а также труды отечественных исследователей, западные специалисты выясняют причины возникновения и ликвидации сахалинской каторги, изучают планы и проекты, связанные с освоением острова, оценивают, как менялось общественное восприятие штрафной колонии, анализируют состав ссыльнокаторжного населения. Историки при- знают определенный вклад ссыльных в экономическое и культурное развитие Сахалина, в то же время указывая на противоречивость и двойственность правительственной политики, нацеленной одновременно на изоляцию и наказание преступников и хозяйственное освоение острова. По мнению западных исследователей, хаотичные и малоэффективные действия властей во многом предопределили неудачу штрафной колонизации Сахалина.
Список литературы Сахалинская каторга в оценках современных англо-американских и немецких историков
- Галлямова Л.И. Освоение Сахалина в оценке российских исследователей второй половины XIX - начала XX вв. // Вестник ДВО РАН. 2006. № 3. С. 156-162.
- Кораблин К.К. Каторга на Сахалине как опыт принудительной колонизации // Вестник ДВО РАН. 2005. № 2. С. 70-83.
- Латышев В.М. Врач Л.В. Поддубский и его записки о сахалинской каторге (конец XIX в.) // Вестник Сахалинского областного краеведческого музея. 2004. № 11. С. 141-148.
- Плотников А.А. Этапирование ссыльнокаторжных на остров Сахалин во второй половине XIX в. // Сибирская ссылка: сборник научных статей. Вып. 6. Иркутск: Оттиск, 2011. С.125-136.
- Русские и иностранные рукописи Научной библиотеки Иркутского государственного университета. Ч. II: Рукописи на иностранных языках. Материалы документального характера. Рукописи поздней традиции / Отв. ред. В.Н. Алексеев. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2001.